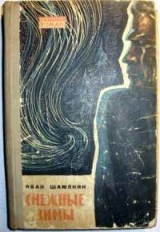
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
«Нет, это не совпадение, дорогой Леонид Мартынович. Я был знаком с директором школы. Тот директор никогда ничего не написал бы. Но я был там в последний раз семь лет назад. За это время мог смениться не один директор. Если скажу, ты. наверное, поверишь, потому что для тебя главное – получить подтверждение того, что ты будто бы отрицаешь. Правда, тебе страшно хочется еще и другого: чтоб я признался, рассказал о своей интимной жизни. Ты прямо руки потираешь от вожделения. И пронизываешь меня взглядом, как рентгеновскими лучами. Но ничего ты не увидишь! И ничего я тебе не скажу. Не надейся. Не потому, что это глубокая тайна наших с ней сердец. А потому, что это для меня свято. И больно. Ты ждешь, что я попрошу дать прочесть письмо? Ты приготовил его в надежде, что я начну оспаривать или оправдываться. Нет, письмо меня не интересует, потому что я знаю, что в нем. Там правда факта. Можете ему верить, факту. Но не ждите от меня исповеди!»
Антонюк встал, открыто посмотрел Леониду Мартыновичу в лицо, усмехнулся.
– Письмо это можете хоть в газете публиковать. Есть такая возрастная граница, когда все, что за ней, уже не трогает, оно уже не твое, а того, кто остался там, за этой границей… Тот Антонюк, которого ты хотел испугать, – там. Да и он был не из пугливых, как ты знаешь…
Заведующий сектором, такой самоуверенный, важный в начале разговора, растерялся, как школьник. Покраснел. Вскочил с кресла.
– Иван Васильевич! Иван Васильевич! Вы меня не так поняли… Да разве я хотел… Я ведь просто… Если что – простите. Но прошу вас, подумайте о нашем предложении. Не торопитесь.
Кружились снежники. Печальные старые липы в сквере одевались белым цветом и потому, казалось, молодели. Вот только вороны, старые, черные, никогда не молодеют, зловеще каркают. Вороны навевают невеселые мысли. Но можно посидеть на запорошенной снегом скамейке, поглядеть на молодежь, на долговязых парней, что всегда, в дождь и снег, ходят без шапок, на девушек в пальто и ярко-пестрых шапочках или косынках, говорливых, возбужденных, как Лада; подумать о дочери, о сыне, который, верно, дежурит где-нибудь у экранов локатора, охраняет небо, и успокоиться. Мысли о детях, чужих и своих, нельзя сказать, чтобы всегда успокаивали, но могут вернуть хорошее настроение.
Из служебного входа театра по одному выходят актеры, усталые после репетиции, поднимают воротники, прячутся от снежинок. Старшие – всё знакомые, даже друзья. Антонюк любит их талант. Но сегодня ни с кем встречаться не хочется. Выслушивать жалобы на директора или режиссера. О нет! Сегодня для него это что соль на свежую рану. Лучше подальше куда-нибудь. Если б можно было сейчас очутиться в лесу. В тихой, печальной пуще, где слышно, как шуршат по ветвям снежинки. И нет ворон. В лесу их нет. В зимнем лесу.
Кружат снежинки. Мелькают ярко-красные, голубые, зеленые, желтые шапочки, платочки. Спешите, дети. Хотя, может быть, и не стоит так уж спешить. Но нельзя и отставать, а то выбьешься из общего течения, занесет тебя в тихую заводь и затянет илом. Самое страшное – преждевременная пенсия.
«Кому нужна эта моя амбиция, мои «принципы»? Надо было соглашаться на то, что предлагают. Нет. Теперь подумают, что я испугался. Дорогой Леонид Мартынович, я не стыжусь ни перед партией, ни перед семьей своих слабостей. Я человек. Я жил. И жил во времена дьявольски сложные. Стыжусь только одной слабости… Прости, Надя. Не видеть тебя шесть лет, писать только по праздникам короткие открытки с пожеланием счастья – какого счастья?! – это предательство. А я никогда не предавал. Никого! Нет, не успокаивай меня. Я знаю, что ты скажешь. У меня есть тысяча оправданий. Да, это дань годам, покою, моему, твоему, Ольгиному, Витиному… А так ли уж он нужен, этот покой?»
Не сидится сегодня.
Как, однако, торопятся люди! Куда? На тротуаре уже скользко. Накатаны ледяные дорожки. Молодежь на крутом спуске съезжает. Бегут для разгона, готовы сбить с ног. Им весело. Радует первый снег. Радует молодость. Может быть, даже то, что удалось пораньше вырваться с лекции, из лаборатории, из конторы…
Я хочу радоваться вместе с вами! Не объезжайте меня, не обгоняйте, так вы невзначай можете сбить меня с ног. А я хочу идти с вами плечом к плечу. Я хочу прокатиться и упасть сам, как вон та девушка в красном шарфе. Не ушиблась ли ты, дитя? Ничего. Все заживет и тут же забудется, потому что гляди, как заботливо он подхватил тебя, поднял с земли. Я знаю: если б не люди вокруг, если б не условности, которые так связывают нас, он взял бы тебя на руки и понес в эту белую круговерть…
Как странно плывет, как покачивается в ней, стекая ниже и ниже, черный ручей человеческих фигур! Когда-то я мечтал стать поэтом. Пытался писать стихи, когда учился на рабфаке. У меня не хватает образного мышления. Я всегда мыслил конкретно. Может быть, потому иногда узко. Только теперь я понял, что можно безгранично расширить горизонты своих мыслей и чувств. Это дает новую радость, возвышает и освобождает от многих условностей – тех, что тяжкими путами сковывают сердце. О нет! Я не стал анархистом! Я за дисциплину, но за дисциплину сознательную. Такую, которая никогда не принизит человека, не оскорбит его лучшие порывы, стремления, его гордость и даже слабости, обыкновенные человеческие слабости, без которых, наверное, невозможна жизнь, такая, как она есть, – расцвеченная всеми красками весны, лета, осени и зимы.
Да, даже зимы. Вот такой, когда позлно светает и рано темнеет. Когда в четвертом часу цирк зажигает свою рекламу, самую яркую во всем городе. Снежинки и люди окрашиваются в удивительные цвета в этом неоновом свете. Как в сказке. Как в цирке. Раньше я ходил сюда, чтобы посмеяться. Потом познакомился с актером-комиком, он был глубоко несчастлив. Я не перестал любить цирк, но редко там смеялся, Больше думал. Под музыку, когда смотришь на воздушных гимнастов, что летают под куполом, хорошо думается. Нет, о самых серьезных проблемах жизни лучше всего думается, когда выступают клоуны.
Кто-то сказал: города как люди. Да. Один растет, подымается и обгоняет на тысячу лет старшего брата своего, а другой приходит в упадок, превращается в захудалое местечко, как Заславль или Туров. А реки? Боян пел в «Слове»: «Немизь кровави брезъ не бологомъ бяхуть посъяни, посъяни, костьми рускихъ сыновъ».
Не верится как-то, что она была известна в те давние времена, Немига, от которой теперь ничего не осталось. А Свислочь? Какой же тогда была Свислочь? Неужто и реки как люди: одни мелеют, затягиваются илом и песком, а другие становятся глубже, прорезают новые русла?
Падает снег. Тает на ладонях, на щеках, розовых и бледных. И на черной воде, от которой подымается нездоровый пар. Будто снежинки горячие. Нет, наоборот, – это вода теплая, большой город выплескивает в речку горячие отходы своей кипучей жизнедеятельности. Да, деятельность кипучая, и город большой. Но не оправдывай тех безответственных людей, которые это делают и которых ты несколько месяцев назад, работая в рейдовой группе партийно-государственного контроля, клеймил позором. Они хищники, живущие сегодняшним днем и своими эгоистическими нуждами, хотя и прикрываются высокими словами. Отцы, которые не думают о детях. Обо всех детях – будущем общества, родины и человечества.
Снежинки падают в огонь. Голубой язык пламени взлетает у заснеженного монумента, колышется на ветру, ложится на решетку и, кажется, вот-вот погаснет. Нет, не гаснет. Не может погаснуть. Он вечный, этот огонь над символической могилой. Он должен быть вечным – огонь над могилой моего брата, моих товарищей… Я хотел бы, Павел, чтобы ты лежал здесь и я не раз в год, а каждый день приходил бы сюда н вот так стоял над твоей могилой. Странно, что я никогда не стоял тут один, как сейчас. Только на людях. В почетном карауле этим летом, когда праздновали двадцатилетие освобождения нашего города. Да еще когда открывали памятник. Теперь уже никто не спорит о его художественной ценности, потому что для людей, для всех тех, кто пережил войну, потерял близких, изведал страдания, он стал Великим и Святым Символом. Монумент Славы и Мира. Но я и до сих пор не могу примириться с тем, что памятник построили здесь, в яме, а не на самом высоком месте, где он был бы виден и из Масюковщины и из Уручья, из Тростенца – с братских могил.
Людской поток плывет по тротуарам и в снежной мгле кажется далеким. А тут – точно остров. Тут почти тихо. Как в лесу. Пожалуй, можно было бы услышать шорох снежинок, если б не гудел огонь. Но пускай гудит огонь! Это как шум бора. Далекий шум.
«Отпусти меня, Иван, в отряд Каткова».
«Почему? Паша! Что случилось?
«Не могу я у тебя…»
«Нет, ты объясни, что случилось?»
«Не могу – и все».
«Что за глупости! Детские капризы! Ты – солдат! Никуда я тебя не отпущу».
«Я уйду сам».
«Будешь считаться дезертиром. А ты знаешь, как поступают с дезертирами на войне».
«А мне все равно».
«Гляди, Валентин, спятил хлопец. Перепил, что ли?».
«Неизвестно, кто из нас перепил».
«Как разговариваешь с командиром? Какой пример подаешь? Имей в виду, я не посмотрю, что ты мне брат! Иди проспись. Ты устал после разведки».
«Он любит ее», – это сказал Будыка, когда Павел угрюмо вышел.
«Кого?»
«Надю».
«Надю? Ты что? Серьезно? Почему же ты раньше не сказал?»
«Я думал, знаешь сам».
«Ты за кого меня считаешь? Гад ты! Ведь я – человек. Я могу упасть. Могу оступиться. Ты стоишь рядом со мной, сам попросился ко мне в помощники. И ты обязан был поправить меня, поддержать, подставить плечо. А ты знал и хихикал в кулак… Ждал, когда братья столкнутся лбами? Интриган! Убить тебя мало».
«Не горячись, Иван. Не горячись. Не забывай: тебя здесь оставила партия. И за все, что делаешь, ты несешь ответственность перед партией».
Я не должен был отпускать тебя, Павел. Я смалодушничал. Прости меня, брат. И не обвиняй. Ее не обвиняй, Надю. Конечно, война есть война. И я тебя не оберегал. Ты ходил на самые ответственные операции. И все могло случиться и в моем отряде, у меня на глазах. Говорят – судьба. Я не верю в судьбу. Но я верю в разум. Он и на войне может спасти, если все делать рассудительно, с головой. Но ведь ты же не кинулся просто под пули. Случайная засада. Многое происходило случайно. И вот тебя нет. А ты мог бы жить. Тебе было двадцать один. Ладе и Василию в марте будет по двадцать три. А тебе было всего двадцать один…
– Греемся?
Иван Васильевич обернулся. Милиционер, видно, был уверен, что это юноша – со спины щуплый, небольшого роста. А увидел пожилого человека – немножко смутился.
– А что?
– Нельзя тут… так долго.
– Кто вам сказал? У вас есть такая инструкция?
– Нет… Но… Тут, знаете, некоторые огольцы руки греют…
– У вас погиб кто-нибудь на войне?
– У меня? Отец не вернулся.
– Давайте, сержант, постоим минутку молча.
Милиционер еще больше растерялся. Козырнул.
– Простите. Служба.
Да, пока у нас служба, мы иной раз забываем о самом святом или не можем выбрать времени постоять вот так и подумать. Тогда тоже шел снег. Но не такой ласковый, тихий. Гуляла метель. Выла. Свистела. Лес гудел и трещал. Даже там, в пуще, в самой еловой гущине, на нашей маленькой полянке чуть не сбивало с ног. А что творилось в поле!
Да, ее привезли в ту памятную метель. Нет, кажется, метель началась позднее, когда мы вернулись из рейда. Нет, когда Вася поехал за Буммель, ночь была звездная. Да разве одна она была, такая вьюга? В начале той зимы снег шел чуть не каждый день. К декабрю намело – ни пройти ни проехать. И настроение у меня было собачье. Иногда хотелось завыть, как воют голодные волки, что подходят ночью к лагерю. О, если бы это было только со мной одним – еще полбеды. Уныние овладело многими. Один, кажется, Вася Шуганович, комиссар мой, не поддавался отчаянию.
Теперь партизанские командиры все пишут воспоминания. И создается впечатление, что все было просто с начала до конца. Безусловно, были трудности, нехватки, потери, но, мол, никто из них, великих стратегов, ни на минуту не усомнился в мощи Красной Армии, в героизме народа, в мудрости партии, и эта их вера передавалась каждому партизану. Я грешен.
Я тоже верил в партию и в народ. Но я видел отступление армии. Я слушал радио. В отряде было два приемника. И, на мою беду, Валька Будыка владел немецким языком. Если бы в те дни наши немножко шире сообщали пускай даже самые тяжелые новости! Но Москва передавала бодрую музыку и скупые сводки Совинформбюро о жестоких или местных боях в направлении тех городов, которые давно уже – это мы точно знали – остались в тылу немецкой армии.
А в пуще была завируха. Замело дороги. Трещали морозы. Семьдесят человек ходили в разведку или сидели в землянках, прокуренных, тесных, откуда тепло раскаленной докрасна «железки» могло выдуть ветром за три минуты – только отвори дверь. Семьдесят человек. Немало для того времени. Но вооружены кто чем, с жалким боезапасом. Без опытного командира. Откуда у меня, заведующего райсельхозотделом, мог быть боевой опыт? Хорошо, что в сентябре к нам присоединился инженер-кадровик Будыка с группой саперов.
Вы были мудрыми, нынешние мемуаристы. А я даже не знал тогда, как раздобывать пропитание для семидесяти человек. Проблема эта и в дальнейшем, когда мы приобрели опыт, в любое время могли связаться с партийным центром и многому научились, не теряла своей остроты в нашей партизанской политике, потому что задевала интересы населения. Сын крестьянина, агроном, я думал об этой политике с самого начала. Видел уже – воевать не один год. Не одну зиму сидеть в пуще и думать, где достать хлеб, патроны и железную бочку, из которой можно сделать печь вместо той, что прогорела.
Чтоб воевать долго, упорно с таким безжалостным врагом, надо беречь людей. Надо накормить их и согреть. Теперь я думаю: фашистские стратеги поумнели после того, как получили добрый пинок в самое больное место. Никто из них не догадывался, во что может вырасти небольшой отряд «лесных бандитов», о котором они знали, упоминали в реляциях. Если бы такие блокады, как в сорок третьем, они организовали тогда, зимой сорок первого, нам пришлось бы туго. В те дни я особенно боялся немецкой атаки. Доходил до отчаяния, которого, однако, я не имел права никому показать.
Мы знали: шла великая битва за Москву. От того, как она кончится, чьей победой, очень многое зависит. Хотелось помочь своим в этой борьбе. Мы отлично понимали, какая помощь самая действенная. Эшелоны, которые шли на фронт. Чем меньше их дойдет, тем легче будет нашим. У нас был уже опыт. Но не хватало взрывчатки. Добывали ее по-разному. Один способ самый верный, но и самый опасный. Километров за двадцать, на бывшем нашем аэродроме, ребята обнаружили склад авиабомб. От каждой из этих бомб, как мрачно шутили партизаны, можно было погибнуть шесть раз: на аэродроме, в трех деревнях, через которые надо провезти смертельный груз и в двух из которых находились полицейские гарнизоны, при разборке детонатора бомбы, при выплавке тола и – я добавил седьмой – при сборке мины. Но этого седьмого в отряде не признавали, потому что тут уже дело имели не с бомбой. К тому же нам повезло: был свой инженер, Будыка, он конструировал и собирал мины. Некоторое время отряд владел монополией на мины. Даже вели торговлю: у Каткова выменивали на мины хлеб и сало, у Косача – лошадей, он вывел в лес конезавод.
Осенью, по бездорожью, когда гарнизоны нельзя было объехать – речки, мосты, – нам удалось раза три провезти бомбы: под дровами, под мукой с мельницы, а однажды – в свадебном кортеже: «жених» и «невеста» сидели на бомбах. А тут, когда замерзли речки, выпал снег, и неглубокий еще, хлопцы засыпались. Везли сено. Почему не пришло никому в голову, что со времен, когда появился тут первый человек, сено возили в другую сторону – с болот туда, в безлесный район, где находился аэродром, а не наоборот? Почему я, командир, крестьянский сын, не подумал об этом? А вы, мемуаристы, пишете, что все умели предвидеть. Я не умел, потому что все предвидеть невозможно.
Хлопцев повесили. На станции. Троих. Четвертый – Федя Кучик – успел швырнуть гранату, и его располосовали автоматной очередью. Потом мне пришлось схоронить сотни людей, своих, партизан. Пережить не одну неудачу, блокады, голод. При прорыве блокады весной сорок третьего бригада потеряла почти половину людей. Это была тяжелая трагедия. Я нес через болота уполномоченную ЦК комсомола Галину Берзнер, ее изрешетило миной. Я плакал. От боли, от злости, от отчаяния. Над ней, над всеми темп, кто остался там, у Днепра, на поле боя, кто потонул в болоте. Я не сразу заметил, что несу мертвую. Мы штыками копали ей могилу на болотном островке. А смерть Васи Шугановича! А гибель братьев Казюр, Володи и Пети!
Дети, дети, я хотел бы всех вас заслонить своей грудью! Если б это было возможно! Но разве только смерть Павла я переживал так тяжело, как гибель тех хлопцев – Юрки Козела, Саши Ляшкевича и Кузьмы Валенка. Если б они погибли, как Федя – в бою, может быть, это бы не ранило так больно. Но их повесили. Двое из них пришли в лес вместе со мной, в августе. Мы спали в одном шалаше, ведь нас было всего одиннадцать.
Сперва меня отговаривали. Шуганович. Будыка. Потом собрали партийную группу и запретили. Записали решение: «Не разрешается командиру отряда зря рисковать…» И все равно я пошел. Поехал на станцию… Так же падал снег. Начиналась метель. Ветер раскачивал их тела. Хлопцев повесили на балке сгоревшего пакгауза. Черные, закоптелые стены, широкий проем сгоревших дверей, и там – они. Босые, в одних нижних сорочках.
Смотрели мы издалека, но я слышал, как стукались о косяк их окостеневшие ноги и звенели, как струны, натянутые и замерзшие веревки. И должен был торговать салом. Оно не лишнее в отряде, а я отдавал его фашистам, тем, что повесили моих хлопцев, моих детей. Ох, как мне хотелось достать из тайника под санями гранату и швырнуть ее в них. «Жена», помогавшая мне торговать, наша отрядная хозяйка, бывший председатель сельсовета Люба Роща, шептала: «Держись, командир. Сам полез. Тебя не пускали». Один из часовых показал на виселицу и погрозил: «Партизаней?» Обвел пальцем петлю вокруг шеи: мол, если и ты партизан, то и тебе то же будет. Надо было улыбаться. Надо было улыбаться! «О, не, пан, я староста из Пригар. Вот документ. Я – староста». Кто из вас пережил такую боль, такие муки, такой гнев и бессилие, как я за тот час, пока мы стояли с санями в ста шагах от повешенных?! Да, того заряда ненависти, что накопился за этот час, мне хватило на всю войну.
Бить их. бить, бить! Но как бить? Чем? Кто-то из них дал за сало спирт. По дороге назад я пытался залить им огонь в душе. А уже разгулялась завируха. Стонал бор – единственный наш друг, защитник. Трудно и ему. Лагерь – несколько занесенных снегом землянок. Пусто – ни души. Один застывший часовой. С такими силами мы хотим одолеть тех, что приехали в эшелонах, пока мы стояли на станции? Их танки, их пушки?
Приказал Будыке:
«Включи радио».
«Садятся батареи».
«Включи. Послушаем Берлин».
Включил.
«Что они передают?» «Репортаж с фронта. Журналист вчера разглядывал в бинокль Кремль».
Это было первое услышанное нами такое сообщение. Я вскочил.
«Врешь!»
«Не я вру. Фашист».
Он, Валька Будыка, военный инженер, танкист, окруженец, который драпал пехтурой из-под Белостока, не поверил. Или. может быть, сделал вид, что не верит. А я поверил. Впервые поверил фашистскому радио. Нет, они не передают для своих, на весь мир, что взяли Москву. Такую брехню они стряпали только для наших людей, уже месяц назад. А мы слушали парад на Красной площади, выступление Сталина и размножали листовки. Своим они солидно – слышно по голосу диктора – сообщают, как выглядит Кремль, если смотреть на него в бинокль с расстояния…
«Инженер! Откуда они смотрят? С какого места? За сколько верст?»
«Ниоткуда они не смотрят! Врут!»
«Нет, смотрят, Валя. Смотрят! Иди попроси у Любы спирта».
«Не даст она мне».
«Для меня. Для командира».
«И для тебя не даст. Слышал я, как она с тобой разговаривала. Распустил ты их тут. Развели демократию. Никакой дисциплины!»
«Нет! Врешь! Есть дисциплина! Самая высшая. Ты думаешь, хлопцев не мучили? Не вывертывали руки? Не жгли железом? Но если б хоть один выдал отряд, согласился проводить их сюда, нам всем давно была бы хана. Для тебя дисциплина – уменье вытянуться, козырнуть. А для меня – в верности. Партии. Народу. Товарищам по отряду».
Нет, вряд ли я сказал все эти слова в тот вечер. Может быть, говорил их раньше, наверняка – позднее, потому что мы неоднократно спорили о сущности дисциплины, о том, нужна ли такая, какую вводил перед войной парком. Рядовой Федя Кучик драпал из-под Бреста так же, как ты, инженер Будыка. Только он прибежал быстрей и раньше пришел в отряд. И умер героем. А как помрем мы с тобой, Валентин Адамович?
Выла вьюга. А я лежал или сидел в землянке в компании молчаливого Шугановича, который совсем не пил, и говорливого, уже захмелевшего Будыки и думал: как я умру? Убедил себя тогда, что из лесу живым мне не выйти. Мысли о смерти не страшили, но волю сковывали. Без тола, без мин, с одними винтовками, двумя пулеметами, к которым не так много патронов, я не знал, что делать, как бить врага, который уже разглядывает в бинокль Москву.
Помереть в партизанах – тысяча возможностей. Я выбирал самую трудную, такую, которая могла бы принести наибольшую пользу отряду, моим товарищам, которые записали: «Не разрешается командиру отряда зря рисковать…» Не разрешается… Кто может разрешить или не разрешить умереть?
Комиссар сказал:
«Люди считают, командир, что ты много пьешь». Я вскипел:
«Кто считает? Ты считаешь? Монах! Книжник! Фарисей! Прочь с глаз моих!»
Он не обиделся, мой добрый, тихий Вася, завуч школы, поэт, который в первую партизанскую весну ночами просиживал над рекой и слушал соловьев. Он дважды спас меня от смерти: первый раз от немцев, второй – от своих, от командира спецотряда, который хотел расстрелять за то, что я отказался дать ему половину своих людей. Он не обиделся. Вася, нет, но ночевать пошел в другую землянку, к партизанам. Обиделся я. Не на него. На себя. Оглянулся на себя и… распек, назвал последним слюнтяем. Будыка хохотал над внезапной моей самокритикой. Веселый человек! Но не понимал ты, что у меня на душе.
Если б знать, что там делается, под Москвой! Если б знать верно! Конечно, наши стоят насмерть. Но умереть – не значит победить. Есть ли кому стать на место тех, кто навеки ложится в землю? Хотелось узнать, что делается на фронте, не из передач по радио. Не из крикливых немецких репортажей. Не из скупых сводок Совинформбюро. От живых свидетелей, которые наверняка скажут больше! От этого, может быть, зависела моя жизнь. Как у каждого смертника, жила надежда, глубокая, тайная: вот-вот что-то должно измениться, придет какая-то новая сила… Раньше верили в силу божью. Всю сознательную жизнь я верил в силу народа и партии.
Приказ мой был как разрыв бомбы: «Захватить «языка с санитарного поезда».
«Безумие, абсурд, пьяная горячка! – так назвал этот приказ мой тихий комиссар. – Ты посылаешь людей на верную смерть, – говорил он. – Родного брата посылаешь! Кому нужен твой «язык»? Зачем?»
Меня возмутило, что комиссар не хочет узнать больше, чем можно услышать по радио, о самом главном, от чего зависели наша жизнь, борьба. Разведчикам, Павлу задание понравилось. Необычное. Будыка улыбался, наблюдая баталию мою с Шугановичем. Будыка считал, что на войне, как и в природе, ничего невозможного нет. Такая у него философия. Что невозможно сегодня – становится возможным завтра. Что невозможно для одного – легко осуществляется другим. Я не отступал. Сдался Вася. Но как!
«Ладно, будет тебе «язык»! Но я сам пойду с разведчиками».
Меня заело.
«Пойдет инженер!»
«Я? – побелел Будыка. – Почему я?»
«Боишься, технократ?»
«Боюсь. Много смертей пришлось видеть».
«И все-таки пойдешь! Ты один в отряде говоришь по-немецки».
Перестал улыбаться, вытянулся по-военному: «Слушаю, командир».
Я никогда не мог понять тебя до конца, Валька Будыка. И теперь не понимаю. Кто ты? Что за человек? Я раскусывал людей за один день, разбирал их по деталькам и тут же легко собирал. Ты – машина более мудреная, чем твои станки. Кибернетическая. С очень сложным програм-мированием, до смысла которого могут дойти разве что такие умы, как моя Лада. А иногда мне кажется: ты как «матрешка» – простенький, но двойной или тройной и каждый особым образом закамуфлированный.
Разведчики не возвращались три дня. О, эти три дня! Я их никогда не забуду. До смерти. Выла вьюга. Стихла. Снова началась. Я сидел один. Шуганович в землянку не заходил, жил с партизанами, занимался делами отряда. Я боялся выйти к людям. Впервые боялся людей. И кого? Тех, кто верил мне, кто по своей воле стал под мое командование, вручил, по сути, свою жизнь, свою судьбу. Но они же должны и судить меня. Если разведчики не вернутся, я сам попрошу, чтоб меня судили. Всем отрядом… Пускай расстреляют перед строем. Нет, такой смерти я не хотел! Такой смерти не будет!
Никто меня не станет судить! Но я осужу себя сам, если не вернутся Павел, Будыка, старый буденновец Ермолай Кравченко.
Я боялся даже попросить у Рощихи спирта. И она тоже, чертова душа, добрая, когда не надо. А тут не заходила даже проверить, как обычно, тепло ли в командирской землянке. Было холодно. Тепло любил Будыка и топил «самовар» – чугунную печку – без конца. Нет страшнее одиночества, чем когда рядом люди, друзья, а ты один. Как узник, как отщепенец.
В приемник, казалось, врывается вьюга всего семисоткилометрового простора, что лежал между нашим лесом и Москвой. Едва слышный – о, какой далекий! – мотив «Священной войны». Поэтому он казался скорбным. Ближе – немецкий лай. Но без Будыки я его не понимал. На кой черт мне этот «язык», если они уже в Москве! В самом деле, на что мне понадобился «язык»?
Шугановпч только на третий день догадался, в каком я состоянии. Хотелось дать ему по морде, а потом расцеловать. Золотой ты был человек, Вася, но иногда простые истины до тебя доходили, как до жирафа простуда – на третий день. Даже спирту принес. И сам выпил. Тревожно было и у него на душе.
«Ты понимаешь, зачем мне «язык»?»
«Понимаю. Но это от страха».
«Выходит – я трус?»
«Нет. Но у тебя душевная паника. Ты не знаешь, что делать. Поэтому мечешься. То тебе захотелось посмотреть на повешенных, то… А что твой «язык» может сказать, будь он хоть генерал?»
«Нет, ты не понимаешь! Я должен увидеть хоть одного из них оттуда, с фронта. Какие они теперь?»
Разведчики таки добыли «языка», но взяли не на той лесной станции, где повесили хлопцев, где была водокачки и останавливались для заправки водой поезда, а в городе, в нашем райцентре, за сорок километров. Обмороженный байбак, обрадовавшись, что отъехал так далеко от фронта, вылез вчера в метель из санитарного эшелона, чтоб попытаться купить шнапс. А Кравченко сорок лет прожил на одной из улочек у самой станции.
Ошалевший от страха, от боли – раза три за дорогу ему затыкали рот, запихивали под солому и три человека садились на него, как на куль, – от холода, фриц не сразу заговорил, хотя его отогрели и накормили. Потом как с цепи сорвался. Выкрикивал фашистские лозунги, ярился: «Сталин капут! Москау капут! Аллес капут! Аллес капут!»
«Нет, врешь, щенок! Гитлеру капут! Тебе капут», – сказал я и вытащил из кобуры пистолет.
Он упал на колени. Сорвал с лица повязку. Вместо носа – гнойный струп. Размазывал сопли и слезы. Тыкал нам забинтованные пальцы и все хотел показать обмороженный половой член, несмотря на присутствие женщины – Рощихи.
Наверное, думал, что обморожение такого деликатного места сильнее разжалобит нас. Люба плевалась. Будыка смеялся, он был веселый, как никогда: вернуться с такой операции! Едва ввалившись в землянку, заявил: «Не так страшен черт, как его малюют!»
Мне тоже хотелось смеяться. Глядя на этого вояку, на этого «победителя», я как будто оттаивал, словно внезапно и чудесно выздоравливал от тяжелой болезни, хотя ничего о том, главном, о чем я так жаждал узнать, пленный не сказал. Тупой сопляк. Не помнил даже названий городов, через которые прошел. Из подмосковных пунктов, знакомых Будыке и мне, назвал одну Истру. Истра недалеко, однако и не так близко от Москвы, чтоб можно было увидеть Кремль. Сколько километров до Москвы от того места, где он обморозился? Не знал. Обещали ему москов-скую теплую квартиру? Раньше, когда было еще тепло, обещали. Сколько убитых, раненых? Обмороженных? После одного боя, недели две назад, осталось в строю меньше половины. А потом – вьюга, мороз. Он обморозился в ночном переходе. «О, это была страшная ночь!»
Допрашивали долго, весь вечер. Допрашивали весело, а потом весело ужинали. На этот раз по инициативе Будыки. Разгулялся инженер. Кажется, это единственный случай, когда я хорошо понимал Будыку – его возбужденное настроение, веселость.
Утром Шуганович спросил, что делать с немцем.
«Покажи его партизанам. Поставь перед строем. Потом будем судить. Назначаю трибунал. Пятерку. Ты, я, Роща, Кравченко, дед Михей».
У деда, который пригнал к нам в лес оставшихся колхозных лошадей – их хотели присвоить полицаи, – сожгли хату, замучили невестку и внука. Первой высказалась Люба Роща. Самые безжалостные мстители – женщины, в этом я убеждался не раз.
«Что тут долго разводить антимонии! Расстрелять!»
Хмуро сидел Кравченко, свесив седые буденовские усы. Кожа на лице, что у старого слона, такая же твердая на вид и с такими же морщинами. Его слова ждали долго. «Пленный есть пленный. Но куда нам его девать?»
Вася Шуганович, взволнованный, раскрасневшийся, казалось, спешил ответить на вопрос буденовца: «Сын аптекаря. Мелкий буржуа. Из таких Гитлер набирал свои штурмовые отряды. А этот не стал эсэсовцем, гестаповцем. Простой солдат. Может, попытаться прочистить ему мозги? Если увидим, что фашист, гад, тогда уж…»
«Добренький ты, комиссар. Чтоб я кормила немчуру, волка, который все будет в лес глядеть!.. – возмутилась Люба. – Что тебе скажут партизаны?»
Вася растерялся. Он не подготовлен был к выбору одного из двух возможных решений, по сути своей противоположных, – расстрелять или отпустить.








