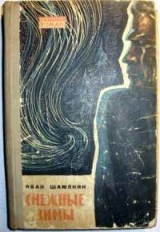
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Думать мешает внук. Малыш без конца лепечет над ухом – ему надо объяснять, что там происходит на экране. А как ты объяснишь трехлетнему ребенку скучный телевизионный спектакль? Да и трудно оторваться от мыслей и… от снега. Скоро стемнеет, включат свет, и исчезнет эта чудесная сказка на крыше соседнего дома. Мальчик мой, если б я умел, я придумал бы сказку про снег и про лес. Но я не умею придумывать для таких, как ты. Это очень трудно. У меня есть сказка про лес, да тебе ее еще не понять. Как обычно, в комнату вошла Лада, постояла минутку, сразу определила, чего стоит передача; если что-нибудь интересное, она задерживается подольше, а иногда совсем отрывается от формул.
– Дорогие мои мужчины, наука и человечество были бы вам глубоко признательны, если б вы хоть немного приглушили эту шарманку.
– С величайшим удовольствием я выключил бы совсем, но тогда будет еще больше шуму.
– Не хочу выключать! – заверещал мальчик.
– Вот видишь…
– Наказание божье на мою голову – такой племянничек. Он у вас доглядится до психического расстройства. Уже кричит по ночам. Если человечеству суждено от чего-нибудь погибнуть, так это от телевизора.
После его приезда жена с тревогой рассказала, что Лада стала плохо спать, блуждает ночью по квартире, непривычно молчалива, грустна. Просила его поговорить. «Тебе она больше доверяет». Не отрывая взгляда от окна, Иван Васильевич остановил дочку:
– Лада!
– Я, папа.
– У тебя неприятности?
– Нет.
– Ты нездорова?
– Мамины выдумки.
– Ты становишься не такой, к какой мы привыкли.
– Все течет, все изменяется – сказал философ.
– Но ничто не происходит без причины.
– Если я скажу, что влюбилась, это вас успокоит?
– От любви веселеют.
– Как кто. И смотря от какой. И смотря на каком этапе.
– Интересная теория. У тебя какой этап?
– Последний.
– Что значит последний?
– Не знаю, что значит, но знаю, что последний.
– Василь рассказал мне о том, что ты скрывала. О Саше.
Очень хотелось обернуться, чтобы видеть ее лицо, глаза в этот момент. Но уже сумерки, и вряд ли можно разглядеть, что сейчас в ее глазах – радость или грусть. Он не шевельнулся. Лада ответила не сразу.
– Я рада, что у вас наладился такой контакт… Вы поговорили даже о моей любви. Но я не поручала брату…
– Василь и не говорил, что поручала. Проговорился случайно. Но скажу откровенно, меня немножко обидело, что ты от меня таилась.
– Разве любовь – для выставки?
– Нет. Но зачем темнить: негр, Феликс? Лада рассмеялась.
– Защитная маскировка.
– Что и от чего надо защищать? Почему все-таки последний этап?
– Не волнуйся. Могу превратить его в первый.
– Ты загадываешь загадки. Отгадывание их не для моей старой головы.
– Это не загадка – задача, которую должна решить я сама. Если решу – сразу сообщу тебе результат. А сейчас у меня на столе задача на измерение критической энергии каскадных ливней, поэтому я приглушаю вашу шумилку.
Лада крутнула регулятор громкости и отправилась решать свои задачи, космическую и душевную. Иван Васильевич остался с внуком, который не мог оторваться от телевизора. Синих смерчей над карнизом крыши уже не видно, только танец снежинок на фоне освещенных окон соседнего дома. Все сложно в этом мире. И у каждого своп проблемы. Даже у этого малыша. Но самые сложные из них те, что связаны с взаимоотношениями людей. В тот же вечер жена прямо-таки ошеломила его последними новостями. Опять приходила Миля, жаловалась на него Ольге! Растревожил мужа, выбил из творческой колеи, нервничает человек, не ест, не пьет.
– Ничего – похудеет, это ему на пользу, – довольно равнодушно поначалу ответил Иван Васильевич.
Но жена стала укорять:
– Ну чего ты задираешься со всеми? Вот ведь человек! Не научили еще тебя. Ну там, в сельском хозяйстве, воевал, так там ты хоть специалист. А в Будыковы станки зачем ты лезешь? Что ты понимаешь в них?
– Ничего. Но в группе есть инженер-станкостроитель. А лично я немножко разбираюсь в людях, в кадрах, в организационной работе, в партийной. Вам с Будыкой хочется полной бесконтрольности? Я никогда не поднимал шума, когда проверяли мою работу. А проверяли почаще.
– Во-первых, ты не на службе и мог отказаться.
– Из партии на пенсию не выходят, Ольга!
– А если уж взялся, то неужто нельзя было сделать так, чтоб не погубить нашей дружбы. Столько лет дружили!
– Если она за столько лет не закалилась, наша дружба, значит, не та сталь.
– Ох, Иван, Иван! Тебе хочется потерять друга, который всегда может помочь, поддержать?
– Я не падаю, Ольга.
– Когда будешь падать, поздно поддерживать. Я не меньше тебя не люблю блата, но такова жизнь. Ты вдруг уехал к Васе – у меня замерло сердце. Кто мог бы дозвониться до части? Валентин смог. Теперь он пригласил к себе на работу Геннадия.
Вот это и ошеломило.
– Будыка пригласил нашего зятя? Сам? Когда? Через кого?
– Вчера от его имени позвонили Геннадию на работу.
– И ты молчала?
– Иван! Ты и в этом готов увидеть бог знает что. Надо же парню расти.
– На заводе расти нельзя? Для хорошего инженера завод – лучшая школа. А он без году неделя инженер – и уже в институт лезет. Небось с радостью согласился?
– Почему же не согласиться, если предлагают лучшее?
– Значит, со мной можно и не советоваться? Я – нуль. Пенсионер. Так?
– Он самостоятельный человек.
– Когда сидел на моем горбу, тогда вы молчали о самостоятельности! Самостоятельные!
Антонюк выругался. Ольга знала: Иван при ней отпускал крепкое слово в три года раз, когда возмущение его, как говорится, поднималось до колокольни; вот тогда и бил этот большой колокол. По-женски мудрая, она тут же спешила погасить. гнев мужа – уступкой, мягкостью. Ольга и сейчас постаралась восстановить мир и лад, но меж ласковых слов вздохнула, призналась:
– Ах, Иван! Перестаю я тебя понимать.
Ему тоже стоило немалых усилий погасить злость; осталось только удивление и даже своеобразное восхищение другом: «Ну, ты и Остап Бендер, Валька! Однако все больше и больше выдаешь свою неуверенность».
Можно довести спокойствие до равнодушия: делайте что хотите, мне все равно. Но Антонюк знал, что тогда, по сути, наступает гражданская смерть человека, коммуниста. Он до этого опуститься не мог. Когда Ольга уже забыла про разговор о зяте, довольная, что муж стал таким добрым, уступчивым, он вдруг попросил:
– Позвони ты этому будущему великому конструктору, попроси приехать.
Она не поняла, удивилась и обрадовалась.
– Валентину Адамовичу? Иван Васильевич улыбнулся.
– По-твоему, он еще будущий? Боюсь, что бывший. Я о зяте твоем говорю.
– Он такой же и твой, – обиделась Ольга. – Чтоб сейчас приехал? Поздно уже.
– Пусть хоть па сына посмотрит! Поздно! По неделе не видит сына!
Ольга почувствовала, что Иван опять «заводится» – так она это называла, – и опять начала «спускать на тормозах» (его определение).
– Я позвоню. Но прошу тебя: говори с ним спокойно. Обещаешь?
– Разве я когда-нибудь кричал?
– Нет. Но ты иногда говоришь так язвительно, что это обижает.
– Ах, как ты боишься зятя обидеть. А как он со мной разговаривает в последнее время, ты не слышишь?!
– Нет, слышу. И говорила ему.
– Представляю, как ты говорила. Уверен, что ты больше извинялась.
Сверхделикатность жены в иных случаях трогала, а в иных злила. Он слышал через дверь, как она говорила по телефону, сперва с дочерью, потом с зятем, долго уговаривала ее и его приехать. Отрываться от телевизора, ехать по морозу в метель им не хотелось. Зять, видимо, выпытывал, зачем он так срочно понадобился. Ольга Устиновна отвечала приглушенным голосом. Иван Васильевич понимал ее положение. Нельзя сказать правду, потому что тогда Геннадий может не приехать, и врать Ольга – не умела, так что приходилось говорить какую-то полуправду, малоубедительную для упрямого и самоуверенного инженера. В сущности, старая женщина вынуждена была унижаться перед детьми.
Антонюк долго сдерживался, шелестел газетой, чтобы не слышать переговоров жены, но в конце концов не стерпел. Сейчас он скажет этому сопляку несколько слов, после которых тот долго не уснет. Наглец! Но Ольга угадывала настроение мужа по шагам, по тому, как он отворяет дверь. Она догадалась о его намерении, как только он вышел в коридор. Сказала громко, сердито, решительно:
– Можешь не приезжать! – и повесила трубку.
Зять доехал из поселка тракторного завода в центр за несколько минут. Антонюк не ждал его так быстро. Позвонил воинственно, агрессивно. Иван Васильевич вскочил с дивана, приблизился к двери, чтоб послушать: будет ли Ольга извиняться перед зятем, инструктировать его? Неужто пойдут на кухню шептаться? Он не простил бы жене такого позорного поведения. Нет, у Ольги необыкновенно тонкое чутье и такт.
Зять. Какая муха его укусила?
Теща. При чем тут муха? Иван Васильевич хочет с тобой поговорить. О твоем же деле. Стыдно, Геннадий. Прост старший товарищ.
Зять. Мне в восемь на работу.
Теща Тебе полезно прогуляться перед сном. Пузо отрастил выше носа.
Зять (ошеломленно). И вы против меня?
Теща. Да. Все против тебя. Заели несчастного. Амбиции у тебя много и мания величия. Опасные симптомы. Гляди, нажить эту болезнь легко, лечить трудно.
Зять. Не заболею, не бойтесь. С вашей помощью….
Теща. Иван Васильевич ждет.
Молодчина Ольга! Действует, как говорят, синхронно. Антонюк сел за стол, углубился в прочитанные уже газеты: разговор серьезный, и вести его надо в соответственном положении, не на диване. Жаль, что остался в пижаме, не подумал, надо было одеться по всей форме. Геннадий постучал, что делал чрезвычайно редко.
– Пожалуйста.
Увидел тестя за столом – якобы удивился:
– А я думал, вы спите давно. Пенсионеры рано ложатся. Вместе с курами. – Хохотнул, довольный своей шуткой.
Лезет парень на рожон. Провоцирует. Но мало у тебя опыта, не так это делается, брат. Иван Васильевич приподнялся, протянул руку:
– Добрый вечер, Геннадий. Мы сегодня не виделись.
Смутился-таки оттого, что не поздоровался первым. Покраснел.
– Добрый вечер, Иван Васильевич.
– Садись. – А сам в газету. Пускай остынет. Бывает, что раскаляются и на морозе.
Зять сел. Затих. Ждет.
Иван Васильевич перечитывал скучно-розовый очерк о колхозном пастухе. Мысленно выругался: посреди зимы – о пастухе! Характерно для сельской газеты. Правда, и у плохого журналиста бывают интересные мысли, здесь умно написано о травах, совсем с других позиций, чем те, что господствовали полгода назад. Задумавшись над сельскими проблемами, может быть, передержал, пропустил нужный для начала разговора момент. Геннадий спросил почти с вызовом:
– Ну?
Не остыл, значит.
– Что – ну?
– Зачем вы меня звали? Мне рано вставать.
Иван Васильевич знал: жена нарочно, с присущим ей тактом и чтоб придать вес свиданию, не вошла вместе с зятем, но стоит на страже, вслушивается. Зачем ей унижать себя подслушиванием? Он позвал:
– Мать! Иди сюда, пожалуйста. Она тут же отворила дверь.
Геннадия явно нервировали медлительность и спокойствие тестя. Парень от нетерпения даже пальцы стал ломать, ждал разговора.
– Геннадий, я хочу попросить тебя – не переходи с завода в институт.
– Почему?
– Я объясню. Мы с Валентином Адамовичем старые друзья, с войны, ты знаешь. Теперь в институте работает группа партгосконтроля. В числе прочих недочетов, очевидно, будет записано о подборе кадров. О неправильном подборе. Мне не хотелось бы ставить своего хорошего друга в неловкое положение. Ты понимаешь?
– Вы же его не просили! А я вас не просил. А если бы и просил, знаю – слова не сказали бы.
«Дурень, не знаешь, сколько слов я сказал за тебя. И вот благодарность!»
– Будыка сам пригласил меня.
– За какие заслуги?
– А чем я хуже других?
– Что тебя соблазняет?
– Ого! Спрашиваете! На тридцать рублей больше!
– И это все? Решают тридцать рублей?
– Для вас это, может быть, мелочь, вы тысячи загребали.
– Геннадий! – упрекнула Ольга Устиновна.
– Не волнуйся, Ольга. Разговор должен идти совершенно откровенный.
– А там, гляди, и в науку можно пролезть.
– О боже, – простонала мать. – Из тех, кто пролезает, никогда не выходит ученых.
– Однако кто кандидата хапнет, тот не бедует.
Иван Васильевич вдруг почувствовал странную опустошенность. Не хотелось больше ни говорить, ни убеждать, ни тем более просить. Напрасная трата сил. Лес дремучий. Не пробиться. Завал за завалом. Обидно. Тысячи людей воспитывал. А зятя за пять лет ничуть не обтесал, не прочистил мозгов, такой же кулак, частник. Может, даже хуже стал. Что за черт! Какие же тайные силы тянут в другую сторону? Кто или что на него влияет? Те пятнадцать гектаров земли, которые отец имел при польской власти? Сватья, когда приезжает, и сейчас еще вспоминает эту земельку и клянет какого-то Шуру, который в тридцать девятом отрезал лучший участок.
– А ты бедуешь? – уже с возмущением спросила теща.
– Оба работаем, а пальто зимнее хотел сшить, так не вышло… Майя сшила, телевизор купили…
– А ты хочешь все сразу? Неинтересно будет жить дальше. Горя вы не видели. Слишком многое получили готовым.
– Вы после войны литеры имели. А я в колхозе картошине радовался.
– Ты запомнил литеры, а как я с тремя детьми жила в эвакуации – это ты знаешь? – У Ольги Устиновны задрожали губы.
Иван Васильевич разглаживал газету и разорвал ее пополам. «Если еще что-нибудь скажет о тысячах и литерах – выгоню вон». Нет, опомнился, кажется, дошло.
– Ведь я не говорю, что вы горя не знали. Всем хватило.
– Довольно дискутировать о горе. Я повторяю свою просьбу. Повторяю очень серьезно. Не спеши с ответом. Подумай.
– А что мне думать? Вы можете дружить, можете ссориться. Вам что? Один имеет персональную, другой скоро будет академиком и лауреатом. А мне надо жить. Из-за ваших капризов я должен отказываться от выгодного места! Будыка не боится, что о нем скажут. Я вижу: наплевать ему на вашу комиссию. А вы испугались, как бы не подумали, что вы меня устроили. Чего вам бояться? Пенсии не снимут.
– Значит, твердо решил вопрос?
– Твердо.
– Ну что ж, будь здоров. Спасибо, что приехал.
Иван Васильевич засунул руки в карманы пижамы, склонился над газетой.
Зять поднялся, растерянно оглянулся, не зная, как попрощаться. Часто выручала добрая теща. Уставился на нее. Но она разглядывала ногти с бледными следами маникюра, сделанного еще на праздник. Не взглянула даже. Это встревожило инженера: тещино недовольство может отразиться на их благосостоянии заметнее, чем те тридцать рублей, которые он получит, перейдя в институт. Но почему им так не хочется, чтоб он туда перешел? Из гонора? Так и у него есть гонор! Пусть не думают!
– Спокойной ночи!
Иван Васильевич понял, что делалось в душе у зятя, и, чтоб успокоить его, ответил почти весело:
– Спокойной ночи! Сына не забудь поцеловать.
Когда хлопнула наружная дверь, Антонюк тяжело вздохнул. Жена попыталась утешить:
– Я поговорю с Майей.
– Нет! – решительно возразил он. – Не надо! Зачем? Это поражение. Мое. И мне достаточно пережить его один раз. Не хочу дважды или трижды! Нет! Слышишь?
Все, что делала Ольга в доме, казалось настолько естественным, что работы ее да и душевной теплоты почти не замечали ни сам Иван Васильевич, ни дети: другой жену и мать представить не могли. Но одну ее черту Иван Васильевич отмечал каждый раз и каждый раз испытывал благодарность – за то, с какой сердечностью и народной простотой она принимала гостей. Заезжали бывшие партизаны, секретари райкомов, председатели колхозов, колхозники, заглядывали академики и министры; случалось, что очень разные люди сходились вместе. Неразумная хозяйка стала бы делить их по рангам, выказывать больше внимания высоким гостям, радовалась бы, если б доярка, узнав, что пришел известный писатель, от смущенья постаралась бы скорей уйти. Ольга же удивительно умела объединить за столом любых людей – не веселой выдумкой, не острым словцом, а тихим, душевным радушием и равным вниманием к каждому.
После того как Антонюка попросили уйти на пенсию, гостей, естественно, стало меньше. Ольга Устиновна болезненно переживала это. И еще больше радовалась тем, кто не миновал их дом, заезжал, заходил по-прежнему. Дорожило дружбой таких людей. Потому и боялась, что из-за своего упрямого характера Иван может поссориться с Будыкой – другом, который, казалось ей, всегда оставался верен в счастье и в несчастье.
Иван Васильевич вернулся из района – его приглашали в группу, которая срочно, по сигналам рабочих, должна была проверить птицефабрику, – усталый, закоченевший, расстроенный обнаруженными злоупотреблениями. Открыл дверь своим ключом, увидел на вешалке кожух, платок; на полу – деревенскую корзинку и обрадовался: гости. Гости из села! Не раздеваясь – прямо в комнату: кто приехал? За столом пьют чай раскрасневшаяся Ольга и старая крестьянка в платочке, повязанном «хаткой». Не сразу узнал Марину Казюру. А узнал – расцеловался и… прослезился. Очень это взволновало жену. Скуп Иван на слезы, ой, скуп. А тут не выдержал. Видно, не только оттого, что Марина – мать погибших братьев-партизан. Ольга знала об их трагической смерти – слышала и от мужа, и от самой Марины; та приезжала вскоре после войны – обидели ее в районе, лесу на хату не хотели давать. После того ее приезда Ольга сама напоминала Ивану, чтобы заехал к Марине: может, помочь надо чем-нибудь. Заезжал, не часто, правда. Никакой помощи ей больше не нужно было. И вот уже сколько лет не виделись! Может, потому и взволновал ее приезд. Ольга тоже не удержалась, тайком утерла глаза. А Марина – ничего, верно, выплакала давно все слезы. Грустно покачала головой:
– Постарел ты, командир, постарел. – Но тут же, спохватившись, подбодрила: – Ну, ничего еще, ничего, дедок крепкий.
Ольга засмеялась.
– Раздевайся, дедок, мой руки да поскорее за стол.
Когда Иван Васильевич вышел, Марина сказала:
– Хороший он у тебя человек.
– Хороший.
– В согласии живете?
– Всяко бывает. Случается, что и поссоримся. Из-за детей.
– Из-за своих детей, разве ж это ссора! – И тяжело вздохнула. Ох, как ей хотелось бы поссориться с мужем из-за детей! Но нет мужа, нет детей…
Ольга Устиновна поняла это и задохнулась; боясь разрыдаться, выскочила из комнаты, будто бы вспомнив, что на кухне что-то горит. В ванной Иван причесывался перед зеркалом. Она, как девочка, приткнулась лицом к его плечу.
– Что с тобой?
– Мне перед ней стыдно…
– Пожалуйста, без сантиментов.
Вернулись вместе. Марина, увидев его в хорошо скроенном синем костюме, в галстуке, умытого, причесанного, удивленно всплеснула руками.
– Ах, божечка! Да ты еще совсем жених, а я тебя дедом назвала. Извиняй глупую бабу.
– Нет, Марина Алексеевна, не извиню! Такой обиды не прощаю.
– Так я ж о том, что у тебя уже внук есть. Как же не дед? – И хитро-хитро прищурилась.
На столе лежали на тарелках ее гостинцы: толстый брус сала, круг сухого, облитого маслом сыра, крепкие, один в один, маслянисто-янтарные боровички. Стоял кувшинчик с медом и причудливая – откуда их в деревнях берут? – бутыль. Обыкновенная бутылка портвейна рядом с этой пузатой черной склянкой выглядела, как бедная родственница рядом с богатой купчихой. А вообще все казалось очень аппетитным и отлично сочеталось с тонкими тарелками, красивыми чайными чашками, блестящим электросамоваром. Голодный Иван Васильевич довольно потер руки, причмокнул:
– Вот это да!
– Возьми моей для аппетиту, – предложила Марина и сама налила из пузатой бутылки ему – полную рюмку, себе и хозяйке – по капельке. – Чарки у вас маленькие. Наши мужики так стаканами глушат.
– За ваше здоровье, Марина Алексеевна.
– На здоровьечко вам, Иван Васильевич. И вам, Ольга Устиновна.
Самогонка, должно быть первач, обожгла – не вздохнуть. Поддевая вилкой грибок, Иван Васильевич другой рукой отгонял жар ото рта. У гостьи весело смеялись глаза, но и сквозь смех проступала навеки застывшая скорбь, как туманная пелена.
– Сама гонишь?
– Сама.
– Посадят тебя за это.
– Э-э, ничего я не боюсь. Да и кто даст в обиду лучшую доярку! Им же стыдно будет.
– Все еще доишь?
– Ага.
– А на пенсию не пора? – Он посмотрел на ее руки больные руки, пальцы искривлены, с подагрическими узлами. Ему не раз становилось стыдно и больно, когда видел такие женские руки. А они кормят хлебом, поят молоком всю страну!
Марина поймала его взгляд и незаметно убрала руки под стол.
– Спрашивал как-то директор совхоза, не хочу ли я на пенсию. Нет, говорю, не хочу. Скучно будет без работы. Что делать одной в хате?.. Сама себе опостылеешь.
«А я уже на пенсии», – хотел было признаться Иван Васильевич, но вздохнула тайком жена; понял, что она об этом не рассказала, и тоже смолчал. В конце концов он завтра может пойти работать! Да и без должности не бьет баклуши. Нашел чем хвастать перед старой колхозницей!
– …А так я песни с девчатами попою. Сердечные тайны их выслушиваю. Иной раз, случится, и поплачем вместе.
– А вообще как вам живется, Марина Алексеевна?
Еще с тех партизанских времен Марина, в зависимости от ситуации, от настроения или от места, где происходил разговор, говорила ему то «вы», то «ты». Между прочим, в тех краях больше почитают обращение на «ты». Антонюк не только привык к этому, но и сам, незаметно для себя, обращался к хорошо знакомым людям таким же чином.
– Ох, командир, так живется, так хорошо живется, что ажио сердце болит.
– Не пойму, серьезно вы или от беды какой…
– Да какая беда теперь! Серьезно, Иван Васильевич.
Живется – лучше, может, и не надо. По сто рублей в месяц заробляю, Корова, свинья, сад… Телевизор купила. Теперь зимой, когда рано с фермы прихожу, детей со всей улицы зазываю. Они уже поджидают меня. «Баба Марина идет!» Потому и болит, когда вспомню, как бы сыны мои могли жить. – И заплакала. Нет, не все материнские слезы выплаканы. Много их еще прольется. Ой, много!
У Ольги тоже глаза мокрые, ищет в карманах фартука носовой платок и не может найти. Иван Васильевич сурово молчал. Многому он научился за свою жизнь, одному не мог научиться – утешать людей в горе словами. Делом, помощью – это он мог, словами не умел. Да Марина сама сразу высушила слезы.
– Извиняйте вы глупой бабе. Приехала незваная, непрошеная, да и портит вам настроение. Выпей. Иван Васильевич, еще… На нас, баб, не гляди, у нас слезы близко. Сала вот отведай, сыру. Все свое. Грибки, правда, не мои, некогда мне ходить по них. Брата моего невестка, агрономша, собирает. Вот уж собирает! Муж ее, Виктор, механик в совхозном гараже. Так на машине как поедут! По три корзины привозят! И как она их только не готовит! И маринует, и солит, и жарит. В банки закатает, так, вишь, средь зимы откроет – как вчера собранные.
– Грибки отменные.
– Это, верно, еще не самые лучшие. Лучших у нее не выпросишь. Бабочка молодая, а скупая. Больше как две сотни получают, а дитятко одно. Говорю ей: «Ты. Люда, хоть детей рожала б». – «Некогда», – говорит. Слышали? Собирать грибы есть когда, а детей – некогда! – Марина засмеялась.
И нельзя было не засмеяться с ней. Ивана Васильевича глубоко тронула жизнестойкость этой женщины, пережившей величайшее горе, отношение ее – и шутливое, и одновременно серьезно-озабоченное – к молодым, к их жизненным проблемам. Ольга Устиновна ушла в детский сад за внуком. Лады дома не было. Они остались вдвоем. Марина пила чай – которую уже чашку! Хвалила:
– Вкусный у вас чай. А говорили, что из городской воды невкусно. Говорили – хлоркой пахнет. Да неправда это все.
Иван Васильевич еще при жене стал расспрашивать о своих партизанах, тех, что из Казюр или из соседних деревень, кто как живет? У кого какие дети? Марина рассказывала охотно, то всерьез, то с беззлобным юмором, как о братовой невестке Люде. Но как только хозяйка ушла, она прервала свой рассказ, отодвинула чашку с недопитым чаем, подозрительно глянула на дверь: надежно ли, не может ли кто подслушать? – понизила голос до полушепота:
– Разговор у меня с тобой, Иван Васильевич, тайный. Чтоб никто не слышал. Дело давнишнее, однако же не забывают, вишь, злые люди. Враг у тебя объявился. Почитай, какое письмо мне прислал.
У Антонюка сжалось сердце от недоброго предчувствия. Не знал вины за собой, ничего не боялся, а вот все-таки стукнуло. Марина достала из кармана кофты платочек, развязала и среди других бумажек и денег нашла сложенный во много раз лист. Сама развернула, разгладила, а потом только отдала ему. Страничка машинописного текста. Он не стал искать очки. Прочитал так, ухватил суть одним взглядом. Кровь ударила в темя, в виски, запульсировала в пальцах рук, и лист задрожал. Некий аноним советовал тетке Марине – такое обращение: «Дорогая тетка Марина!» – спросить у партизанского командира Антонюка, из-за чего погибли ее сыновья. А погибли они из-за того, что он, Антонюк, послал детей спасать свою любовницу.
«Бывают ошибки, а бывают преступления. Ошибки всем прощены, а за преступления и сейчас не поздно судить».
Буквы запрыгали, слились в черные полоски.
«Не показать волнения! А то подумает старуха, что испугался. Нет, Марина не подумает. Не может она так подумать!»
Посмотрел на нее. Суровое лицо. Тень скорби в глазах.
– Не догадываешься, кто мог написать? Кто тебе враг?
– Нет. Такого врага не знаю. Такого врага не было.
– А ведь есть, как видишь. Злой человек. Страшный. Бойся его, Иван Васильевич. Подумать только – этакое написать! Да кому? Матери. Через двадцать годов. Знал, на что бить. Проклятьем страшным прокляла б, кабы не ведала, как оно все было, как вы сами шли на смерть, чтоб спасти… – Губы ее дрогнули.
Иван Васильевич взял ее руки, шершавые, мозолистые, в порыве благодарности хотел поцеловать их. Но почувствовал: заплачет. Нервы натянуты до предела, не выдержат.
– Спасибо вам, Марина Алексеевна,
– За что мне спасибо?
За душевность вашу, за мудрость.
– А, батенька! Какая там мудрость! Получила ту писульку – неделю не спала, сердце болело, Грешный, думаю, человек Иван Васильевич. Да разве ж в том его грех? Мужской, так перед женкой пускай и кается. Живет с семьей, значит, прощено. А тут какой-то паук поганую паутину плетет. Откуда заходит! Ой, издалека! А неизвестно, где кончит. Чего доброго, еще запутает хорошего человека. Наговор что смола – нелегко отмывается. Дай, думаю, съезжу: скажу, чтоб знал да оглядывался.
– Вот за это испасибо. Марина…
Она опять оглянулась на дверь, опять понизила голос:
– Может, это – муж ее? Полицай тот?
– Его расстреляли.
– Нашла-таки кара. Кровь людская не прощается. Помолчала.
– А она где? Все соромилась поспрошать. Чтоб не подумал, что глаза колю.
– В Полесье, учительствует.
– Замужем?
– Нет.
– Нет? – удивилась Марина. – Такая молодая была. И живет одна?
– С дочкой. Дочка тоже учительница. В той же школе.
– Пишут?
– Пишут.
– Много из партизан вам пишут?
– Нет, теперь уже немного.
– Забывают люди. У каждого своя жизнь, свои болячки. Не диво, столько лет пролетело.
Марина как бы умышленно отводила разговор подальше от письма, лежавшего на столе между ними, подальше от того, что вызывало тяжелые воспоминания. Ей, видно, искренне хотелось забыть и поговорить о чем-нибудь другом. А у Ивана Васильевича отстукивало сердце:
«Кто? Кто? Кто?»
Не было ответа на это «кто». И непонятно было, почему? Почему поклеп возник теперь, когда он так мало встречается с людьми? Кому он мешает? Чем? Несомненно, есть связь между анонимкой в ЦК и этой. Одна рука. Кто-то боится, что он вернется на работу, на старое место? Кто? Преемник? Но откуда ему знать о Марине и вообще всю эту давнюю трагическую историю? Все до мелочей знает только один человек – Будыка. Валька? Нет! Нет! Нет! Невозможно! Ведь он знает правду лучше, чем Марина.
И сквозь пелену огромного горя мать сумела тогда понять все правильно. Не поверила и теперь, хотя боль многих лет могла сделать ее подозрительной. Никто из партизан слова не сказал в осуждение того, что было сделано. Спасли раненых, детей, женщин. Они с начштаба, в сущности, поровну делили ответственность за все операции. Со своей военной вышки Валентин считал удачей и рейд за Днепр, и вывод людей из лагеря, и бой после фашистской провокации с обменом немцев на Петю. По его логике все это обыкновенно, буднично: война не бывает без жертв. Смерть братьев Казюр для начштаба – один из не очень значительных эпизодов. В бою за спасение одного из них погибли десятки людей, комиссар отряда погиб. Переболел этим один человек – он, Антонюк. Он один чувствовал вину, о которой написал теперь неведомый недоброжелатель. Не перед отрядом чувствовал себя виноватым. Не перед партизанами. Перед ней – Мариной. И перед теми, кто погиб в бою. Теперь своей сердечностью, своей заботой о его спокойствии, о его добром имени старая измученная женщина вновь пробудила эту боль.
– Марина Алексеевна, я берег ваших сыновей, держал при себе. На глазах. Я мог и в ту ночь оставить их рядом. Но вы знаете, немцы и полицаи прижали нас к Днепру, надо было прорываться с боем. В той группе, которую послали для охраны лагеря, я думал, хлопцы будут в большей безопасности. Вышло наоборот.
Марина остановила его:
– Не казните себя, Иван Васильевич. Кто знает на войне, где кого смерть стережет. Рассказывали вы, видно, кому-то так, как сейчас мне, а поганец этот, – она взяла письмо, стала не спеша складывать его, как будто собираясь разорвать, – враг этот ваш перевернул все против вас. – Протянула письмо: – Нате спрячьте или сожгите. Зачем тревожить Установку?
Все были за то, чтоб продолжать проверку института, – секретарь горкома, председатель комитета. А комиссия распадалась. «Заболело» двое пенсионеров; один из них, отставной полковник, «безнадежно» захворал в возрасте сорока пяти лет. Неизвестно по чьему приказу отозвали на другую проверку, более срочную, штатного сотрудника комитета. К самому Антонюку стали проявлять невиданное раньше внимание, давая ответственные поручения, не формальные, интересные, от которых трудно было отказаться. Поручали дела по разным линиям – через обком, горком, комитет контроля, комитет по охране природы.
Но старого воробья на мякине не проведешь. Все это – он знал – неспроста. Кто-то где-то тешил себя мыслью, что дело с институтом можно будет «спустить на тормозах» и без того затянувшаяся проверка еще больше затянется, а Будыка не дурак, за это время наведет порядок в своем большом и сложном хозяйстве. И тогда на бюро горкома или на заседании комитета, если обсуждение состоится, о всех ошибках можно будет говорить в прошедшем времени. А это имеет большое значение для выводов: руководитель понял, выправил.








