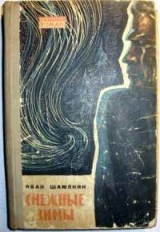
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Я жестко ответил:
«Оставь в покое мою совесть! Перед семьей я отвечу! И перед людьми. Если останусь жив. А сейчас…»
«Сейчас тебе на все наплевать. И на всех! Разве что кроме нее».
«Нет, не на все, Павел. И не на всех. Я прошу: останься. Ее отошлем. Куда-нибудь в безопасное место, в другой район».
Ты язвительно хмыкнул:
«Такая жертва! Ради меня? Что ты, товарищ командир! Как будешь без нее командовать? Погибнет отряд. Нет, лучше уйти мне».
Павел, зачем ты сказал эти слова? Я никому не разрешал издеваться надо мной, ни раньше, ни потом. Нет, потом я стал равнодушен к любым словам. Теперь я думаю: если б принял их спокойнее, с мудростью и рассудительностью старшего человека, который был тебе не только братом, но и отцом, эти слова можно было бы истолковать совсем иначе, сделать мостиком для какого-то примирения, которое помогло бы удержать тебя в отряде. Нет, вряд ли помогло б. Тебя глубоко ранила моя связь с ней. Может быть, мне было бы еще больнее, если б ты погиб у меня в отряде, на моих глазах. Прости мне, Павел, ту вспышку, те глупые слова:
«Ну и катись на все четыре! К чертовой матери! Слюнтяй! Сопливый романтик!»
Прости… Что бы ни случилось, я не имел права так расстаться с тобой, так проводить…
…Странные бывают сны. Этот мой сегодняшний почти точно повторил то, что произошло двадцать два года назад. Всю историю с детьми. Только во сне среди детей почему-то оказался мой Василь, маленький, исхудалый мальчуган, в лохмотьях, с фурункулом на щеке. Тогда там был не один такой. Да, сильнее, несравненно сильнее чувство, которое я вчера не сразу узнал, – тревога за детей, ответственность за них. Во сне – боль. И крик. И гнев в споре… Сперва с тем же Корольковым, как было в действительности, а потом – странно! – с Клепневым. Откуда взялся этот тип? Три раза отчурайся и плюнь, если приснился поп или черт.
В выводах пашей группы контроля надо-таки записать Будыке, что окружил себя подхалимами, людьми, которые в технике ни бе ни ме… Может быть, дойдет до него. А тогда он поддержал меня, Валька. Сам лежал раненый, а поддержал. И это мне снилось. Точно, слово в слово – весь спор, весь разговор. Покуда не влез Клепнев. Ни в каких мемуарах не мог бы, наверное, припомнить все с такой точностью, как во сне… Голоса людей, которых давно нет. Шум пропеллеров. Колючий снег в лицо… Испуганные и радостные глазенки детей в иллюминаторе, когда самолет стал выруливать на взлет. Прощальный круг самолета…
Только после этого, кажется, начался сон: я оглянулся и увидел, что не все дети полетели, что много-много осталось их на заснеженном поле, застывших, голодных, в лохмотьях, и среди них – Вася, маленький Вася. И пронзила такая боль за них, овладела такая тревога!..
В воспоминаниях этого, наверное, пережить нельзя. Странно, что никогда никому не рассказывал про эпизод с детьми.
Моя бригада – уже бригада! – дислоцировалась в глухом районе, далеко от железной дороги и города. Это был наш партизанский район. Бригада несла охрану центрального аэродрома соединения. Полицаи и каратели пытались выбить нас, уничтожить базу и аэродром. Бой длился несколько дней. Фашисты отступили. Но и мы похоронили немало людей, других принесли ранеными. Тех, что полегче, разместили в своих госпиталях. Тяжелые ждали эвакуации. Самолеты прилетали редко. Та вторая наша партизанская зима, сталинградская, не была такой снежной и суровой, как первая. Однако же зима. И в наше мирное время, при современных самолетах и локаторах в аэропортах, оборудованных по последнему слову техники, зимой пассажиры сидят иной раз неделю. А что говорить о том времени, о тех транспортных самолетах! За две недели – один рейс. Самых тяжелых эвакуировали. А раненых не становилось меньше. После известного санного рейда на аэродром привезли своих тяжелораненых минские партизаны. С ними приехал и Корольков, раненный в руку. Каждый день мы отправляли радиограммы – просили прислать самолеты. Почти каждый день получали ответ, что завтра-послезавтра самолет вылетает.
Но напрасно мы дожидались, не спали ночами…
Вот в один из этих дней он и пришел к нам. Его привели в штаб дозорные. Старый простуженный человек с болезненным блеском в глазах. Требовал на всех заставах, в отрядах, чтоб его доставили к самому главному партизанскому начальнику. Он так и спросил с ходу, сразу, как вошел в землянку и со свету с трудом разглядел воспаленными глазами меня за столом:
«Вы главный?»
«Пускай буду я».
«Нет, без шуток. Кто вы? Мне надо знать».
«А не кажется ли вам, что в такой ситуации мы первые должны спросить – кто вы?»
Он не сразу уразумел.
«Мне надо знать… поймите. Жизнь детей… Вы – отцы… Советские люди…»
Старик горячо выкрикивал слова без всякой логической связи.
«Кто вы?»
«Я директор детского дома. В Петровке. Знаете Петровку?»
Еще бы не знать! В местечке этом – полицейский гарнизон, на который мы давно точили зубы. Человек окоченелыми руками расстегивал кожушок, чтоб достать из-за пазухи, какие-то документы, и не мог никак расстегнуть. Теперь он уже заинтересовал меня.
«Так что вы хотите?»
Он рванулся к столу и зашептал отчаянно, надрывно, и шепот этот – точно крик на весь мир:
«Спасите детей! Спасите детей! Они забирают по четыре, по пять и не возвращают моих детей! Что они делают с ними? Товарищи дорогие! Товарищ командир!..»
Сухие, красные от бессонницы глаза наполнились слезами. И такие же слезы я увидел у Королькова, лежавшего рядом на топчане: его в этот день лихорадило от раны или от простуды. Я молчал, понурившись. Директор обращался к нашей гуманности, к высокому долгу перед детьми. Просил. Требовал. Он боялся, что мы откажем, и спешил убедить, захлебываясь словами.
Я долго молчал. Знаю, многие из сегодняшних гуманистов могут спросить: почему? Почему молчал? Разве можно было колебаться? А кто из вас теперь, при мирной жизни, так сразу, не задумавшись, возьмет на себя ответственность за сотню детей? Я должен был взять ответственность за их жизнь. Детский дом – все-таки детский дом, пускай голодный, холодный, под стражей. А бригада – фронт. Кто станет тащить детей на фронт? На передний край, под пули?
Фашисты презрели все законы человечности. На фронте брали в плен. Нас, партизан, расстреливали на месте. Дети в зоне боя, в лесу, считались партизанами, их уничтожали. Это я хорошо знал. Именно тогда, в тот миг, впервые с такой силой почувствовал то, что вчера. Сжалось, защемило сердце.
Выговорился директор. Умолк. Глядит на меня. Так же глядит Корольков. Ждет. Как представитель центра он мог подсказать, мог приказать. Но, пробыв три месяца среди партизан, понимал, что не тот случай, когда следует проявить свою власть.
«Сколько детей?» – спросил я.
«Шестьдесят семь. А было сто восемь. Сто восемь! Куда они забирают моих детей? На что им дети?»
«Вывести ночью можете в лес под Потисню?»
Директор удивился, что я так хорошо знаю окрестности далекой Петровки. Загорелся. Замахал руками.
«Выведем, товарищ командир. Выведем. Мы ведь в имении. Правда, охрана и у нас стоит. Но – свои… Какие там свои! Бобики, сукины дети! Но у нас… у нас… смирные. Они не стоят, а спят в доме. Мы их напоим… И самогоном. И снотворным… Выведем!»
«Кто пойдет с детьми?»
«Трое нас. Всего трое. Я… Клавдия Михайловна. Нет… я вам скажу по секрету. Она – Клара Моисеевна. Наша старейшая воспитательница. Мы маскируем ее и дрожим, что кто-нибудь выдаст… Все же местные. Знают… Но это такой человек! Такой человек! Мать для всех детей. Люди прокляли бы того, кто выдал бы ее немцам. Она и кормит и лечит детей. Да и не только детей. Она зарабатывает для нас хлеб тем, что лечит других, роды принимает. Когда разграбили аптеку, мы кое-что взяли для своего дома. Дети же. Они болеют… А нам надо жить. Тогда мы думали – недолго. Вот-вот вернутся наши. Но когда немцы стали забирать детей…»
«Десять повозок хватит?»
Директор задохнулся от счастья. Когда дежурный повел его на кухню – накормить, Корольков встал и протянул мне левую руку – правая, забинтованная, висела на повязке. До боли сжал мои пальцы.
«Иван Васильевич! Ничего не говорю. Слов не надо! – Он взволнованно прошелся по хате, не выдержал: – Одно скажу: какие люди! Какие люди! Нет, ты только задумайся, комбриг, над этим фактом. Никто не выдает старую воспитательницу, хотя знает немецкий приказ. Даже полицаи боятся… Гнева людского боятся. Матерей, жен, которые никогда не простят. Какой факт! А? Какой факт!»
Для меня он казался обычным. За полтора года войны мы, партизаны, были свидетелями сотни случаев такого вот интернационального единства советских людей. Когда детей привезли, встречать вышел весь штабной отряд, все крестьяне деревни, где мы размещались. А было это – только чуть развиднелось, на рассвете. Скатились они колобочками с саней в своих лохмотьях и удивленно таращились, почему собралось столько народу и почему женщины плачут. А бабы и вправду подняли вой. Хватали малышей, разводили по хатам, чтоб накормить скорей, согреть. Забот прибавилось. А самолеты не прилетали. И погода как будто стояла ничего. Хотя кто знает, какая она была там, под Москвой. Метеосводок не передавали. Однако же полмесяца не могла мести метель. Если б хоть не было обещаний, может быть, легче бы ждалось. А тут еще разведчики донесли, что немцы готовят новое наступление на наш район. У меня лопнуло терпение. Я составил радиограмму:
«Начальнику штаба. Если завтра-послезавтра не будет самолетов ответственность за смерть раненых и детей ляжет на вас. Комбриг Антонюк».
Перед тем как отдать шифровальщику, показал Королькову и Лагуну, комиссару бригады. Корольков побледнел. Дрожал человек перед начальством и за тысячу верст, за линией фронта.
«Ты серьезно?»
«Мне совсем не до шуток».
«Да ты что, субординации не знаешь? Комбриг! Имей в виду: быть советским партизаном – не значит партизанить, как тебе вздумается. Ты член партии. Анархии не разрешим! Запрещаю отправлять такую радиограмму!»
Я послал его… Эх, как он взвился! Чуть до сердечного припадка не докричался. Я приказал позвать врача. Лагун, добрый, умный, но нерешительный человек, уговаривал меня, пока мы шли к землянке, где помещалась рация:
«Наживешь ты себе, Иван Васильевич, неприятности».
«Да я что – ради чинов воюю, ради званий, орденов? Какие у нас с тобой могут быть неприятности больше, чем наступление карателей, чем блокада? Что нам тогда делать с ранеными? Бросить на надругательство фашистам?»
Радиограмма пошла. На следующую ночь прилетел самолет. И Корольков сразу стал – хоть на хлеб его мажь. Чуть не лез целоваться. Сам организовал прощальный обед. Заглядывал в котлы на кухне. И всем «раздавал ордена». А у меня заныло сердце в то утро. Там же на аэродроме, у замаскированного самолета. Сосала какая-то непонятная тревога, или страх, или бог его знает что. Все казалось: что-то я сделал или делаю не так, как надо. Но что? Объехал посты, наведался в отряды, занимавшие самую дальнюю оборону. Нет, все в порядке. Немцев близко не слыхать. Небо обещает летную погоду. Ночью самолет с тяжелоранеными возьмет курс на подмосковный аэродром. И никто его в такую ночь не перехватит, разве что над линией фронта обстреляют зенитки. Но пилот говорит, что это не страшно. Примерно к полудню вернулся в штаб. Сидят Корольков, Лагун, Будыка, врач, пилот. Сочиняют план эвакуации. Проще говоря, составляют список, кого вывезти в первую очередь. Протянул список мне. Долго я читал двадцать каких-то фамилий. Так долго, что они все притихли и насторожились.
Врач сказал:
«Хотели Валентина Адамовича включить, он отказался».
«Да я уже скачу, как заяц», – засмеялся Будыка, стукнув костылем.
Между прочим, и позднее, осенью сорок третьего, он отказался эвакуироваться. Вызывали на совещание начштабов – притворился больным. Все почитали за счастье полететь на Большую землю, а Будыка всячески уклонялся. Но тогда я подумал о другом: «Валька отказывается, хотя такой же раненый, а некоторые рвутся…» С новой силой засосало в груди: что-то тут не так. Но что? И вдруг… В таких случаях говорят – осенило. Я бросил список на стол и сказал: «Этим рейсом полетят Чугунов, Концевой, Файзулин. Им нужны неотложные операции. Клара Моисеевна и дети. Пилот, сколько можешь взять детей? От пяти до десяти лет?»
«Дети? Каких детей?»
«Наших».
«Здоровые? Сидеть могут?» «Могут».
«Да такого гороху человек… тридцать».
«Зер гут, панове офицеры. – весело сказал я. – Так и запишем: летят все малыши».
Но в ответ – лишь более шумное, чем обычно, со свистом и хрипом, простуженное дыхание Королькова да скрип новой портупеи пилота. Будыка взглядом одобрил: правильно! Но ждал, пока выскажется уполномоченный. Лагун тоже смотрел в рот Королькову. А тот молчал. Долго. «Чапай думает», – хотелось мне пошутить. Может быть, он сейчас встанет, пожмет руку, как тогда, когда пришел директор детского дома?
Корольков обдумывал с важностью и значительностью человека, на которого возложена высшая ответственность. И сказал рассудительно и спокойно: «Иван Васильевич, мы понимаем тебя, твои чувства. Мы – все отцы, и первая наша забота о детях, что бы ни случилось, какая бы сложная ни возникла ситуация. Дети – наше будущее. Однако давай все взвесим. Представь, что самолет опять не прилетит неделю, а то и две. Ты слышал, что рассказывает пилот. Все транспортные машины брошены под Сталинград добивать Паулюса. Вот и думай… А в это время Швальде начнет наступление. И вдруг окажется, что вам придется отойти. Война есть война, особенно партизанская. Детей можно раздать по селам. Селяне их смело возьмут, их легко выдать за своих. Да кто будет детей искать? А раненые… Куда ты денешь раненых? Наконец, ты уверен, что сами раненые нас поймут? Им известно, что прилетел самолет, и каждый мечтает поскорей оказаться на Большой земле, в госпитале. Ты не знаешь психологии раненого».
Его тут же поддержал наш бригадный врач Вапняк. Мы уже привыкли: чуть что не так, доктор сразу ставит ультиматум. Я не раз грозил ему, что расстреляю за такие ультиматумы, но на него это мало действовало. Он и тогда начал с заявления, что, если эти раненые – прочитал фамилий пятнадцать – останутся в наших условиях еще хоть на один день, он слагает с себя обязанности главного врача. Можете расстреливать его, можете вешать – как вам больше нравится. За ним – Лагун, добренький, деликатный. Напомнил, что в отряде живет ребенок, которому всего второй годик, – Вита! – и ничего, здоровенький растет. Одним словом, намекнул перед отлетом уполномоченному, в каких отношениях командир бригады с матерью этого ребенка. Капнул. Но меня это мало тронуло, потому что тайны я не делал.
Будыка сказал, что он не может согласиться, будто все раненые рвутся лететь. Давайте спросим – добрая половина откажется. Те трое почувствовали: начштаба – мой союзник, и стали убеждать его. Я молчал. Может быть, не перебродили еще мои ощущения, не созрела тревога. Меня переубедили. Я сдался. Без боя. Только взял с Королькова обещание, что он добьется, чтоб выслали специальный самолет за детьми. Был торжественный обед. Пили спирт. Провозглашали прощальные тосты, серьезные и шуточные. На стол подавала Надя. Пили за ее здоровье. Захмелевший Будыка целовал ей руки. Пьяный Валька всегда лез целовать Наде руки и признаваться, что он женился без любви, но никогда не изменял жене. Однажды я дал ему за это по морде – за намек, что он лучше меня, грешного.
Кажется, все шло как положено. Все были довольны. И я тоже. Правда, особой веселостью не отличался на этом обеде, однако и не сидел темной тучей. То утреннее тревожное чувство, верно, уснуло, опьянев. После обеда Корольков, Будыка спали – люди раненые. А я вышел на улицу засыпанной снегом лесной деревушки. Поглядел на близкий лес – наш, и на далекий – с другой стороны, – что синел за полями; за ним, за тем лесом, враг. Поближе к деревне – посадочное поле. Там в березняке замаскированный самолет, который мы так долго ждали. Когда прилетит следующий? И снова засосала сердце тревога. А тут еще и они, детдомовцы, попались на глаза. Несколько мальчишек вместе с деревенскими тащили из лесу на саночках хворост.
Был мой приказ – помочь крестьянам заготовить и перевезти топливо. Почему дети возят на себе? Крепко досталось коменданту и командиру штабного отряда. Заглянул в госпиталь. Под поветью легкораненые глушат самогон. Вапняк, хитрюга, знал, когда можно спорить, предъявлять ультиматумы, а когда надо молчать. Стоял навытяжку: «Слушаю, товарищ комбриг!»
Вскочить разве в седло – и в дальний отряд? Пускай провожают самолет без меня. Зашел в хлев, постоял возле своего Гнедого, погладил его, нетерпеливого, горячего. Конь рвался на простор. Пусть бы летели ледяные искры из-под копыт! Надя боится моих поездок – в отрядах теперь много девчат. О, женская душа! Уже ты присвоила меня и ко всем ревнуешь. А сама заливаешься краской, когда начштаба целует тебе руки. Наверное, приятно. Хотелось "завести" себя, разозлиться на всех и вправду махнуть в лес одному – пускай ищут комбрига! Нет, ничто не трогало, ничто не "заводило". Все отлетало в сторону. Одно стояло перед глазами, сжимало сердце: дети. Как их привезли, застывших, испуганных и обрадованных, что они среди партизан, как Надя кормила сразу троих, самых маленьких, годиков по пяти, а я помогал ей. И раненый Будыка помогал. Прыгал на костылях перед малышами. Хотел рассмешить. Дети не смеялись. Глядели грустно, с жалостью. Они все понимали. Знали, что такое раны, И Надя опять заплакала от этих их взглядов. Дети оттаяли только тогда, когда перед ними появилась живая кукла – маленькая Вита. С ней все играли, как дети. Да. Вита растет в отряде. Но какой страх переживаю я во время каждого боя! За нее одну. А если за всех? Однако нельзя не согласиться с Корольковым, с Лагуном: раненые есть раненые, они наши бойцы, наши товарищи. Разве я враг своим людям?
Поехал на аэродром. Красное морозное солнце скатилось в лес. Снег посинел. Пилот и штурман прогревали моторы. Вскоре в аэродромную землянку привезли первых раненых. Не очень тяжелых. Тяжелых должны были привезти к самому отлету, чтоб прямо из саней – в самолет. Вот тогда созрело это мое чувство и сорвалось, как яблоко с ветки, неожиданной командой: «Отставить возить раненых. Передать директору, Кларе Моисеевне, – собрать детей! Кому меньше десяти!»
Через полчаса на аэродром примчались уполномоченный, комиссар, начштаба. Теперь уж Корольков кричал на все поле, обвиняя меня во всех грехах, сущих и мнимых. «Как уполномоченный центра я отстраняю вас от командования бригадой. Товарищ Лагун, примите командование!»
Я спокойно показал ему дулю. Он меня будет отстранять! Где ты был в сорок первом? Корольков схватился за кобуру. Но у меня пистолет был ближе. Комиссар бросился между нами. Просил. Умолял. Корольков приказал пилоту:
«Не слушайтесь этого человека! Я – представитель центра! Самолетом могу распоряжаться только я!»
Пилот обозлился.
«Пошли вы!.. У меня своих командиров хватает! Я – извозчик. Повезу, кого погрузят».
Погрузили пятерых тяжелораненых и детей. Правда, меньше, чем я рассчитывал, – самых маленьких и больных. Корольков попытался подняться в самолет, чтобы лететь вместе с детьми, но я стал у трапа.
«Вы, товарищ Корольков, не тяжелораненый и можете подождать. Вам это будет полезно. Подумаете, остынете».
«Ну, бандюга, ты этот день будешь помнить до конца жизни», – пригрозил он мне.
Я помню тебя, Корольков. Помню. И знаю, как ты хотел меня съесть. В первый раз промахнулся. А потом слишком долго ходил вокруг да около, прицеливался и… опоздал. Наступили времена, когда тебе только и осталось, что помочь отправить меня на почетную пенсию. Не более. А теперь укуси ты меня… Тогда мы тебя славно-таки остудили. На твое счастье, следующий самолет прилетел скоро, дня через три-четыре. Через месяц меня вызвали в Москву. Валька Будыка посоветовал тишком:
«Не лети. Дадим радиограмму, что лежишь с воспалением легких».
Я и в самом деле немножко грипповал. Никогда не был я трусом, но в тот раз послушался инженера, не полетел. Лагун, который слетал, вернувшись, высказал обиду, правда, будто бы шутя: «Испортил ты, Иван Васильевич, нам с начштаба карьеру. Говорили авторитетные люди, что на нас, всех троих, были подготовлены наградные листы – на золотые звездочки».
Тогда Будыка смеялся. А теперь что-то часто вспоминает эту неполученную звездочку…
– Киев-пассажирский. Стоянка двадцать минут.
О, это я столько провалялся! Выйду взгляну на тебя, «мать городов русских».
Глава V
Иван Васильевич надеялся, что Крым встретит его солнцем, сверкающим на голубой, как небо, морской глади, слепящим глаза. Ему очень хотелось солнца. И ласкового моря. Но все было иначе. В небе – тучи, низкие, тяжелые. Стремительно несутся куда-то. Было в их полете что-то устрашающее: всей кажущейся тяжестью своей тучи наваливались на горы, срезали их, растворяли, сносили. А ведь там, на вершине, ближе к солнцу, люди, его сын. Сеялся зимний холодный дождь, мелкий, неровный, дождевые капли разбивал сильный восточный ветер. Раскачивались, гнулись мачты пирамидальных тополей, ветер ломал ветви миндальных деревьев. Стонали провисшие провода. На все это – на шум дождя, свист ветра, треск деревьев – наслаивался близкий, непрерывный, как шум водопада, грохот моря. Оно видно за аллеей молодых кипарисов, за пустыми серо-белыми зданиями дома отдыха. Оно как бы поднялось над деревьями, над домами, вздыбилось до самых туч. Пока еще с этой водяной горы катятся сюда на берег валы легкой, как крылья гигантских чаек, пены. Но чудится: миг, минута, час – и все море, поднятое неведомой силой к небу, обрушится на землю, да еще потянет за собой тучи, и смоет разом и эти маленькие домики, и сиротливо-убогие деревца, и почерневшие от дождя столбы, и ограды из ноздреватого ракушечника, и его, одинокого путника на мокром, наклонном здесь, на повороте, асфальте. И пускай. Ничего не жаль в этой тоскливой пустыне. Можно пожалеть разве что эту аллею зеленых кипарисов над самым морем.
Прошлым летом здесь отдыхали жена и Лада и потом восторженно расписывали это местечко, как самый лучший уголок на всем побережье Черного моря. Матери понравилось здесь, конечно, потому, что она два раза в неделю виделась с сыном. По этой причине малоцивилизованное побережье показалось ей лучше всех самых фешенебельных курортов. А что понравилось Ладе, ультрасовременной, рационалистически настроенной девушке, которой кажется смешным сантиментом умиление перед чем бы то ни было – перед лесом, морем, цветами, птицами, детьми? Однако же понравилось. Что?
Иван Васильевич остановился, огляделся еще раз. Слева, повернувшись глухими фасадами к суше, откуда на них смотрят люди, туристы, – вульгарные корпуса пансионата, того самого, где жене и дочери с великим трудом удалось получить – не комнату! – балкон, над которым не капало. Какие чахлые деревца вокруг этих обрюзгло-мокрых, как покинутые старые корабли, строений! Как будто листья на этих деревцах объели «дикари». Чуть правее – сад, единственное, на чем хочется задержаться глазу, особенно на зеленых кипарисах. И домики под ними – маленькие, белые даже в такую морось, уютные. Лада возмущалась, что художники – черт бы их побрал! – не пускали пансионатчиков и «дикарей» в свой сад.
Молодежь мстила им: собиралась на побережье и устраивала часов до двух-трех ночи такие концерты, что солдатам в горах за много километров не спалось. Пузатые классики приходили слушать эти концерты, а назавтра жаловались местной милиции, что им не дают спать и они не могут творить свои бессмертные шедевры. Лада умела рассказывать об этом особенно забавно. Старый друг Антонюка, писатель, который когда-то отдыхал в этом доме, покатывался со смеху, слушая Ладин рассказ. Может быть, дочери здесь потому и понравилось, что она получила свежую пищу для насмешек. Хотя там, где солнце и море, юность и песни, не может не быть хорошо и весело. Верно, и он, старый скептик, сумел бы оцепить первобытную красоту этого уголка, если б все вокруг – горы и море – было залито хотя бы холодным ноябрьским солнцем. И если б были люди. А то – насколько видит глаз – мокрая дорога и глинобитные домишки поселка: ни живой души. Диво ли? В такую погоду хороший хозяин собаки не выгонит.
Иван Васильевич почувствовал, что устал. Это с ним редко случалось даже в последние, пенсионные, годы. Захотелось вдруг зайти в один из этих белых домов в саду, затопить там печку, если она есть, и сидеть у огня, слушать грохот моря, свист ветра и спокойный шелест своих воспо-минаний. Он посмеялся над собой: вот уж поистине пенсионерские мечты!
А вот почта. Иван Васильевич сразу узнал ее. Издалека. Вообще многое удивительно знакомо, как будто он был тут уже когда-то давно и после того, первого, посещения кое-что не узнает – изменилось, выросло, застроилось, но многое осталось, как было. О почте тоже рассказывала Лада. Она любила приходить сюда читать объявления. Каких тут только не было!
«Ищу спутника (лучше спутницу) до Ленинграда на мотоцикл. Желательно, чтоб вес пассажира вместе с чемоданом не превышал 70 килограммов».
Антонюк зашел в домик почты. Пусто и холодно. Только запах непривычный, не клея, не бумаги, а вяленого винограда. От этого запаха стало веселей, будто от солнца, от молодого вина. За лето тут привыкли к незнакомым людям. Две сотрудницы не обратили на него никакого внимания. Одна, постарше, забивала посылки, ловко орудуя молотком, – прямо мастер, будто всю жизнь загоняла гвозди. Она держала гвоздики во рту. И на приветствие посетителя ответила легким кивком. Должно быть, это от посылок пахло виноградом, но почему она сама забивает? И не одну, не две?
Над дощатым барьером возвышался затейливый стожок пышных, обесцвеченных перекисью волос. Стожок даже не шелохнулся в ответ на его приветствие. Иван Васильевич заглянул за загородку и увидел милую и простую девичью мордочку, склоненную над вдрызг зачитанной книгой. Такие девчушки, начинающие модницы, знающие себе цену, любят покрасоваться веред каждым новым человеком, а потому обычно приветливы и говорливы. Многоопытный Антонюк редко ошибался в людях. Вот почему он и обратился к молодой красотке, любительнице старых романов. Осторожно кашлянул над стожком. Девушка даже не взглянула.
– Прошу прощения. Вы не могли бы сказать, как мне пройти в воинскую часть… – Он назвал почтовый номер, который указывали на конвертах.
Красотка глянула одним глазом и грубо ответила:
– Мы не справочное бюро.
– Я понимаю. Но… я приехал навестить сына… Он здесь служит…
– Пускай бы ваш сын и написал, как его искать.
– Он написал, что надо ехать сюда…
– Зайдите в поселковый Совет, – посоветовала старшая, прекратив работу и через барьер подозрительно оглядывая не самого Антонюка, а почему-то его ноги, сапоги.
Ивану Васильевичу стало обидно. За девушку.
«Я понимаю, ты, может быть, не имеешь права сказать, как пройти к части, хотя сотни отдыхающих ходили туда. Лада рассказывала, что нахальные девчонки чуть ли не через забор лазили. Но если ты сознаешь, что живешь на морской границе, и знаешь, что нужна бдительность, то прояви хотя бы ее – заинтересуйся мной, погляди в лицо. Неужто ты так зачерствела на своей работе, что потеряла всякий интерес к людям?»
– Можно оставить у вас чемодан, чтоб не таскаться с ним?
– Мы – не камера…
– Деточка! А нельзя ли отвечать более любезно и приветливо?
– Я вам не деточка! – опять-таки не отрываясь от книги.
– Простите. Но неужели вам так хочется испортить мне настроение, старому, усталому человеку?
Только тогда девушка обернулась к нему, посмотрела хорошими, чистыми глазами и… покраснела.
«Слава богу, не все еще в тебе погасло», – вздохнув, подумал Иван Васильевич.
Старшая сказала:
– Давайте ваш чемодан. Но мы только до пяти.
– Я до пяти вернусь.
Лада рассказывала так подробно, давала такие ясные ориентиры, что он, наверное, нашел бы Василя, ни у кого не спрашивая. Конечно, если б горы не окутались тучами и если б видна была та горная тропка, что сразу за поселком ведет по голому склону к гряде горного дубняка, и скала, напоминающая человека, и антенна на вершине…
А так – надо идти вслепую.
Иван Васильевич сразу же за виноградником повернул с шоссе на вытоптанную тысячами ног широкую, с добрую дорогу, тропу и… полез в горы. В самом деле, не шел, а лез, потому что тропка была скользкая, из-под камней и гравия текла синяя глина. Чем выше – тем сильней сек щеку колючий дождь. Хорошо, что предусмотрительная жена положила в чемодан плащ. Но плащ, свитер, сапоги – это не для хождения по горам. Вспотел. Почувствовал сердце. Оно сигналило, как бы предупреждая: осторожно.
Да, осторожно – тебе не двадцать два, как Ладе. Она и ее друзья здесь бегали. Правда, они были в купальниках и тапочках и прыгали, как козы по сухим камням. Однажды поднялись сюда ночью и расположились на ночлег возле самого поста. Их обнаружили. И отвезли на машине в долину, к морю. Ладины товарки перепугались. «Посадят на гауптвахту, – посмеивалась Лада. – Суток на десять».
Лада не ведает страха, ничего не боится. Свободный человек. А Василь? Нет, и в ней таится страх, над которым она иногда посмеивается, а иногда, как позавчера, задумывается всерьез, – за судьбу человечества; ей, физику, лучше, чем кому-нибудь, известна разрушительная сила оружия, которое лежит в арсеналах.
А Василь? Что думает сын? Он кажется таким далеким, незнакомым, неразгаданным. От этого, верно, и ощущение своей вины перед сыном. Нелепо, что сына он понимает хуже, чем многих чужих детей. Человек поднялся в облака. На несколько шагов вокруг видны земля, камни, редкие кусты, а дальше, внизу, вверху – со всех сторон – туманная мгла. Скрылся поселок. Не видно моря, но грохот его не стал дальше. Волны бьют в скальный берег совсем рядом, как будто под ним. Может быть, он идет над обрывом, о котором рассказывала Лада? Неосторожный шаг – и в бездну, волны слижут мертвое тело с узкой прибрежной полосы, с обкатанной до гладкости гальки, море проглотит его, и никто никогда не узнает, куда девался человек. Фу, какая чертовщина лезет в голову! Однако в самом деле, так ли он идет? Вот горный дубняк, низкий, голый: кое-где ржавый, как старая жесть, листок – он перезимует на ветке. Но в дубняке не одна тропка, люди тут ходили кто куда. Какая же из них ведет к сыну?








