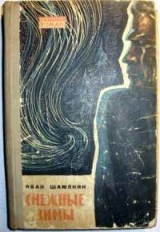
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Иван Петрович Шамякин
Снежные зимы
О месте человека в жизни
Предисловие к романам Ивана Шамякина? А необходимо ли оно, когда речь идет об одном из наиболее читаемых, популярных советских писателей? В самом деле, «Глубокое течение», «Криницы», «Тревожное счастье», «Сердце на ладони» – кому не памятны, не дороги эти и другие его книги, сопутствующие нам на протяжении ряда послевоенных десятилетий?
И все-таки… Произведения художника обеспечиваются его биографией, жизненным и духовным опытом (в котором преломляется, безусловно, опыт социально-общественный), свойственным ему чувством пути, а также непрерывным движением самой литературы, что в своей совокупности также находит отражение в книгах и вынуждает сказать несколько слов…
Имя Ивана Петровича Шамякина читатель впервые встретил в 1945 г. в журнале «Полымя», где он напечатал свою повесть «Месть», в которой попытался – и довольно успешно – раскрыть характер советского воина-гуманиста, воина-победителя, его идейно-нравственные убеждения, человечность, что возвышает его и противостоит человеконенавистнической морали поверженного фашизма.
С тех пор военная тема прочно закрепилась в его творчестве. Непосредственному участнику Великой Отечественной войны, И. Шамякину отнюдь не понаслышке знаком и понятен героизм советских людей, духовно-патриотические истоки народного подвига. В этом убеждает и «Глубокое течение», появившееся в 1948 г., и один из самых последних его романов – «Возьму твою боль», написанный тридцать лет спустя.
«Война, – говорит писатель, – прошла по нашей земле дважды – с запада на восток, с востока на запад. Было разрушено двести девять городов, сожжено девять тысяч двести деревень, погиб каждый четвертый! Литература не имела бы права называться литературой, если бы не воплотила социально-исторический и нравственный опыт Великой Отечественной войны».
Но что характерно – военная тема у него не выступает сама по себе, вне связи, с проблематикой сегодняшнего дня. Даже там, где – как, например, в повести «Торговка и поэт» (1975) – непосредственно о сегодняшнем дне речь не идет. Творчество Шамякина находится в силовом притяжении двух тематических полюсов: минувшая война и, в еще большой степени, современность. Нередко эти «полюсы» сходятся в одном произведении, укрупняя масштаб личности героя, давая возможность полнее и убедительнее исследовать его характер и обстоятельства, в которых ему приходится действовать.
Яркий пример такого произведения. – роман «Снежные зимы», где автор дает социально-нравственный срез времени, сталкивая честных людей с подхалимами и трусами. Чтобы полнее и ярче «высветить» их характеры, автор формирует второй план романа – реконструирует военное прошлое своих героев. И этот прием оказывается весьма плодотворным.
Военный материал, жесткие обстоятельства той памятной поры лихолетья помогают в более острой постановке и освещении фундаментальных проблем человеческой личности, связанных с ее идейными и моральными убеждениями. Анализируя взаимодействие личности и общества на современном этапе, писатель стремится ответить, как, в чем изменился человек, насколько он сохранил генетическую связь с днем вчерашним.
Главный герой «Снежных зим» – крупный специалист-аграрник Иван Васильевич Антонюк, командовавший в войну партизанской бригадой. Он привлек внимание писателя, когда оказался на пенсии, – так сказать, не у дел. Правда, пошел он на пенсию досрочно и не по своей воле: его «отправили», сняли с должности как «травопольщика». Впору было обидеться, отгородиться от мира, замкнуться в себе. Но не таков этот человек. Не чувство личной обиды движет его поведением, а желание участвовать в большом деле, активная жизненная позиция.
Бескомпромиссность – отличительная черта Антонюка, противостоящего таким людям, как Будыка, Клепнев и их окружение, для которых личная выгода и слава превыше всего. В образе Будыки автор продолжил начатое еще в романах «В добрый час» и «Криницы» исследование характера человека, видящего в общем деле лишь плацдарм для воплощения собственных честолюбивых устремлений. Писатель всегда придавал большое значение нравственному содержанию конфликта, который в романе отражает борьбу между социалистической моралью и мелкобуржуазными, мещанскими взглядами. Автор широко, остро трактует этот, в общем-то традиционный для советской литературы конфликт. Антонюк привлекателен тем, что не только борется со злом, но и остро ощущает личную ответственность за все, что происходит вокруг.
В настоящем двухтомнике собраны произведения, созданные в 60—70-е годы. Что – в плане социально-художественном – наиболее характерно для этих произведений? Прежде всего – острая постановка проблем, сгущение моральной атмосферы, в известном смысле исключительность обстоятельств, внутренний динамизм, необходимость для героя искать новые подходы, принимать самостоятельное решение, делать выбор. Успех И. Шамякина не случайный. Его произведения затрагивают серьезные и волнующие современников духовные и нравственные вопросы сегодняшней жизни. «Мне близка современная жизнь», – сказал он в одном из интервью. Писатель неустанно включает в кругообращение современной литературы новые явления, новые стороны действительности, типические конфликты времени.
В нынешних условиях резко возросла ответственность литературы в сложном деле воспитания человека, в охране и обогащении его духовности, внутреннего мира. И. Шамякин внимательно всматривается в жизнь, обнаруживая в ней интересно и характерное, опираясь при этом на точные данные социологии и статистики. Панорама современности широко воссоздана и в романе «Атланты и кариатиды». Главный герой его – архитектор Максим Карнач – яркая, талантливая личность. В этом образе отразилась созидательная деятельность советского человека 70-х годов, процесс его идейно-морального, интеллектуального роста, более глубокие взаимоотношения с обществом, эпохой, историей, смелость в осуществлении творческих планов. В Карначе, как и в Антонюке, нам дорог масштабный характер, обусловленный различными сторонами общественной жизни и труда, дорог человек, которого не оставляет чувство ответственности и в котором отражается гражданская зрелость общества.
Карнач непримирим к таким людям, как Игнатович, Макоед. Конфликт между ними – это конфликт между мировоззрением передовым и мещанским, которое находит выражение в бюрократизме, приспособленчестве, бездуховности и т. д. Писатель ведет настойчивую «разведку боем», стремясь показать – в быту, в отношениях между людьми, в человеческих судьбах – то новое, перспективное, гармоническое, что составляет нравственный потенциал личности. Романист делает плодотворную попытку разобраться в сложностях жизни, сказать свое слово об НТР, выявить типические конфликты, добавить нечто новое в освоение действительности.
Осмысливая жизнь с нравственной точки зрения, Карнач, как и Антонюк, проявляет значительные духовные возможности, которые обнаруживаются в активных поисках своего места в жизни, в способности встать выше своего собственного благополучия. Правда, характер Карнача, может быть, в чем-то и противоречив. Редко, но случается, что гражданственная последовательность его поступков подменяется «пробивной силой» личной обаятельности. Не все можно одобрить в его интимных отношениях.
Главная причина популярности И. Шамякина, как мы уже отмечали, – в его живой связи с современностью, чуткости к движению общественной мысли. Таким – чутким к современности – он остается и в повестях «Торговка и поэт» и «Брачная ночь», хотя обе они посвящены теме войны, бессмертия народного подвига. Впрочем, то, что тема Великой Отечественной и в наше время остается по-прежнему актуальной и злободневной (и не только в творчестве Шамякина), не надо доказывать. Ее духовно-воспитательное значение неисчерпаемо. Как раз с темой войны связаны наиболее впечатляющие достижения белорусской прозы: поэзии, драматургии, публицистики. Однако литература постоянно ищет новые познавательно-эстетические подходы к традиционным темам, новый материал, свежую, обусловленную современностью точку зрения.
Повести И. Шамякина, о которых идет речь, современны в таком смысле. Критика справедливо заметила, что именно повесть является сегодня тем жанром, который находится на передовой линии поисков и таким образом помогает прокладывать пути более крупной форме – роману, эпосу и т. д. Экспериментально-поисковый момент в значительной степени свойственен и названным повестям И. Шамякиыа. Опытный романист, зрелый прозаик, он не довольствуется достигнутым, настойчиво ищет новых путей в осмыслении героических пластов нашей истории. И это, видимо, тот случай, когда эксперимент целиком оправдан.
В чем новизна творческих поисков художника?
Прежде всего, в его обращении к тому, казалось бы, ординарному, в чем-то даже отрицательному типу, который неожиданно оказывается способным на геройские поступки. Рассказывается в повестях о характерах достаточно сложных, противоречивых, внутренне конфликтных. Речь идет об Ольге Ленович («Торговка и поэт») и Маше Петровой («Брачная ночь»). Они, безусловно, отличаются своими социально-идейными, нравственными «параметрами», однако есть в них и что-то общее. Обе они – и Маша, и особенно Ольга – героини отнюдь не «голубые», как иногда называют идеального героя. И здесь, в известной степени резонно, может возникнуть вопрос: а стоило ли ставить их на «должность» положительных героев? Ответ можно дать только с учетом таланта писателя, его опыта и творческих возможностей – они у И. Шамякина как раз весьма значительны. И самое главное – с учетом его позиции художника-исследователя, аналитика, который стремится дойти до истоков явления. Автор стремится проследить, как, при каких условиях освобождаются положительные потенции человека, лучшее, на что он способен, наступает тот, иначе говоря, момент, который называют его «звездным часом». Такой момент в конце концов наступил и для Ольги Ленович, и для Маши Петровой.
И. Шамякин всегда был мастером сюжета. Это – ценная сторона его творчества. Сюжет повести «Торговка и поэт» – это рост и организация характеров Ольги Ленович и Саши Гапонюка. Он – один из инструментов психологического исследования, который виртуозно используется автором в глубоком раскрытии человеческих характеров и обстоятельств, среди которых приходится действовать его героям. Арсенал художественно-эстетических средств писателя подчинен желанию правдиво показать современника, его борьбу за светлые идеалы.
В одном из дневников И. Шамякина читаем: «Для меня самая большая честь – написать хороший роман». Примечательная запись! Пожелаем ему дальнейших успехов на этом пути.
В.Гниломедов
Глава I
Зубр стоял под старыми елями, комли которых обросли седым мхом. В этом глухом углу пуща вся первобытно-замшелая: ели выглядят, будто простояли тысячу лет, старые пни – под толстым слоем мха, а внутри все превратилось в труху. Редкие выворотни напоминают доисторических животных.
Потому, должно быть, властитель пущи показался Антонюку еще одним выворотнем. За день скитанья по лесу попалось их немало, самых диковинных. А может, потому, что он глубоко задумался? В лесу всегда хорошо думается. Лес успокаивает, разгоняет тревогу, волнения. Не раз уже случалось, что неприятности, вчера еще казавшиеся чуть ли не трагедией, после такой вот прогулки по лесу и раздумий под шум деревьев или под шелест опавших листьев под ногами оказывались мелкими, не стоящими серьезных огорчений. Перед величием леса, его древней мощью человеческие конфликты, горести, заботы, особенно нынешние – мирного времени, – представали совсем в другом свете. Так было полтора года назад, когда он приехал сюда после того, как его, крепкого, здорового, спровадили на пенсию. Тогда он был в отчаянии. А побродил по пуще – и назавтра почувствовал, что может посмеяться над свалившимся «горем», перестал сочинять филиппики против своих недругов и тех, кто смущенно молчал, хотя и понимал, что вся его, Антонюка, вина лишь в том, что он говорил то, что думал.
Сейчас никаких неприятностей не было. Он приехал сюда просто отдохнуть. Никаких серьезных раздумий. Разве что о детях. Всегдашняя его забота – дети. И однако же чуть не поцеловался с царем пущи. Застыл в нескольких шагах, когда зубр медленно повернул голову. Теперь они смотрели друг на друга, человек и зверь.
Неприятный холодок пробежал по спине. А что, если зубр бросится? Что делать? Стрелять? Не имеешь права. Да и заряд не на такого зверя. Утром отказался от охоты на дикого кабана, на которую приглашал директор заповедника. Заряд у него на тетерева. Удирать? Представил, как он, старый человек, будет бежать, петляя между деревьями, продираясь сквозь молодой колючий ельник, чтоб спрятаться. С иронией подумал: «Никогда ты, Иван, не бежал ни от каких «зубров». Отступать – отступал. Перед более сильным, перед врагом… да еще иной раз обходил стороной дураков».
День – по-осеннему хмурый, под шатром елей почти вечерний полумрак, и невозможно разглядеть глаза зубра: что они выражают? Рассказывали егеря: такие быки, отбившиеся от стада, ведут себя, как шальные, – кидаются ни с того ни с сего. Особенно обиженные матерым самцом. Но этот, кажется, немолод. Шерсть на высоком хребте безобразно всклокоченная, грязно-бурая, под выгнутой шеей висит клочьями, как бывает весной, когда зверь линяет. Однако рога по-молодому острые. Такой рог проткнет насквозь.
Зубру захотелось одиночества. Ему, Антонюку, тоже вчера хотелось одиночества. Хотелось послушать осенний лес – как падают последние листья, как шуршат под ногами… Послушать самого себя. Только в лесу это удается. И с утра весь отдался лесу, его грустному настроению. С ним говорил. С лесом. С людьми – не с кем. Отдалились все те, с кем когда-то спорил, ссорился, кому доказывал свое. Спорил в кабинетах, в залах и здесь, в лесу, мысленно, блуждая один, как тот зубр.
Теперь полная ясность и полный покой. Но это мало утешает. Понимал: подходит осень. «Отговорила роща золотая». Да, видно, отговорила. Что ж, Иван, ты неплохо пошумел. Во всяком случае, перед детьми не стыдно. Перед детьми…
Еще несколько минут назад хотелось поглубже забраться в пущу, где-нибудь на первобытной полянке между вековых сосен разложить небольшой костер и до вечера сидеть, чтоб надолго насытить жажду одиночества, чтобы месяцы – до следующего «приступа» – носить в себе шум леса и дыхание осени. А тут вдруг – после встречи с зубром, что ли? – захотелось к людям. Раньше это не приходило так скоро. Переход в новую стадию старости, очевидно? Иван Васильевич догадался, кто стрелял. В пуще стрелять можно только по разрешению, а разрешение такое не каждому дается. Еще вчера с вечера знал, кто приехал сюда на короткий отдых. Директор заповедника предлагал присоединиться к гостям.
– А то там одни теоретики, разговорщики, как наш друг Будыка. Без тебя да без меня, – а у меня завтра дела, – они ноги собьют, а кабана не убьют.
– Нет, брат, не тот уровень, – он ответил просто так, чтоб не поддаться охотничьему соблазну и побыть в лесу одному. А директор, наверное, решил, что сказал он это с горечью, из-за своего положения, и деликатно перевел разговор на другую тему.
Сейчас он не думал ни о каких уровнях и спешил туда, где звучали выстрелы, чтобы оказаться среди людей. Как вчера хотелось одиночества, так сейчас неведомо почему потянуло в компанию, где будут новости из «высоких кругов»2 шутки, хороший обед. Необычайная способность ориентироваться в лесу – товарищи по охоте называли ее «собачьим нюхом» – вывела точно, как по азимуту. Вышел на просеку и увидел их, веселых, возбужденных удачей. Будыка углядел его издалека, удивился, спросил сперва будто и не слишком приветливо:
– О, и ты тут? – И вдруг обрадовался, вскочил, пошел навстречу, прихрамывая, – натер ногу. – Товарищи! Старейшина нашей охотничьей корпорации – Иван Васильевич. Он должен зарегистрировать ваш рекорд, Сергей Петрович. Прошу знакомиться. Мой партизанский командир. Нет, ты погляди, какого мы кабана ухайдакали. А свалил Сергей Петрович! Охотничье счастье, оно как деньги – есть так есть, а нет так нет. У Сергея Петровича оно есть. Нет, ты посмотри, какой зверь! А-а? Что? Завидуешь? Глядите, как у Антонюка блестят глаза!
Будыка поздоровался и, не выпуская руки, потянул Ивана Васильевича к компании, как будто тот упирался и не хотел идти. Гости, видно, здорово обезножели, потому что все до одного сидели или лежали на сырой и холодной уже земле вокруг убитого кабана – как дикари, что застывают в нетерпеливом ожидании, когда старейший начнет делить добычу. Никто не спешил отозваться на предложение Будыки знакомиться, только лениво повернули головы. Свои, Сиротка и Клепыев, заулыбались. Гости оценивали нового человека: верно, определяли, что за птица, какого ранга. Партизанский командир – через двадцать лет это уже мало что говорит. А другого титула Будыка не назвал.
Иван Васильевич подумал:
"Не рассчитывайте, что я пойду по кругу и буду знакомиться с вами, лежащими, буду первый протягивать руку. Не дождетесь, уважаемые".
И поскольку Будыка тащил его к охотничьему трофею и, по сути, приглашал в первую очередь познакомиться с ним, Антонюк так и сделал – отдал все внимание убитому зверю. Кабан лежал под дубом, ощерив желтые клыки, изо рта сочилась струйка еще свежей крови. Но убит он был не здесь, сюда его подтащили; туша прочертила широкий след-стежку, раздвинув листья, раздавив желуди, содрав мох с корней, оставив узенькую полоску крови, уже не красной, а рыжей, как ржавчина.
– Признавайся, завидуешь? Скажи правду! Сергей Петрович, завидует! Посмотрите па него! А если завидует такой стрелок, как Антонюк… – Будыка хлопал кабана по боку. – Нет, ты оцени. С двух выстрелов свалить такого слона! И не близко. Показался в тех кустах, а Сергей Петрович за тем дубом. Вон там. Сколько метров? Прикинь!
Антонюк прикинул. Всё. Одним взглядом опытного охотника и еще более – искушенного человека, который все видел, сам бывал при разных обстоятельствах и хозяином и гостем. Удивить его чем-нибудь трудно. Но подивился – ловкости и уменью друга своего.
Видывал Антонюк организованные охоты, в которых загодя расписывался каждый выстрел – где, когда, с какого расстояния – и зверя чуть ли не привязывали. Потому подумал, что многие из тех охот, в организации которых и он иной раз участвовал, были, мягко говоря, бездарны по сравнению с этой. Там все было белыми нитками шито, и сами организаторы потом рассказывали об этом анекдоты. Об этой же охоте анекдотов, пожалуй, не расскажешь. Однако Иван Васильевич не удержался, спросил:
– Сколько егерей гнало? Будыка засмеялся.
– Ох и зануда же ты, Иван! Один. Змитрок. Пошел звонить, чтобы пришли машины.
Да, черт возьми, это надо уметь – предоставить гостю все сто охотничьих мук и радостей! Поводить его с рассвета так, что он шевельнуться не может, а потом, под вечер уже, выгнать дурака кабана точно на него, на гостя, а не на кого другого. Такой азартный охотник, как Сиротка, не удержался бы, как с ним ни договаривайся, бьет он без промаху. Так нет же – единственный настоящий охотник не мог даже выстрелить, был блокирован. Недаром лежит такой мрачный.
Антонюк повернулся к гостю:
– Поздравляю.
Человек, которому тоже давно уже перевалило за полсотни, министр, заснял от счастья, как ребенок. (Все мы на охоте, на рыбной ловле – дети.) Сразу встал. Крепко пожал руку Антонюку, задержал дольше, чем требует вежливость, внимательно вглядываясь в лицо умными карими глазами, давно научившимися распознавать людей, читать их мысли. Антонюк поздравлял искренне – выстрел отличный. Сергей Петрович увидел это и почувствовал к нему симпатию.
– А мы с вами встречались, – сказал Иван Васильевич.
– Да, да… – подтвердил гость, но не вспомнил, когда, где, – сколько перед ним проходит людей! – и, чтоб не выдать себя, отступил в сторону, давая дорогу помощнику, который ждал своей очереди познакомиться с Антонюком. (Не мог он лежать, когда поднялся начальник!)
Сергей Петрович шутливо заохал:
– Ой, ой, мои бедные ноги. Натер до кровавых мозолей.
Будыка довольно захохотал.
– Однако ж вы, Сергей Петрович, сбили не только ноги. Вот, – он все еще гладил кабана и захлопал обеими ладонями по стегну, выбивая веселую дробь, – за такой трофей не жаль заплатить и мозолью! Верно, Марьян? – обратился он к Сиротке; тот не ответил, и Будыка опять засмеялся, закричал: – Вот, видите? Сиротка совсем сиротка. От неудачи. А у Ивана глаза горят. Завидуешь? Признавайся?
– Завидую, – подыграл Антонюк.
Толстый Клепнев, перевалившись с боку на бок, сказал:
– Зависть – частнособственнический пережиток. Учитесь у меня. Я завидую только тому, кто жрет сейчас колбасу из такого хряка. И глотаю слюнки. Скорей бы приезжал Змитрок.
– Может, и вправду товарищи расстроились? – озабоченно спросил гость. – Но я так понимаю: вместе охотились… Охота на такого зверя – дело коллективное.
– Да что вы словно оправдываетесь, – отозвался молчаливый Сиротка. – Разве впервые? Мы – старые зубры. Один Валентин Адамович не понимает охотничьей этики.
– Я? – закричал Будыка, непритворно взволнованный и притворно возмущенный.
– Ты. Дилетант! – насмешливо бросил Антонюк. Неведомо почему холодной волной ударила в сердце злость на Будыку.
«Что ты суетишься? Кто-кто, а я тебя насквозь вижу. Все мы принимали гостей и подхалимничали иной раз перед теми, кто над нами стоит. Но мы – грешные чиновники, а ты – ученый».
Антонюк боялся таких неожиданных перемен в себе самом. Подошел к компании в расположении добром, мягком, и вдруг – без видимой причины – резкий поворот. Зачем это ему? Испортить людям настроение?
– Я? Я – дилетант? – сделал удивленный вид Валентин Адамович и тут же засмеялся: – Юпитер, ты сердишься, потому что не убил кабана. А мы убили. – И, как бы испугавшись, что Антонюк не поймет шутки, закричал, подняв руки: – Сдаюсь, сдаюсь… В постижении охотничьих тайн я вечный первокурсник.
– Не только в этом. – Но холодная волна так же неожиданно отхлынула, снова вернулось добродушие, покой, пришедшие после дня скитаний по лесу, и Антонюк сказал это просто так, не придавая словам особого значения, чтобы разговор не иссяк.
– Сергей Петрович! Если мой лучший друг начнет убеждать, что и в машиностроении я этот самый… первокурсник – знайте: такова наша дружба. Умеем «поддержать» товарища при случае.
Это, кажется, уже обида? Или хитрость? Еще одно, с заходом с тыла, напоминание начальству о своих заслугах?
– Как директор института ты – гений, Валентин. Могу засвидетельствовать перед министром.
– Видите, Сергей Петрович, с какой язвой я жил в одной землянке?
Антонюк перевел разговор на другое:
– Вырежьте железу. А то испортит мясо.
– А егерь посоветовал смалить. Кабан молодой, лётышек. Время раннее.
Понятно: гостя хотят попотчевать еще одним экзотическим зрелищем. Клепнев ребячился, разжигал аппетит.
– Мы его сразу на сковороду. Колбаса – это вещь. Нету лучше в мире птицы, чем свиная колбаса. Мудрейший афоризм! Вершина житейской философии. У вас не верещит в ушах верещака? У меня явно начались галлюцинации. Какая верещака у нас будет! Не зря я захватил гречневой муки. На блины. Ни один повар не сготовит такой верещаки, как я.
Он перевернулся на другой бок, алчно застонал, зачмокал толстыми запекшимися губами.
– Где ты ее достаешь, гречневую муку? – удивился Сиротка. – Кто в наше время мелет гречу? Крупы и то нет.
– Не веришь ты, Марьян свет Максимович, в успехи нашего сельского хозяйства! Отстал от жизни. Давно выведен гречишно-кукурузный гибрид. Только надо уметь отделить гречиху от кукурузы. Я умею.
– Не мели, Эдуард, – остановил своего подчиненного Будыка: он не любил подобных намеков.
Клепнев Антонюка давно интересует: человек без принципов, но и не трус, бесцеремонный – через полчаса с самим богом запанибрата. С патроном своим Будыкой разговаривает на диво независимо, иногда довольно едко язвит. И однако тот держит человека без специальности, какого-то бывшего кинооператора, на должности научного сотрудника. И всюду таскает за собой. Ни шагу без него. Конечно, Клепнев – пролаза, доставала, рекламщик. В рассуждениях – циник. Но в мутной его болтовне иной раз блеснет и разумная мысль.
Невдалеке засигналили машины. Одна басовито, с хрипотцой, словно простуженная, за ней другая, голосисто, как девушка. Клепнев приподнялся, вскинул ружье, выпалил в пожелтевшую листву дуба. Сбитые веточки стремительно падали, одинокие листья кружили в воздухе. Усталая гончая, что лежала под дубом, смешно подскочила и стала бегать по кругу, нюхая влажную землю, которая пахла старыми грибами и свежим желудем. Сиротка поманил собаку!
– Чомбе! Чомбе!
– Чомбе? – удивился Антонюк, – Кто придумал такую обидную кличку?
– Я купил ее у Лапицкого,
– Если б собака понимала, откусила бы его шляхетский нос. Политик!
Гончая послушно подбежала к хозяину и, высунув красный язык, смотрела умными глазами, казалось, даже с укором: какому, мол, дураку вздумалось без нужды стрелять? Хриплый сигнал послышался ближе. Клепнев опять хотел ответить выстрелом. Но Сиротка остановил:
– Зачем палить? Никуда с просеки не свернут. Дорога одна.
Медленно покачиваясь на корневищах дубов, поодаль, где проходила квартальная просека, показались машины: черный, как огромный жук, ЗИМ и светло-голубая, веселая, и вправду как девушка, «Волга». Кабана хотели затащить в багажник ЗИМа, но Сиротка высказал опасение, что туша может пропахнуть бензином. Набросали на заднее сиденье и пол еловых веток и положили туда. Будыка пригласил Сергея Петровича в «Волгу». Потом позвал Антошока. Когда двинулись, сказал:
– Надо захватить егеря. Пускай пропустит чарку. Но не заехали. Забыли. Заговорились.
Министр и Будыка заняли деревянный особняк – охотничий домик. Все остальные помещались в гостинице, стоявшей в сосняке на склоне холма, где совсем недавно был построен дачный комплекс. Будыка неожиданно пригласил Антонюка в их дом – комнат хватает! Комендант, хотя и старый знакомый, без особого энтузиазма встретил нового гостя – не тот ранг! – и поместил Антонюка внизу у входа, в комнатке, где при высоком начальстве поселяли охранника или порученца. Ивана Васильевича это нисколько не задело: слишком хорошо он знал "табель о рангах" и людей, которых назначали комендантами.
Умывшись и переодевшись, министр и Будыка вышли посмотреть, как под шумным руководством Клепнева (сам он ничего не делал, но всем давал советы) смалят кабана. Сквозь дверь Иван Васильевич услышал их разговор.
– Кто он, этот… колючий, который присоединился к нам? Знакомое лицо.
– Бывший… – Будыка назвал недавнюю должность Антонюка.
– А-а… Вспомнил. А теперь где?
– Персональный…
– За что его так? Ему же, должно быть, и шестидесяти нет…
– Принципиальный идеалист. Выступил против новаторства в сельском хозяйстве. Консерватор. Держался за травы. А трава – опора ненадежная. – Будыка засмеялся, довольный своей шуткой.
Уже на крыльце (слышно было сквозь открытую форточку) министр спросил:
– Валентин Адамович, ты, кажется, крестьянский сын?
– Все мы – дети земли.
– Как ты считаешь: мудро то, что мы делаем сейчас в колхозах?
– У меня другая сфера, Сергей Петрович.
– Да, да… У нас – другая сфера. Наша хата с краю. – Гость как бы спешил окончить случайный разговор, но в голосе его Антонюк услышал разочарование и боль – ту самую боль, что щемит и его сердце. Это подбодрило. Так когда-то подбодрили горечь и боль, не услышанные – увиденные в глазах человека, который, председательствуя на высоком заседании, вынужден был ставить на голосование предложение «принципиальных» людей «об освобождении Антонюка от обязанностей… за ошибки, допущенные в работе».
Предложил эту мягкую формулировку он, председательствующий. А некоторые из тех, с кем Антонюк съел пуд соли, кто не раз клялся в дружбе, подкидывали и такое: за несогласие с политикой партии… Привыкли мнение одного человека, подчас довольно спорное, выдавать за политику партии! Условились: пока не будет приготовлено хоть одно блюдо из кабана – за обед не садиться. Но охотники основательно перекусили в лесу, а Антонюк с утра натощак. И так засосало, что не выдержал – пошел на кухню раздобыть бутерброд. Повар пожаловался на Клепнева: не таких людей он кормил и никто так не лез в его хозяйство и работу.
Иван Васильевич решил не идти туда, где смалили кабана. Столпились, как дети. Но Клепнев неведомо как разнюхал, что здесь есть и такая вещь, как солома, – для экзотики. Известно, что от соломы совсем другой дух и вкус. Разоблаченный комендант должен был выдать два тяжелых снопа золотистого житовья. И после того как половина туши была осмалена паяльной лампой, стали досмаливать соломой. Тут уж Иван Васильевич не выдержал. Позвала душа селянина, поэта.
Смеркалось. Лес вокруг. По-осеннему глухо шумят сосны. Слетелись к жилью вороны. Перелетают с вершины на вершину, неназойливо каркают. Ярко горит солома. Искры гаснут в темных ветвях сосен. Силуэты людей. Их тени. И своеобразный, ни с чем не сравнимый, знакомый сызмалу запах соломенной гари, щетины, прихваченной огнем свежины. Отойти, оторваться от этого зрелища не в силах тот, в ком это живет как незабываемое впечатление детства. Смалили Сиротка и комендант. А Клепнев прыгал вокруг, раскрасневшийся, в расстегнутой куртке, и давал советы, кричал человеку, который на этом зубы съел, что он ни черта не умеет, все сало испортит и всю шкуру сожжет.
– Вахлак! Недотепа! Гляди, как потрескалась и покрылась пузырями!
Клепнев языком умел сделать все, руками – мало что. Антонюк не выдержал, прикрикнул – нарочно, как на мальчишку:
– Не путайся под ногами. Лучше сбегай по воду.
Годы, прежнее служебное положение Ивана Васильевича и его тон на миг смутили развязного толстяка. Но только на миг. Он тут же вспомнил, что Антонюк теперь всего-навсего пенсионер, и весело рассмеялся. Послал по воду шофера. И предложил послушать анекдот про пенсионера.
Однако министр, чтоб не допустить этой бестактной мести, перебил Клепнева: стал рассказывать об охоте на медведя где-то в Сибири. Слушали внимательно – Будыка, почему-то притихший, да шофер министра, который ни к чему не прикасался. Антонюк приметил, что даже машину шофер вел в перчатках; грузили кабана – министр тащил вместе со всеми, а шофер стоял в сторонке, молчаливый, важный, одетый в модный плащ, будто ему идти на бал, а не вести машину сотни километров.








