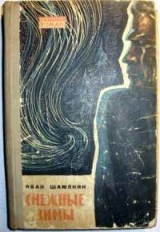
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
А все-таки интересно – то, что было между ними тогда, в воину, и позднее, – что это: проявление слабости или силы? Привести в исполнение приговор над Свояцким мне не пришлось. И никому из моих партизан тоже. Полицай исчез. Внезапно. Никто не знал – куда. Когда связные принесли это известие, я сразу подумал, что, видно, Надя все же каким-то образом связалась с ним, предупредила, что его ждет. Что ж, ее можно понять: он отец ее ребенка.
Черт с ним. Пускай исчезает. Если и в другом месте будет собакой, кары ему не миновать. Однако, когда я в тот же день, позднее, кажется, уже ночью, в бессонницу, подумал, что Свояцкий мог прийти к ней, к Наде, что они могли уехать или уйти вместе, мне стало нестерпимо больно, я принял самую возможность этого, как злостную измену. На другой же день, тайком от Будыки, от Шугановича, послал на Черниговщину человека: там ли она, куда отвезли? Как живет, как ребенок?
Камень свалился с души, когда разведчик вернулся и рассказал: там она, у сестры нашего Кравченко, живая и здоровая, работает в поле, и ребенок здоровенький. Я приказал ему ничего не передавать от меня лично, ничего не говорить. Но. возможно, партизан, хотя и не молодой уже, не выдержал, проговорился или. очень может быть, Надя сама догадалась, потому что знала его в лицо. Наверное, приход его разбередил ее душу. Кто из нас проявил слабость, а кто силу?
Недели через две или три после этого, в жаркий день в землянку, где я отдыхал после операции на чугунке, вошел Будыка со своей особой ухмылочкой. (Дурацкая у тебя ухмылочка, Валентин Адамович!)
«Тебе сюрприз, командир».
«Какой сюрприз?»
«Выйди, увидишь».
Не помню, что я подумал, но, во всяком случае, не о Нале, не о том. что она может самовольно вернуться в отряд из такой дали. Ее задержали молодые дозорные – из партизан, которые пришли в отряд за два весенних месяца. Хлопцы не знали, кто она. Привели под дулом винтовки, подозрительно приглядываясь – слишком хорошо женщина эта знает партизанские стежки. А в лагере, возле кухни, ее сразу окружили, Биту передавали с рук на руки. Девочку тетешкали, искали, чем накормить. Увидели меня – затихли, расступились. Надя поднялась с пенька, стояла в молчаливом ожидании. Потом признавалась, что испугалась, увидев меня. Впервые за долгую дорогу подумала о той каре, которая может пасть на ее голову за самовольство. Моей каре.
У нее был вид нищенки, вызывающей жалость. Два дня шла по жаре с ребенком на руках. Босые, потрескавшиеся, запыленные ноги. Запекшиеся губы. Обожженное солнцем лицо, выгоревшие брови и волосы, с которых на плечи сползала грязная косынка. Зимой, после родов, у нее было на диво белое лицо, белое тело, а сейчас она потемнела, прямо-таки почернела. Даже волосы: были русые, а стали какие-то темно-ржавые. Сама она страшно исхудала. Но лицом не подурнела. Наоборот, показалось мне, стала краше. На лице страдание и страх, но глаза – они излучали дивный свет.
Что я почувствовал? В первое мгновение – злость: кто тебя сюда звал? Потом – жалость… Она глядела на меня. Не униженно, не по-собачьи. Просила, как можно просить очень близкого человека. Сперва – взглядом. Потом – словами. Темп же словами, что и два месяца назад, но еще настойчивее, словно за то время, которое прошло, получила право на такую просьбу:
«Не отсылай меня… – Но тут же поправилась: – Не отсылайте меня из отряда, товарищ командир. Я не могу там… Я хочу быть с вами».
Я молчал. Долго. Молчали партизаны. Ждали, что скажу я. Может быть, не все хотели, чтоб я разрешил ей остаться. Были, верно, такие, которые не прочь были услышать, увидеть драматическое представление – проявление командирского норова, укоры, женские мольбы, слезы или еще что-нибудь. Но больше всего у этих внешне грубых людей было мудрой народной деликатности, сдержанности, чуткости. Я убеждался в этом не раз. Надя не повторяла просьбы. Не сказала ничего больше.
Рана, что чуть-чуть начала заживать, заболела с новой силой. Я подумал, что присутствие этой женщины в отряде каждый день будет напоминать о моем горе. Но хуже другое – почувствовал, что я – слабый человек: мне уже хотелось подойти, взять ее почерневшие от работы, шершавые руки или – еще больше – обнять усталую, измученную, чтоб она почувствовала, что не одинока, не забыта… Нетрудно догадаться, как пойдет дальше, если возникают такие порывы, такие стремления. Да, я слабый человек…
Первой заговорила Люба. Старая моралистка! Зимой, когда узнала о нашей связи, довела меня до ярости своим бабским осуждением, попреками. А тут вдруг расчувствовалась:
«Чего ты, Иван Васильевич, глядишь на нее, как на матку боску? Давай разрешение зачислить этого бойца, – и подкинула Виту, – на котельное и всякое прочее довольствие. Будет у нас Виталия, будет и Надежда!»
Партизанки – тогда их было у нас уже несколько – засмеялись. Мужчины молчали. Как мне было выпутаться из этого неловкого положения? Чувствовал, что отослать из отряда не отошлю. Но и встречать с объятиями… Перед партизанами… Свинья Будыка! Не мог принять потихоньку, а потом сказать. Выставил меня. Теперь, должно быть, стоит позади, наблюдает, ехидничает. Разозлился. Не на нее, конечно. На себя. На Будыку. На Любу. Выругался, не глядя на присутствие женщин.
«Не отряд, а цыганский табор! Скоро бабы командовать начнут!»
«В таборе никогда не командуют бабы, – ответила Люба. – А ты не кричи, как феодал! Цыганский король!»
Глава VII
Тут еще почти не было снега – чуть-чуть припорошило землю. Падал и сейчас, но очень робко, сухой и легкий, как пух; слабое дыхание ветра сдувало его с дороги в канавы, с пригорков в лощины, на опушки. Два дня назад была тут оттепель; может быть, даже шел дождь. На дороге стояли лужи; вода замерзла, но колеса машин и повозок разбили слабый ледок. Белые осколки его звенели под ногами, звенели удивительно мелодично, прямо-таки радостно.
Приятный морозец, еще более приятные снежинки, что нежно, будто живые существа, садились на руки, на лицо, и этот веселый звон льдинок под ногами – все так славно бодрило, радовало. Ушли ночные колебания: зачем он едет? Кому это нужно? Нет, теперь все казалось просто и естественно. Отсюда и настроение такое. Нелепо все еще обуздывать свои желанья, порывы, тем более что никому он не причинит зла, а кое-кому, наверное, может принести хоть маленькую радость.
Иван Васильевич не стал ждать в темном и холодном станционном помещении, пока рассветет. Пошел сразу, лишь скрылся в ночной дали сигнальный огонек последнего вагона. Дорогу он помнил. Правда, спросил у дежурного по станции, как выйти на большак. Тот подозрительно оглядел ночного пассажира, объяснил нехотя, туманно. Да Иван Васильевич скоро узнал дорогу сам. Когда дошел до села, где светилось два-три окошка, не больше, – у самых ранних хозяек.
У него была удивительная память: облик сел, их «лицо», он запоминал так же, как лица людей. Забывалось иной раз название, как и фамилия, но если б завязали глаза и привезли в любое село, где он был хоть однажды, он тут же сказал бы, в каком оно районе, когда он здесь был, по какому поводу, с какими людьми встречался.
По этому селу проезжал в «газике» раза два всего, последний раз семь лет назад; не помнил, называется оно так же, как станция, или как-нибудь иначе, но сразу узнал лавку, школу, высокий осокорь, от которого надо свернуть направо, на другую улицу, пошире, чтоб выехать… выйти на нужную дорогу – большак, обсаженный старыми березами.
Каких-нибудь пятнадцать километров для него, охотника, легкая прогулка. Если хорошенько разойтись, два часа ходу – и там. Но не хотелось все-таки приходить так рано. Неловко как-то. Странное чувство! Никогда его но бывало раньше. Поэтому Иван Васильевич шел не спеша. Ни угрызений совести, ни тревоги, которая в вагоне не давала уснуть. Не было и того юношеского волнения, которое охватывало его раньше, когда подъезжал к этим знакомым с партизанских времен местам. Не к местам вообще, места не такие уж знакомые, – к Калюжичам, к ней, к Наде. Теперь же, как ни странно, был настолько спокоен, что даже думал о другом – о селах, о том. как они выглядят. Это естественно: всю жизнь, по долгу службы и еще больше по долгу человека, он думал о людях, которые выращивают хлеб. Как они живут. И как должны жить.
После войны немало строили. Один из его знакомых – экономист – подсчитал, что по общим затратам за двадцать послевоенных лет в деревне построено больше, чем за целое столетие, охватывающее три исторические формации – феодализм и крепостничество, весь период капитализма с его подъемом и падением и первые годы социализма. Однако внешний вид села мало изменился, особенно здесь, в Полесье. Все те же почернелые деревянные хаты, вросшие в землю, в большинстве крытые соломой – в селах, которые не горели. Однако не лучше и в тех селах, которые сожгли каратели или фронт. Люди строились сразу после войны, по бедности, без мужчин, вдовы да сироты; лепили хатенки кто из чего: распилить бревно было проблемой; покрыть – еще большей, на усадьбах выращивали жито и жали серпами, чтоб иметь снопы соломы – стародавний кровельный материал.
Все затраты колхозов, государства шли на производственное строительство. Материально-техническая база – основа, это понимали все, руководители и рядовые колхозники. Если смотреть не на хаты, а на фермы, мастерские, элеваторы и особенно на те машины, что работают в поле, – о, какие перемены произошли на селе! Индустриальная революция! Когда он ездил в Англию и, знакомясь с фермами, заходил в коровники, его мало что удивило, разве что лучшее качество построек и оборудования. Но размах, масштабы совсем не те, что у нас. Другое дело, что мы не научились еще по-настоящему управлять такими крупными хозяйствами, научно, с экономическим расчетом. Сколько было этого самого волюнтаризма!.. Немало и он, агроном, делал глупостей, выполняя указания людей, которые и не нюхали агрономии. Но иногда, черт возьми, хватало духу и протестовать в полный голос. Набивал шишки. Болели бока. Да зато легко становилось на душе. Как сейчас… А сейчас легко? Не очень-то.
Материально-техническая база – основа. Но когда условия жизни людей начинают отставать… возникают явления, которые в философии называются диалектическими противоречиями. Любой новый завод-гигант, самый совершенный по оборудованию, не мог бы нормально работать, если б рядом с ним не вырастал жилой город, город современный – на уровне технических достижений завода. Так и с колхозами, с селом вообще.
Антонюк уверен, что наступило или вот-вот наступит время, когда в селе надо будет по-настоящему заняться бытом людей. К этому принуждают многие проблемы, возникающие в колхозах. Не разрешив их, нельзя двигаться дальше. И не только сейчас, в ночном поле, но не раз и прежде, в теплой, уютной городской квартире, становилось тяжело от мысли, что интереснейшая работа по переустройству села будет проходить без его участия. А он способен еще что-то подсказать, да и организовать… Правда, есть притягательность и в свободе, которую он почувствовал, став пенсионером. А может быть, так вот и рождается психология дармоедства, оправдываемая высокими словами? Всю жизнь твердил себе и детям, что не может быть свободы у лодыря, что истинно свободен лишь тот, кто трудится, работает творчески, с радостью, с пользой для людей и себя.
«Не по своей воле я дармоед».
«Но ты начинаешь вживаться в эту роль, как актер, она тебе нравится».
«Нет, я хочу работать».
«И ставишь условия, которые трудно принять?»
«Я имею право ставить такие условия. Сама жизнь показала, кто из нас лысый…»
«Слишком заботишься о своем самолюбии. И забываешь, что оно есть и у тех, от кого зависит вернуть тебя на работу или предоставить наслаждаться «внутренней свободой».
«Им хочется сломить мою гордость».
«Ты поднимаешь свою гордость, как знамя».
«Нет. У меня одно знамя. Я нес его всю сознательную жизнь. И ничто не выбило его из моих рук».
«Так чего ты страдаешь? Все равно – на два года раньше или на три позже – ты должен уступить место более молодым…»
«Кому? Тому, кто не об этих вот людях думает, а о том, как бы поскорее пробиться в науку».
«Наука тоже помогает людям».
«Опять ты противоречишь сам себе».
«Такова суть человека, умеющего думать. Он весь соткан из противоречий. Отрицание и утверждение… Если мириться со всем, он остановится в своем движении. Что было бы, если б я навеки остался стоять здесь, в поле, смотрел бы на эти огоньки, слушал, как лают собаки, и не мог бы дойти до людей. И до своей цели. А она там, где люди. Она ведет меня, моя цель… я не стою среди поля…»
В деревне, в которую вошел Иван Васильевич, подняли дикий лай собаки. Одна как гавкнула, услышав чужого, так и покатилось волной со двора во двор. Целая собачья капелла – басы, тенора, молодые подголоски: та лает с подвыванием, другая – так заливисто, что кажется, вот-вот захлебнется. Ивана Васильевича всегда удивляло неравномерное распределение дворовой стражи. Коров, свиней почти везде одинаковое количество на двор. Есть, правда, зоны побогаче и победнее. А вот собак… одну деревню пройдешь – даже завалящий щенок не тявкнет. А в другой, соседней, ничуть не богаче, – в каждом дворе по псу, вот как здесь. Чем объяснить? Традицией? Правда, вот еще гуси. Но все-таки гуси там, где живут побогаче. «Гусиные» деревни выделяются даже своим внешним видом.
Встретились три молодицы, в ватниках, в теплых платках. Антонюк сразу догадался, куда они идут в такую рань.
– Доить? – спросил, поздоровавшись.
– А куда же еще бабам идти до света? – ответила старшая.
– Что это вы собак столько поразвели?
– Добра у нас много, боимся – покрадут.
Другая засмеялась.
– То наши мужики собак завели, чтоб чужие не лазили. Вот ты. кто тебя ведает, откуда ты бежишь с ночи. Может, от нашей Ганны.
Все три захохотали. Иван Васильевич притворно вздохнул:
– Отбегал я свое, бабоньки!
Подошли поближе, заглянули в лицо. Та, хохотуха, подбодрила:
– Да нет – ничего еще мужчина. Шустрый. Старшая спросила серьезно:
– С поезда?
– С поезда.
– Куда?
– В Калюжичи.
– Видно, есть к кому спешить, что побег со станции, когда волки по полю гуляют.
И вот, после случайного этого разговора, пришло оно, волнение, понятное и все же странное, потрясло своей неожиданностью. К чему бы это? Отчего сердце вдруг дрогнуло, затрепетало почти так же, как тогда, когда Надя, после отправки ее, вернулась в лагерь с Витой на руках, в нищенских лохмотьях? И сейчас, как тогда, вспыхнула и радость, и тревога.
Хотел перевести мысли на другое – на этих женщин, доярок. Тоже одна из проблем, над которой он серьезно задумывался и где пробовал что-то сделать, – чтоб труд доярок, пожалуй, самый тяжелый из всех женских профессий на фермах, стал легче. Болело сердце, когда молодые женщины показывали ему свои руки. А их рабочий день? Теперь, зимой, идут чуть позднее, хотя, верно, мало кто из мужчин уже продрал глаза. А летом у этих женщин рабочий день – с четырех утра до одиннадцати вечера. Хорошо еще, если коровники близко. А если надо идти две или три версты…
Не однажды выступал на совещаниях, ругал конструкторов доильных аппаратов, разносил «елочки» и «карусели» – знал, что все это новаторство кабинетного происхождения, как круглые коровники и торфоперегнойные горшочки. При доярках ему аплодировали. А потом, за спиной, посмеивались: «Чудачит старик. Популярность зарабатывает. Не понимает, что его народнические замашки не в ногу со временем… Что он, в сущности, выступает против механизации…»
На том «антитравяном» совещании сказали это в глаза, с трибуны, под аплодисменты президиума.
Хотел пораздумать над сельскими проблемами, поспорить со своими оппонентами, хотя, правда, теперь они вдруг поумнели – сами стали «народниками» и «экономистами». Хотел… Не вышло. Перед глазами встала Надя, заслонила все. Шла к нему. Или он шел к ней… А она ждала. Испуганная… Радостная… Печальная… Стыдливая… Какая встретит его теперь?
Долго в воздухе плавали отдельные снежинки, невидимые в ночном мраке. Когда начало светать, легкие, пушистые, они закружились гуще. Сразу побелела дорога. А может быть, потому так вдруг и рассвело, что все вокруг побелело? Только дымы над трубами желтые – топили торфом. По улице бежали школьники, с любопытством оглядывали незнакомца. Останавливались женщины, чтоб не переходить дорогу с пустыми ведрами. С полными спешили перейти. Потом уже оборачивались.
Тронуло это Ивана Васильевича. Люди желают удачи. Узнают или просто так? Он очень давно не был здесь зимой, лет пятнадцать. Тогда казалось все нормально – село как село, счастливое – не горело, уберегли партизаны. Теперь поразили оголенная улица и оголенные огороды.
Хата за молодыми зелеными кленами была летом такой уютной и по-своему красивой – одна из лучших на улице. Теперь же едва узнал ее – показалась голой, сиротливо убогой, хотя клены выросли. Но сейчас в них мало красоты. По-новому защемило сердце: вот они, приметы старости. Не покажутся ли вдруг такими же голыми и убогими и чувства? Свои – самому себе. Твои – ей. Или ее – тебе. Эта мысль испугала, с ней трудно примириться. Пусть желтеют и осыпаются деревья. Придет время – они зазеленеют вновь. Пускай чернеют стены хат, трухлявеют – их легко подновить… Наконец, по-строить новые… А как обновить то, что долго жило в сердце и… погасло, как забытый людьми костер? Но в пепле может тлеть жар…
Иван Васильевич без стука вошел на веранду. Тут все сверкало чистотой. Вещи – стол, диванчик, лозовая белая корзина, эмалированное ведро, лыжи и даже старые валенки – стояли в том хорошо продуманном порядке, который свидетельствует, что в доме живет женщина, одна, и что во всем у нее лад, никем не нарушаемый, и душевный покой, когда человек не забывает ни одной мелочи. Вот только лыжи… Но почему не может Надя ходить на лыжах? Вид веранды как-то сразу успокоил Ивана Васильевича, и он весело, как стучит сосед соседу, постучал косточками пальцев в дверь.
– Пожалуйста. Заходите!
Голос ее не изменился, не постарел. Он вошел – и она испугалась. Она очень испугалась, увидев его. Побледнела, отступила к открытой двери, ведущей из кухни на чистую половину, точно хотела спрятаться за ней. Смотрела на него со страхом и… молчала. Или, может быть, ему показалось, что со страхом. Но все-таки так не встречала никогда. Да, она изменилась. Конечно, постарела. И как-то опростилась. Все у нее опростело: волосы, платье… Раньше волосы как будто вились, были пышные. А теперь – аккуратненько причесаны, приглажены, свернуты на затылке в большой узел. Он видел ее в разной одежде – в лохмотьях, в гимнастерке, в хороших платьях. Эта длинноватая черная юбка, простенькая, выцветшая жакетка… делают ее типичной учительницей. «Народницей», – подумал Иван Васильевич без улыбки и поздоровался.
– Доброе утро. Надя.
Секунды растерянности и разглядывания друг друга прошли. Она двинулась к нему, но не раскрыла объятий. Остановилась за шаг, заглядывая в глаза, спросила:
– У тебя несчастье, Иван?
Тогда он понял, почему она испугалась, и горячая волна благодарности за ее любовь, за тревогу, за этот испуг затопили сердце.
– У меня – счастье.
– Иван! Погляди на меня.
– Я гляжу. Разве я похож на несчастного? Виноват поезд – слишком рано приходит. А мне хотелось скорей увидеть тебя.
Она поверила – улыбнулась.
– Ты все еще партизан.
– Я все еще партизан.
Надя приблизилась, но не обняла, не поцеловала, словно смущаясь, а лишь провела ладонью по его колючей щеке, тихо и нежно. Растрогало это прикосновение больше поцелуя, больше самых ласковых слов. Иван задержал ее руку и прижал к щеке, потом к губам. Тогда она уткнулась лицом в плечо, в настывшее пальто и прошептала:
– Спасибо тебе, Иван.
– За что?
– За все. За то, что ты приехал. Мне так хотелось тебя увидеть. Так хотелось, если б ты знал. Вот так поглядеть, – она подняла лицо, в глазах плавали слезинки.
– Вот тебе на! Не люблю женских слез. Давай высушу их, – и поцеловал в глаза.
Надя смущенно высвободилась, сказала по-хозяйски деловито:
– Чего мы стоим на кухне? Раздевайся. Проходи, дорогой гость.
Пока Иван Васильевич снимал пальто, хозяйка забежала на чистую половину, сквозь открытую дверь он увидел, как она торопливо собрала с дивана чью-то постель, бросила на кровать, застлала покрывалом. Слегка царапнуло сердце, что здесь, в ее доме, ночевал еще кто-то. Сразу после войны как-то обожгла мысль, что другой может к ней прийти. Должно быть, потому приехал тогда. Умом понимал, что она имеет право на счастье, на семью, на любовь человека, который был бы всегда рядом. А сердце ревновало. В последние годы ни разу не думал об этом. Почему? Не сомневался в ее верности? Нет, и об этом не думал. Однако же что-то вот шевельнулось. Задело самолюбие? Смешно. Надя сказала:
– Только прости, пожалуйста. Не прибрано у нас. Проспали, лежебоки. – И как бы спохватившись, сообщила как-то странно – не то робко, не то радостно: – Вита дома. Работает в нашей школе.
– Ты боишься?
– Нет. Что ты! Теперь она взрослый человек. Теперь она понимает… Не думай об этом. Знай: я рада. Ты принес мне радость. Я просто растерялась от счастья и не знаю, что делать. Надо покормить тебя, а у меня – урок, – она глянула на ходики.
– Разумеется, иди на урок.
– Да. Я пойду. Дам им задание. Восьмые классы.
– Нет. Не срывай уроков. Это неудобно. Что скажут?
– Да… неудобно…
– И не надо. Зачем? Я сам себя покормлю. Можешь доверить. Я все еще партизан.
Надя подошла и опять погладила по щеке, как маленького. Он с грустью подумал, что за шесть лет Надя заметно постарела, наверное, более заметно, чем он. Глаза… Изменились глаза. Даже, кажется, цвет стал другой. Выцвели, что ли? Какими они были тогда?.. У глаз – пучки мелких морщинок, лучиками. И эти так гладко причесанные волосы – они тоже ее сильно изменили. Старят.
– Ты опаздываешь?
– Нет. У меня есть еще минутка… – Она смотрела с любовью, нежностью, но была в глазах и скрытая тревога. – Иван, Вита – она колючая. Она поймет – я не сомневаюсь. Но сказать… сказать может… Задиристая. Насмешница. Не обижайся, если что…
– Чего-чего, а выдержки, самообладанья у меня не стало меньше. Что бы она ни сказала – я пойму. Не бойся.
– Она работала в Жабнике и не поладила с директором. Так сцепились! Комиссия облоно разбирала. Правда была на ее стороне. Но мне стало страшно… Молодая, горячая. Только тебе, Ваня, я признаюсь: мне стало страшно. Я сделала все, чтоб перевести ее сюда. Под свое крыло. Едва уговорила. Упросила районо… Но и здесь она начинает войну с директором совхоза. Не может жить тихо…
– А зачем тихо, если человек воюет за правду…
– Правда… Ах. Иван. Пойми. Я боюсь…
– Ты стала такой трусихой?
– Думаешь, я была когда-нибудь храброй? Надя грустно улыбнулась и взглянула на часы.
– Ты опаздываешь. Иди.
– Я пойду. Ты голодный? Ты шел пешком? О, боже. Как я оставлю тебя! Прости, пожалуйста…
– Ты извиняешься, как перед чужим. А я – свой. И все найду сам.
– Да. Там молоко в шкафчике. В кладовке – сало… Нет, я дам задание… Скажу завучу.
– Не делай этого! Я прошу. Зачем лишние разговоры?
– Ваня. Единственное, чего я не боюсь, это – что обо мне скажут. Сколько было разговоров – ты знаешь.
– Знаю. Однако уроков не срывай. Нет повода.
– О-о!.. Нет повода… Не скучай здесь.
– Не буду.
– И поешь.
– Что-нибудь найду.
Она ушла. А он остался стоять посреди комнаты и слушать… тишину. Нет, тишины не было. Голоса за окном… И ходики… Они упорно отстукивали: «не так, не так». Странная звуковая ассоциация эта заставила Ивана Васильевича насторожиться. Может быть, и правда что-нибудь не так? Что? Он прислушивался к самому себе, к чуткому сейсмографу внутри, который должен записывать все колебания. Ничего не записывалось. Недвижимо лежали пласты чувств. Тишина. Все-таки тишина, такая, что от неожиданного стука двери он вздрогнул. Вернулась Надя. Она разрумянилась от мороза и волнения и потому казалась помолодевшей.
– Что случилось?
– Иван… Я подумала… У Виты, кажется, «окно». Как она будет разговаривать с тобой? Нет, нет, я не боюсь. Она – умница. Но… но… ты должен знать, я и до сих пор не сказала ей… про Свояцкого. Не могу. Как сказала маленькой, что ее отец – партизан… Иван… Шуганович…
– Шуганович?
– Просто пришла на память фамилия человека, который погиб. Хорошего человека.
– Лучшего из нас. Но имя его – Василь.
– Иван! Разве я могла забыть! Но я записала ее – Ивановна. В сорок четвертом. Здесь, в сельсовете. Я не могла иначе. Судьба связала меня с Иванами… – Она горько улыбнулась.
Его немножко кольнуло это «судьба связала» – напоминание, что тот. кому они вынесли приговор, тоже был Иван. Об этом никогда раньше не думалось. Зачем ей напоминать?
– Ты испугалась, что я могу проговориться?
– Нет. Но…
– Я не проговорюсь. Не бойся. Ты опоздала на урок.
– Я опоздала. Можно мне не идти? – робко, как школьница, спросила она.
– Нет, иди, – почти сурово, как строгий педагог, сказал он.
– Я пойду.
Опять он в одиночестве слушал тишину и самого себя. Теперь ходики отбивали уже иначе – «так-так, так-так». Но это не было утверждением, это было как бы неуверенное раздумье, ответ на какие-то тайные мысли.
Большие фикусы, плотные гардины заслоняли окна, и в комнате был полумрак; держалось еще ночное тепло, оно создавало уют и как-то расслабляло тело и мозг. Иван Васильевич сел на диван, с которого Надя убрала постель, и тут почувствовал, что здорово устал – не спал ночь, основательно прогулялся от станции. Теперь только увидел, что в комнате – на табуретке, на столе, на проволоке, по которой ходила на кольцах занавеска, даже на фикусе – раскиданы разные девичьи – именно девичьи, не женские – вещи: халатик, косынка, чулки, духи… И дохнуло чем-то детским – тем беспорядком и запахом, который всегда стоял в землянке, где они жили – Надя, маленькая Вита, Рощиха. Пускай моралисты осуждают, но это был уголок обыкновенной человеческой жизни, а не войны, и его тянуло туда после каждого боя, наказания изменников и похорон своих людей. Достаточно было подержать на руках ребенка – и возвращалось душевное равновесие. Может быть, потому так спокойно, уютно показалось теперь в этой комнате, что он почувствовал присутствие этого ребенка.
Он попытался разрушить иллюзию: ребенку уже двадцать три года. Она может так тебя встретить, что и рад не будешь. Нет, настроиться скептически он не может, Но и веселья особенного не чувствует. С болью и грустью подумал о Наде. У нее хватило отваги и решимости за неделю до родов бросить все и уйти в лес… У нее хватило отваги с ребенком оставаться в отряде тогда, когда смыкалось кольцо блокады. Ее могли еще вывести. Теперь же у нее не хватает смелости сказать родной дочери, кем был в действительности ее отец. Изменилась?
«Все мы изменились. Но ты, может быть, меньше, чем кто бы то ни было. Чем я».
«Ты все еще партизан».
«Вряд ли я еще тот, каким был».
«Судьба связала меня с Иванами».
Нет, это не напоминание о нем. Это – боль и признание. Признание, что ты все та же… что пойдешь вместе в любую блокаду… Нет, как и тогда, ты не пойдешь без дочери, только с ней. Ты боишься, ты дрожишь, чтоб кто-нибудь не стал между вами, мертвый или живой… Не бойся. Не станет. Никто! Теперь уже никто!
…Все глубже и глубже вязнут ноги в трясине, зеленой, густой, липучей. На плече пулемет… Какой он сегодня тяжелый! А ребенок на руках легкий. Совсем легонький, как пушинка. Может быть, его нет? Может быть, осталось одно одеяльце? Нет, он слышит его дыханье, ровное, спокойное посапывание носиком. Но не слышит другого – чавканья трясины за спиной – шагов, шагов своих людей. Где они? Почему отстали? А может быть, всех скосили пули? Странно такает пулемет – редкими одиночными выстрелами: «так-так, так-так» совсем непохоже на обычные. Ему надо оглянуться, посмотреть – что там сзади, где люди? Но он не может – от тяжести, из-за боязни провалиться в «волчью яму». Они стынут перед ним черными, блестящими, как деготь, лужами. Он осторожно обходит их, но ноги вязнут все глубже и глубже. Пот заливает лицо, глаза. Хочет крикнуть, но голоса нет, голос где-то там, в сердце, которое распухло, заполнило всю грудь. Однако ему нужно посмотреть назад, непременно нужно! Он пытается обернуться и,, чувствует, что трясина засасывает, тянет за ноги в холодную бездну. По пояс, по грудь… Он поднимает дитя высоко над головой – в небо, к солнцу. Чтоб люди увидели, спасли… Он кричит…
…Очнувшись, Иван Васильевич не сразу понял, где сон, где явь. Было и так. Шли по болоту. Но нес он не дитя – раненую партизанку, уполномоченную ЦК комсомола. Ни разу не провалился. И рядом все время шли люди, много людей, партизан. Самое страшное, оказывается, остаться одному и не иметь возможности оглянуться, чтобы увидеть товарищей. Он и в самом деле вспотел, весь лоб мокрый. Голова откинута к стене, руки подняты – видно, во сне тянул их кверху. Вспомнил, где он, встрепенулся: может быть, усталый, уже долго спит? Шея занемела, руки отекли. Выпрямился – и увидел ее. Девушка стояла у печки, смотрела на него, скептически улыбаясь.
Иван Васильевич понял: Виталия. Но удивился. Если б встретил где-нибудь в городе, наверное, не узнал бы – так она изменилась с тех пор, как видел в последний раз. Шесть лет назад на него с презрением и ненавистью бросала злые взгляды долговязая худая девочка-подросток. Сейчас здесь стояла очень ладная женщина. Да, вся ее стать была такова, что, верно, каждый с первого взгляда назвал бы ее женщиной, а не девушкой. Может, это от строгости одежды: трикотажный костюм стального цвета, так же, как у матери, гладко причесанные волосы, заплетенные и заложенные на затылке узлом.
Но удивило не то, как она выросла, возмужала, а то, как мало дочка похожа на мать. Крупная, дородная – как в шутку говорят «гром-баба», – с более крупными, чем у матери, чертами, но лицо ее, широкое, со здоровым румянцем, красиво, во всяком случае – привлекательно. Выразительные глаза, полные, сочные губы. Именно губы и придавали лицу особую привлекательность и женственность. За короткий миг, пока они разглядывали друг друга, у Антонюка мелькнула еще одна мысль: и на Свояцкого она непохожа.








