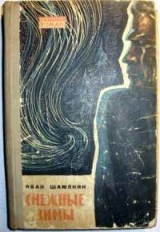
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– «Спидола»! – крикнули почти хором.
– Ух, черт! – восторженно воскликнул низкорослый, как мальчик, бедно одетый, нестриженый, кудлатый «гениальный физик» Витя Дзюба – Ладин однокурсник, парень, которого Иван Васильевич особенно любил. Витя иногда приходил и говорил просто: «А я сегодня голодный. Накормите».
Физик этот, как никто другой, был равнодушен к житейским благам – одежде, вещам. И вдруг такое восхищение подарком! Иван Васильевич, поначалу глядевший на Будыкино представление с усмешкой – любит человек показать себя! – вдруг почему-то почувствовал себя униженным. Но не злость охватила, а какая-то боль и грусть сжали сердце. Милана поцеловалась с Ольгой, и та повела гостью в спальню, снять енотовую шубу. Клепнев, дождавшись, наконец, своей очереди, прилип губами к Ладиной руке. Не желая принимать поздравлений от Клепнева, да и от Будыки тоже, Иван Васильевич крикнул:
– Гости! Прошу к столу! – И первый прошел за стол на свое место у окна.
Поэт сказал:
– Давно пора. В горле пересохло.
Командир отряда укорял бывшего начштаба бригады:
– Ох, любишь, Валентин Адамович, чтоб тебя ждали. Зазнался!
Тогда Будыка крикнул через головы гостей, протискивавшихся за столы.
– Иван! Прошу простить за опоздание. Женщины, блюстительницы ритуала, зашумели: – Молодых – к родителям! Пропустите молодых!
– Молодых – на кожух, – сказал поэт.
Гости прижались к серванту, к стене, чтоб пропустить молодых. Лада шла уверенно, радостно-возбужденная, Саша – застенчиво, извиняясь перед каждым, кого коснулся; парню, должно быть, казалось, что он здесь самый неуклюжий, может быть, отвык от штатской одежды и потому чувствовал себя в Васином костюме неловко.
Но пока они пробрались на свое место, там сидел уже Стасик – пролез под столом. Малыш вел себя очень странно. Он вдруг загорелся любовью к Ладе, хотя обычно воевал с ней из-за телевизора, желал сидеть только рядом с невестой и… ревновал к Саше; еще днем заявил ему: «Уходи, ты – чужой». Покуда Милана в спальне причесывалась, лучшие места заняли другие гости, и Будыкам поневоле пришлось поместиться на краю стола. А Клепнев все-таки пролез вперед, втиснулся между молодых женщин и уже обвораживал – шептал на ухо то соседке справа, то соседке слева что-то смешное.
Человек энергичный, Иван Васильевич был весь день особенно оживлен, деятелен, весел. А тут вдруг, неведомо почему, овладело им странное безразличие. Не хотелось ни пить, ни есть, ни тем более говорить. Как будто застолье это уже шумело целые сутки и он, хозяин, обессилел, изнемог. Но первому, кажется, надлежит говорить отцу. Он попросил наполнить бокалы и поднялся с рюмкой в руке. За столом притихли. Даже молодые гости в комнате через коридор, когда увидели, что отец невесты встал, зашикали Друг на друга, хотели услышать, что он скажет. Но ничего не услышали. Сказал Иван Васильевич тихо, устало и коротко:
– Что вам пожелать, дети? Как всегда в таких случаях – счастья, согласия. Еще чего же? Поблагодарим гостей, что пришли порадоваться вместе с нами. И… выпьем. А что еще? – спросил как будто растерянно, как будто и в самом деле не зная, что еще можно сказать пли сделать, и вышло это хорошо – наивно и забавно.
Гости сдержанно засмеялись. Зашевелились те, что поближе, потянулись чокаться.
– Поздравляем, Лада!
– Саша! Был ты матросом, стал мужем. Будьмо! – сказал поэт и, кажется, один успел опрокинуть свою рюмку, потому что остальных остановил Будыка.
– Погоди, Иван! Уж очень что-то скупо ты сказал. А сказать надо так, чтоб вечер этот, слова пожеланий запомнились молодым на всю жизнь. Это же свадьба! По-нашему, по-белорусски – вяселле! Одно слово чего стоит, смысл в нем какой! Вспомните, какой она была у наших отцов. Когда садились за стол, наш поэт провозгласил: «Молодых – на кожух». Да, молодых сажали на дежку, на кожух. И это не смешно. В этом был глубокий смысл. Был обряд. Сложный, длинный, рассчитанный на разные эмоции – память невесты о девичьем житье, грусть от расставанья с родными, сожаление о молодецкой вольности и радость, что пришла любовь, что единятся сердца, рождается новая семья, а с ней – новая жизнь. Обряд пробуждал извечную надежду, что дети будут жить лучше, чем отцы…
– Политграмота, – сказал поэт, закусывая.
Женщины шикнули на него, мужчины, жаждавшие выпить, завидуя его прыти, одобрили улыбками: давай, мол, останови этого самозваного оратора. Будыка покраснел, нервно глотнул воздух, но не смешался – сбить его нелегко; раздражения своего не выдал, наоборот, сказал мягко, шутливо:
– Нет, дорогой поэт, это не политграмота. Политграмота – твои стихи.
Многие засмеялись. Но поэта это не смутило, только дало возможность под шумок налить и, подмигнув хозяину, опрокинуть еще одну рюмку.
Молодежь в другой комнате тоже не дождалась конца речи Будыки – зазвенели рюмки, застучали ножи, зашумели голоса.
– Мы разрушили обряд. И утеряли красоту, «святость» этого незабываемого события – свадьбы. На месте разрушенного надо строить новое. Во всех областях, во всех сферах, материальных и духовных, у нас – новое. Нам нужны новые обряды! К сожалению, молчат наши поэты, этнографы…
– Обряды создает народ, – оторвался от закуски поэт. – И ты, частица народа, вместо скучной речуги предложил бы что-нибудь новое. Эпизод обряда. Глядишь – и пошло бы с сегодняшней свадьбы.
Слова эти сбили-таки Будыку. Предложить он ничего не мог. Пришлось отбиваться:
– Вас, дармоедов, сколько там сидит, и вы ничего не предложите. А я строю машины.
– Вот и строй на здоровье, – не выдержал наконец Косач, – а мы выпьем за молодых. Без религии. Старой. И новой.
Никто не зашикал на седого командира. Засмеялись женщины. Кое-кто из мужчин хватил рюмку; сколько можно ждать! Испортили тост Валентину Адамовичу.
– Лада, за твое счастье! За твое счастье, Лада! Я носил тебя на руках – и я горжусь тобой. Как родной дочкой. Вологодец! Вручаем тебе сокровище. Береги! Тебе выпало счастье. Чокаюсь мысленно, Лада.
Иван Васильевич ждал конца тоста друга, но слушал плохо – наблюдал за Клепневым, как тот, облизывая губы, с поднятой рюмкой смотрел в рот шефу. Раньше Клепнев не проявлял столь открытого угодничества, держался независимо, иногда даже нахально, дерзко. А тут как бы демонстрировал свою преданность, верность. Почему? Верно, потому, что сразу почувствовал – не «стреляет» речь Будыки, не удивил он «теорией обряда», гости раздражены его опозданием и жаждут поскорей добраться до того, что выставлено на столах. Клепнев не дурак, психологию застолья знает. А еще лучше знает шефа, его самолюбие. К хозяину постепенно возвращался его постоянный интерес к людям… Так же, как верный Эдик, вдохновляла мужа взглядом Милана. Вот жена, молится на своего Вальку! Другие жены подтрунивали над мужьями на людях, всерьез или в шутку, Милана – никогда. Как-то Антонюк попросил: «Поссорьтесь хоть когда-нибудь при нас. Как вы ссоритесь? Не ссоритесь совсем? Ох, и скучно же вам живется».
– Обряды будут потом, – серьезно сказал поэт, когда Будыка наконец выполнил первый обряд – выпил освященную неудачным тостом рюмку; слов поэта не поняли, да никто и не хотел уже ничего понимать.
За столом зашумели.
– Папа, ты с обрядами женился? – со смехом спросила Лада.
– После небогатого ужина у бабушки Маланки я повел твою мать к себе, в холостяцкую квартиру. А это километров за семь, лесом; осень, темнота, мы сбились с дороги и блуждали чуть не до утра. Но нам было весело, та ночь запомнилась на всю жизнь.
– Видишь, у всех была романтика. А ты, лесовод, ничего не можешь придумать.
– У нас – красивые свадьбы. Я – за обряды.
– Истина конкретна, Саша. Какой обряд ты предложил бы здесь, в городе?
– Хотя бы, чтоб записывали не в тесной комнатушке, как нас с тобой. А в высоком зале. И чтоб играл орган…
– О боже! Баха? Моцарта? Может быть, еще «Реквием»? Чтоб ты оплакивал свою холостяцкую жизнь? И старушки проливали слезы умиления, на тебя глядя?
– Лада, не балагань. Ты совсем не такая. Не пугай мужа,
– Папа, я дитя атомного века. Я – за физику, а не за лирику. Но если хотите, я буду читать Блока. Могу устроить для вас вечер поэзии.
– Слово имеет Михась Иванович!
– Просим, профессор!
– Молодые, внимание! У меня – тост! Вот. Чтоб у вас было столько детей, сколько капель в моей рюмке. Вот! Ха-ха.
– А там – три капли.
– Михась Иванович! Такой тост и так мало налили! Да это же оскорбление молодых.
– Налить ему!
– Плюнь ты на свою печенку!
– Истина – в вине, говорили древние философы.
– Еще один доктор высказался. Величайшие оригиналы эти доктора наук. Остроумие бьет ключом! Пей, Саша, за наших детей.
– Лада, тебе положено сегодня быть доброй и ласковой. Он выдающийся философ.
– Папа! Выдающихся философов за всю историю человечества было два или три. Философ, не знающий строения атома…
– Лада, тебя слышат…
– А вино горькое. Горько! – завизжала шустрая дамочка, радуясь, что своим открытием опередила других.
– Вытирай губы, жених, начинаются обряды.
Но встала саркастически настроенная невеста с застенчивой улыбкой. Молодые пристойненько, чуть касаясь, поцеловались. Им захлопали.
– Вот теперь сладко.
– Ешь, Саша. Худей по методу докторов наук. Они худеют методом вытеснения. Знаешь такой? Рюмку водки вытесняют селедкой, селедку – салатом, салат – отбивной… И так далее…
– Где там Вася?
– Без тебя он погибнет, бедняжка. Молится на Свету. Ты поторопился с женитьбой, мой дорогой. Там есть на кого помолиться. Видел, какие богини? Света – это же Нефертити.
Ивану Васильевичу хотелось слушать одну дочку да разве еще внука. Он с болью думал, как тоскливо станет в доме, когда Лада уйдет. Не вернется Василь. Отдалились Майя и зять. Одна утеха – внук. Погладил малыша по головке; Стасик, необычный, не по-детски серьезный, сидел между ним и Ладой – рядом с Ладой. Попытки матери и бабушки забрать малыша из-за стола встретили решительный протест не только с его стороны, но и со стороны Лады, которую, видно, растрогала такая неожиданная любовь племянника.
Ивана Васильевича тоже трогал этот страх ребенка, что кто-то чужой заберет Ладу– «мою Ладу»; Стасик даже ножкой топнул, когда мама днем сказала, что теперь уже Лада не его. «Нет, моя Лада! Моя!» Вспомнил об этом и почувствовал, что глаза наполняются слезами. Не хватало еще заплакать при гостях! Хорошо будет выглядеть бывший комбриг! А может быть, надо было не допустить этого поспешного замужества? Нет, не мог. Однажды уже не допустил…
Хлопец вошел в землянку несмело. В кожухе. С кнутом в руке. Поздоровался не по-военному, Неловко, по-стариковски стащил с головы подпаленную где-то у костра, а может быть, и в бою овчинную шапку. Будыка тут же сделал партизану замечание – приучал к военной дисциплине, особенно таких, молодых.
Хлопец совсем растерялся.
«Так я ж по семейному делу… к комбригу».
«По какому бы делу вы ни обращались, обращаться надлежит по форме, – пробирал начштаба. – Из какого отряда? Фамилия?»
«Микола… Кирейчик…»
«Что у тебя, Микола?» – спросил я. Жаль стало хлопца. У него перехватило дыхание, а лицо запылало, как переспелый помидор. Он натянул шапку и… выпалил по форме:
«Товарищ комбриг, дозвольте жениться! Командир отряда, товарищ Катков…»
«Не дозволяет? – Будыка захохотал. – Довоевались!»
Действительно, было смешно, но я удержался от смеха. Понял, что перед нами – не шалопай, не сердцеед какой-нибудь, а хлопец скромный, и женитьба для него дело серьезное. Он приехал к командиру бригады, как к отцу. Другие разрешения не спрашивали. И стало мне еще больше жаль безусого парнишку.
«Садись. Микола. Сколько тебе лет?»
«Девятнадцать… – И торопливо поправился: – Двадцатый уже…»
Выяснили, что до войны Кирейчик кончил девять классов. Какое образование по тому времени! Какой кадр для будущей мирной жизни! А было это зимой сорок четвертого. Фронт у Мозыри стоял. А мы – в пинских болотах, висели над немецкими тылами. По-отцовски отговаривал Миколу. Учиться тебе надо, хлопче! Учиться, а не жениться. Победа вон видна, светит уже. Мир наступает. А ты, вместо того чтоб кинуться в науку, должен будешь вить гнездо для семьи. А вить гнездо нелегко будет – все вокруг опустошено, разрушено. Будыка тоже подключился – помогал мне. Убедили хлопца. Отговорили. Потом рассказал Наде – она нахмурилась.
«Ты чего?»
«А у нее вы спросили? У дивчины? Вы два часа с ним беседовали, а ее в сенях дрожь била. И вам, феодалы этакие, и в голову не пришло поговорить с ней. Вам – только бы его убедить. Ему – что! А где она найдет свое счастье? Кто знает!»
Странно, что о ней мы и не подумали – о девушке. Только о нем. Не после этого ли незначительного эпизода Надя осталась в деревне, организовала школу?
А года два назад заглянул ко мне уже несколько облысевший, полный, шикарно одетый мужчина. Не узнал его я, пока он не напомнил.
«Пришел, говорит, поблагодарить вас, Иван Васильевич. Помните, как вы в партизанах отговорили меня жениться. Умная у вас голова. Далеко вы глядели».
Кончил Кирейчик университет, аспирантуру, теперь – преподаватель института, кандидат наук. Обеспечен. Доволен. Счастлив. Порадоваться бы за бывшего партизана. Но вспомнились мне Надины слова.
«А она как?»
«Кто?»
«Девушка та?»
«А-а, Нинка Лагодич? Да не знаю. Осталась там, в Полесье. Не до нее было. Учился как сумасшедший. А потом встретилась другая. Жизнь…»
Да, жизнь. Однако почему-то пропал у меня интерес к жизни этого довольного собой кандидата наук. И наоборот, страшно захотелось узнать, как же она, та Нинка, которую я так и не увидел. Как сложилась ее жизнь? Каково ее счастье? И теперь скребет: как же она? Надо будет летом поехать, поискать ее следы…
– О чем задумался, папа?
– Деда, дай вина. Сладкого.
– Иван, задавай тон! А то ученые скоро передерутся.
За столом шумно. Идет полупьяная безалаберная и бесплодная дискуссия среди мужчин. А женщины трещат о своем.
– Догматики вы, биологи. Запустили науку…
– Не захочешь жить с невесткой – построишь кооперативную…
– Мы запустили? В вашу физику никто не лезет с мудрыми советами, а в биологию каждый лезет…
– Так же как в искусство.
– У нее отец генерал. Да ни копейки не дает. А у нас откуда же деньги?
– В музыку еще не так, а вот в кино… Каждый зритель знаток получше Феллини.
– А кто такой Феллини?
– Я актеров не запоминаю. Черт их упомнит!
– Мы, физики, верим друг другу, поддерживаем, помогаем разрабатывать… А вы едите один другого. Вопреки биологическим законам. Борьба внутри одного и того же вида.
– Без борьбы мнений наука не движется…
– Не путай научную дискуссию с групповщиной.
– Беда, что они игнорировали биологическую практику. У нас, машиностроителей, науку от практики отделить невозможно. Машина должна работать. – Это Будыка.
– Да не всегда. Вот Игнат Свиридович, представитель института, машины которого – а за них получали премии – валяются на колхозных дворах металлоломом.
– Неправда.
– Они по сто картин в год смотрят, а пользы что?
– Нельзя зачеркивать работу всего института. Пусть одна-две машины не удались…
– Валентин Адамович, чистую тарелочку.
– Олечка, милая, не надо. Посиди ты спокойно.
– Товарищи! К черту ваши ученые рассуждения. Самый традиционный, но самый сердечный и серьезный тост! За родителей. За Ольгу Устиновну. За Ивана Васильевича.
– За вас, мама! – крикнул жених и повернулся к тестю: – За вас, Иван Васильевич,
– За твоих родителей, Саша. Жаль, что они не смогли приехать.
– Не нажимайте на сантименты, а то разревусь, как теленок. Наделаю хлопот!
Молодежь начала скандировать:
– Молодых! Отдайте нам молодых! Но выйти из-за cтола было не так просто.
В дверях появилась Ладина подруга, однокурсница, проворная и настойчивая девушка, заводила. Задорно крикнула:
– Дорогие родители, дедушки и бабушки! Прислушивайтесь изредка к голосу молодежи. А то начнем бунтовать. Беды не оберетесь!
Кое-кто из старших обиделся, не столько из-за иронической угрозы, сколько из-за обращения «дедушки и бабушки». Бабушки возмущенно зашумели. А молодежь продолжала скандировать – народ поддерживал свою парламентерку. И она, нахальная девчонка, подстегивала:
– Лада! Тебе рано еще в бабушки. Давай к нам! Сердцем не старей!
Лада посмотрела на отца, увидела, что он не сердится за нарушение свадебного порядка, а забавляется – глаза хитро и весело смеются, перебегая по лицам гостей. Поднялась, пожала плечами: а как выбраться? Видела, что старшие не собираются их выпускать. Но тут дорогу показал Стасик: нырнул под стол и выскочил с другой стороны. Остановился и победоносно посмотрел на тетку, как бы приглашая последовать его примеру. Лада засмеялась, отодвинула стул от стола, вдруг скомандовала:
– Саша! За мной! – и нырнула под стол.
Когда она вынырнула в тесном проходе между столов, Будыка и Клепнев захлопали ей:
– Вива, невеста! Браво!
– Моряк! Не отставай, – кричала Клава смущенному жениху, который не решался выбраться тем же путем. – Всю жизнь будешь отставать.
– Стол не вынеси на себе, – мрачно предупредил Косач.
– Саша! – укоряла Лада, давясь смехом.
Гудела «нижняя палата» (так молодежь назвала свою комнату). Встали из-за стола, столпились, чтоб видеть все через распахнутую дверь.
– Встаньте, бабушки. Пропустите молодого, не заставляйте парня лезть под стол. Не позорьте.
– Ни за что не полез бы!
– Встали!
– Нет, пускай лезет! Правильно, Лада! Командуй!
– Саша!
– Полундра!
– Моряк! Покажи класс!
Глянул жених на тестя, которого немножко побаивался и стеснялся, и увидел его глаза, не суровые – веселые, озорные. Кивнул Иван Васильевич: давай, не смущайся. И…
– Опля!
Никто и глазом моргнуть не успел, как парень вскочил на стул и… перелетел через стол. Грохнул о пол. Задребезжали зеркала и стекла, зазвенели бутылки и рюмки. Заревела от восторга «нижняя палата», встречая молодых. Да и из старших никого не возмутила такая несерьезность – все смеялись. Понравилась ловкость.
– Силен, собака, – сказал поэт. – Выпьем за физкультуру и спорт!
Но прорвалось-таки старческое недовольство:
– Им можно прыгать. Через столы. Через наши головы. Прыгнул бы я так на своей свадьбе. При отце… Ого!
– Петро! Брось ты наконец свой дореволюционный аршин!
– Молодежь теперь не та.
– Ох, надоело мне это старческое брюзжание! – сказал Будыка. – Разумеется, не та. И хорошо, что не та. Не те времена. Не те представления. Замечательная молодежь. Штурмуют космос…
Опять поднялся старый, как мир, спор о сущности нового, тот беспорядочный спор, когда спорщики возражают не только оппоненту, но и самим себе. А молодежь взрывалась хохотом и пела студенческую песню:
Тропы еще в антимир не протоптаны,
Но, как на фронте, держись ты.
Бомбардируем мы ядра протонами.
Значит, мы антилиристы.
К Ивану Васильевичу, на освободившееся место, подсел бывший товарищ по работе, главный ветврач Захар Корнеевич, человек скромный, серьезный, не болтун, не сплетник. А тут зашептал на ухо:
– Слушай, говорят, там, наверху, была мысль взять тебя советником. Запросили нашего шефа – так, говорят, он высказался против. Что он против тебя имеет? Боится, что ли? Не слыхал?
– Нет, не слыхал. Меня это мало интересует, Захар.
– Да как сказать! Все мы люди.
Слышал, что ему собирались предложить эту должность. Не слышал, что возражал человек, с которым работали много лет и, казалось ему, были в дружбе. Во всяком случае, понимали друг друга. Сказал неправду, что его это мало интересует. Не могло не поразить, кто возражает. Если это правда – за что еще один старый друг, неплохой и уважаемый руководитель, вздумал ударить его, лежачего? Тогда, когда разбирали его персональное дело, держался довольно прилично, даже, кажется, пытался защищать.
Им овладела злость. Не на того. На друга-шептуна. Какого дьявола ему понадобилось рассказывать об этом здесь, за свадебным столом? Бестактность, глупость? Или, может быть, нарочно? Может быть, за двадцать лет совместной работы он так и не раскусил этого Захара Корнеевича, тихого, деликатного, хорошего товарища, готового поделиться с сослуживцами последним куском? Где же его деликатность, душевная чуткость? Может быть, этот тихоня и пишет анонимки? Они были добрыми друзьями, часто вместе ездили в командировки, жили в одном номере в гостинице, и в порыве откровенности он, Антонюк, рассказывал Захару о Наде, да и о братьях Казюрах, кажется, тоже.
Вспомнил анонимки – и совсем испортилось настроение. Каким подлецом надо быть, чтобы даже Марине, многострадальной матери, написать такую гнусную ложь! Неужто такой тип может находиться среди гостей? Все сразу окрасилось в мрачные тона. Снова показалась нелепой эта свадьба. Такая поспешность. Сколько Лада знала этого парня? Две-три недели встречалась там в горах. Да и то вряд ли каждый день. Разве что в самоволку бегал? Почему не добился, чтобы приехали его родители? Стыдно стало самого себя. Это ж полная бесхарактерность – согласиться на такое замужество. Точно околдовали. Да еще, как дурак, высунув язык, три дня носился по магазинам, по рынкам, таскал бутылки, продукты, тратил последние сбережения. Чтоб все это за вечер сожрали люди, которые, может быть, в душе смеются над ним.
Злился за Ладу: такой ум и такое легкомыслие. Ругал Ольгу: пусть бы хоть она, старая гусыня, загоготала, что отлетает последнее дитя. Так нет же! Плакала, верно, от радости – дочка выходит замуж! А куда? За кого? Зачем? Все нелепо. Все. Комедия какая-то. Фарс. Невеста лезет под стол. Жених скачет через стол. Черт знает что! Молодые зубоскалы тоже, очевидно, издеваются:
Пусть не поймаешь нейтрино за бороду
И не посадишь в пробирку,
Но было бы здорово, чтоб Понтекорво
Взял его крепче за шкирку.
Стараясь перекричать их, разинула рот, старая дура. На каждой вечеринке визжит, как застрявший в плетне поросенок. Жена селекционера-картофелевода. Выведенные им сорта не много прибыли принесли колхозам, а ему дали и кандидатскую и докторскую степень. Между прочим, ходят сплетня, что диссертации и брошюры пишет за него эта визгуха. Как у нее хватает времени разучивать все новые песни?
Издалека долго,
Течет река Волга,
Течет река Волга —
Конца и края нет.
– Подпевай, Иван. Чего нос повесил?
«Ненавижу этот пьяный рев. А зять как старается! Ты гляди. Никогда как будто не пел. Шефу своему новому демонстрирует ловкость и таланты. Глазами ест Будыку. Как же осчастливил Валентин Адамович – на тридцать рублей больше дал. Начхать ему теперь на тестя, который учил, кормил, одевал, квартиру помог получить… Но черт с ним, с зятем! Лада, Лада… – Боль пронзила сердце. Ты была надеждой и радостью. Куда же ты теперь полетишь? Кем станешь? Женой моряка? Лесовода? А твоя физика?»
Охватила такая тоска, что хотелось завыть. Будто хоронил дочку, а не выдавал замуж. И Ольга невеселая. Примостилась на краю стола, как дальняя родственница. Он больше не злился на жену. Жалел. Бедная мать.
«Подойди, сядь рядом. Я обниму тебя. И мы вместе поплачем, как плакали родители на крестьянских свадьбах в давние времена. И никого это не удивляло»).
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне семнадцать лет.
Мужской бас перекрыл визгуху:
Гляжу в тебя, Волга,
Седьмой десяток лет.
– Кто-нибудь белорусскую знает? – спросил поэт. Тут же доказали, что знают, – несколько голосов затянуло:
Ой, березы да сосны,
Партизанские сестры…
– О боже! Если б так мусолили мою песню, я бросил бы писать. Есть песни в народе…
– Ша!
– Внимание!
– Поет поэт!
Хвалилася калиночка за рекой,
Хвалилася калиночка за рекой:
Никто меня не вырубит за водой…
– Не надо, – тихо попросил Иван Васильевич. Услышал и сразу понял поэт. Умолк. Предложил:
– Выпьем за отцовскую печаль.
Вскочила и вышла на кухню Ольга Устиновна. «Иди, излей свою печаль в одиночестве». Ничего только не пеняла разжиревшая, всегда довольная собой визгуха – заголосила:
У моря, у синего моря
Со мною ты рядом, со мною.
И нельзя ее попросить: не надо.
Не поймет.
За песней, подхваченной еще двумя-тремя женщинами, Иван Васильевич не слышал звонка, не заметил, кто открыл дверь. – кто-то из молодежи. И вдруг увидел в коридоре… Виталию. Она стояла в пальто, в белом платке, с чемоданчиком и… виновато улыбалась.
– Пропустите меня, – сказал Иван Васильевич удивленным гостям, которые не сразу поняли, что случилось, почему хозяин так внезапно вскочил. Не все даже сразу поднялись. Он протиснулся между столом и стульями, наступая гостям на ноги.
– Вита! Добрый вечер! – не обнял, не протянул руки, а взял чемодан и… растерялся, как мальчишка, не зная, что делать дальше, что говорить. – А у нас – свадьба. Лада выходит замуж.
– Поздравляю вас, – сказала Виталия сдержанно, почти официально.
Иван Васильевич увидел жену, она выглянула из кухни и с удивлением смотрела на незнакомку.
– Ольга, это – Виталия. – Понимал нелепость такого представления, потому что так и не выбрал времени, не отважился рассказать жене о девушке, которая неожиданно может приехать.
Ольга Устиновна привыкла к тому, что к мужу приезжали разные люди. Но, увидев, как он смутился, догадалась, что девушка эта не просто знакомая по прежней работе, не какая-нибудь льноводка или агроном, что она имеет отношение к его партизанской славе, боевой и еще кое-какой. Нехорошо сжалось сердце. Но хозяйка протянула гостье руку и любезно пригласила:
– Раздевайтесь, пожалуйста. И – за стол. Вася!
– Что, мама?
– Возьми Виталию к себе в компанию.
Сын появился в дверях и весело, даже несколько скептически оглядел девушку: откуда такая?
– Это наш сын, – обрадовавшись, сказал Иван Васильевич.
Молодежь шумела, смеялась, кто-то играл на гитаре, и никто не обращал внимания на то, что происходит в коридоре: мало ли какие гости, близкие и далекие, могут приехать или прийти на свадьбу! А те, кого хозяин так внезапно поднял с места, с любопытством заглядывали в коридор: кто же она, если сдержанный Антонюк так бросился встречать? Иван Васильевич увидел, как любопытно поглядывают гости, вспомнил, кто у него там, и возбужденно крикнул:
– Валя! Начштаба! Это же Вита, наша Вита!
Будыка мигом очутился возле девушки.
– Вита? Неужто Вита? Наша партизанская дочка? Боже мой! Какая ты выросла! Помнишь, как мы тебя носили на руках? Нет, не помнишь. Дай подниму сейчас.
Обнял. Расцеловал в щеки, в лоб. Шутливо попытался поднять. Кричал на всю квартиру:
– Товарищи! Это же наша партизанская дочка! Нет, вы поглядите, какая выросла! Вот так сюрприз! Молодчина, Иван, что пригласил! Миля! Эдуард! Знакомьтесь!
Тогда и молодежь притихла, заинтересовалась, потянулась в коридор. А Клепкев уже увивался вокруг Виталии, первым догадался помочь девушке снять пальто.
Выскочила Лада. Хотя не было на ней традиционного свадебного наряда, Виталия почему-то догадалась, что это она.
– Вы – невеста? – И шагнула к ней, может быть, хотела обнять сестру.
Но Лада холодновато, настороженно протянула руку:
– Я – невеста.
– Поздравляю, Лада. – И засмеялась, стала рассказывать: – А я подошла – шум, гам. Вот, думаю, попала незвана-непрошена. Постояла у двери – и вниз.
– Откуда ты, прелестное дитя? – как старый знакомый, говорил Клепнев. – Давно не встречал такой невинности!
– Откуда? Из лесу. Ведь вам говорят – партизанская дочка. Но куда же мне деваться в большом городе? Топала, топала по двору, озябла, мороз… и снова к двери. Все равно уже приехала, надо заходить. Но, думаете, так легко нажать эту маленькую кнопочку, когда за дверью такой галдеж? Дядя какой-то помог. Спускался сверху. «Громче, говорит, звоните, а то они так разгулялись, что ничего не слышат». Тут уж хочешь не хочешь, а нажимай.
Своим откровенным признанием она сразу завоевала симпатии гостей. И Василя. Одна Лада нахмурилась: ей представилась задача со многими неизвестными.
Будыка удивился: «Выходит, о свадьбе она не знала? По какому же случаю приехала?»
Все неизвестные в той задаче, что решала Лада, ему были известны; во всяком случае, он так считал. Не хватало только ответа. Однако Валентин Адамович совсем не собирался ломать голову даже над самым элементарным уравнением, он давно привык получать решения в готовом виде. И тут тоже был уверен, что все откроется само собой. Ольга Устиновна подумала с горечью и болью:
«Иван ведет себя, как мальчишка. Стыдно. Надо сказать. Нельзя так».
Но почувствовала, что для искреннего возмущения не хватает злости, а разыгрывать запоздалую ревность и все прочее неуместно, не к лицу ей – не те годы. От этого стало еще более горько и грустно. Раздевшись, Виталия, может быть, не без хитрости – чтобы скорее сблизиться, попросила Ладу показать, где можно причесаться, помыть руки, «навести красоту». Лада повела ее в ванную комнату. Мужчины вышли на лестницу покурить, Клепнев и кое-кто из женщин помогали Ольге Устиновне восстановить порядок на столе.
– То ли шляхта пировала, то ли свиньи паслись, – демонстрировал свое остроумие Клепнев.
– Вы циник, Эдуард, – сказала ему Милана Феликсовна, расставляя чистые тарелки; она всегда помогала Ольге, считая себя самой близкой ее подругой, но не собирала, не относила и тем более не мыла грязную посуду – брезговала.
– Все мы циники, – глубокомысленно заключил Клепнев.
Ольга Устиновна вдруг страшно разозлилась на этого толстого прощелыгу, который подхалимничает, прислуживается и в то же время, должно быть, презирает всех, ненавидит. Захотелось, чтоб когда-нибудь открылось, что Клепнев – любовник Миланы. Пусть бы съел довольный собой Будыка! Но тут же устыдилась своих недобрых мыслей. Что это ей вздумалось желать людям зла?
Будыка собирал вокруг себя слушателей; ему явно хотелось первому и как можно эффектнее рассказать о Виталии, о ее матери. Но Иван Васильевич не спускал с него глаз. Оттягивать предупреждение нельзя было: охмелевшего начштаба могло прорвать в любой момент.
– Валентин, можно тебя на два слова?
Они зашли в спальню, где пахло мехом и духами.
– Что за сенсацию ты мне приготовил?








