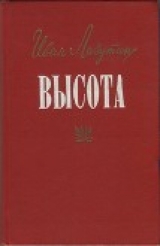
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Никогда зрительный зал кинотеатра города не вмещал столько народа. И не зрителей, а бойцов, которые походной колонной с примкнутыми штыками ночью проследовали от окраины до центра города. Как и в теплушках, те, кто три недели проблаженствовал на «палате лордов», и тут не растерялись, успели занять в зрительном зале сидячие места. Кому не хватило кресел, садились на полу между рядами и на ступеньках в проходах. Когда и проходы были заняты, солдатская смекалка вынесла бойцов на сцену, вокруг стола президиума и перед трибуной. Белое полотнище экрана было предусмотрительно поднято вверх, когда зал еще только начал заполняться.
Зал не отапливался. Городу было не до кино. Да и мало кто в нем остался – в основном старики да старухи. Угон в Германию им не угрожал, а уж если кому суждено умереть, то родная земля, в которой лежат отцы и деды, всегда примет.
У директора кинотеатра от волнения дрожали руки, когда он застилал стол президиума красным полотнищем: в освещенном зале блестел лес вороненых стволов винтовок.
Две роты, не вместившиеся в зрительный зал, расположились в фойе на собственных вещмешках, заметно потяжелевших после получения полного комплекта белья, сухарей и патронов. Широкие двери в фойе были распахнуты настежь. Щелчками по микрофону, установленному на трибуне, директор кинотеатра проверил, работают ли динамики, установленные в зале и в фойе. Удовлетворенный тем, что щелчки его гулко отдаются в зале и слышны в фойе, он исчез за боковым полотнищем сцены.
О том, что в Можайске состоится митинг и что на этом митинге будут выступать известные не только в Москве, но и в стране люди, бойцы и командиры полка узнали, как только полк выгрузился из вагонов. Часть личного состава батальонов, несущая караульную службу, и находящаяся при своих пулеметах орудийная прислуга на митинг не попали: машины, тягачи, пушки и станковые пулеметы без боевых расчетов на вокзальной платформе не оставишь.
Несмотря на предупреждения командиров взводов, чтобы в зале не курили, все-таки кое-где над сиденьями сизовато туманились дымки: заядлые курильщики не выдерживали, прикуривали согнувшись в три погибели, чуть ли не до пола, а дым пускали под кресло впереди сидящего. Если верна пословица голь на выдумки хитра, то уж с хитрой выдумкой солдата не посоперничает никакая голь – самого черта перехитрит. Сморенные бессонной ночью и напряжением ожидания предстоящих боев, некоторые бойцы, обняв винтовку, стоящую между колен, спали, склонив голову на грудь. Галдеж сливался в общий монотонный гул, в котором нет-нет да раздавались всплески голосов: «Петька!.. Апосля митинга встретимся!», «Иванов, разбуди Туркина, а то проспит все на свете!».
– По-о-олк, встать!.. – неожиданно раздалась команда, которая прошила всех сидящих в зале и в фойе, словно электричеством. Забухали об пол приклады винтовок, зашаркали каблуки кованых сапог, захлопали сиденья кресел. – Смирно!..
Все, кто сидел в зале, увидели за трибуной комиссара полка и трех человек, вышедших из-за бокового занавеса и севших за стол президиума. Дождавшись, когда в зале наступит полная тишина, комиссар, почти касаясь ртом микрофона, стоявшего на трибуне, подал команды: «Вольно!..», «Садись!..».
– Товарищи бойцы и командиры! – неторопливо и как-то таинственно начал комиссар. – К нам в гости прибыли из Москвы депутат Верховного Совета СССР, действительный член Академии наук СССР Дмитрий Александрович Казаринов; герой гражданской войны Николай Власович Батурин и член бюро Московского городского комитета партии мастер литейного цеха завода имени Владимира Ильича, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Петр Сергеевич Плужников.
Первым выступал Плужников. Было заметно, что он волновался.
– Дорогие товарищи!.. Бойцы-дальневосточники!.. Герои боев у озера Хасан! Передаю вам горячий привет от трудящихся столицы! – Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, Плужников продолжал уже более уверенно: – Хотя сейчас не время для собраний и митингов, я все-таки выполню поручение МГК партии доложить вам, что над сооружением можайского рубежа обороны рабочие заводов и фабрик Москвы, а также интеллигенция столицы трудились день и ночь, работали до кровавых мозолей, возводя оборонительный вал, центр которого проходит через Бородинское поле. Десятки километров окопов и траншей, надежные блиндажи, дзоты и доты, километры проволочных заграждений, противотанковые рвы… – все это трудящиеся Москвы и Московской области сооружали для вас, дорогие дальневосточники! – Оратор говорил без бумажки, и поэтому каждое его слово будоражило сердца бойцов. Свою речь Плужников закончил взволнованно. И волнение это передалось залу. – Вам, дорогие бойцы и командиры, выпало святое дело. За Родину, за свободу Отечества вам придется грудью встать на Бородинском поле. – И снова продолжительная пауза еще сильнее скрутила пружину тишины. – Как потомственный рабочий, чей прадед и дед работали в далекие царские времена в замоскворецких мастерских Гоппера, которые позже стали заводом Михельсона, а теперь заводом имени Владимира Ильича, я докладываю вам, дорогие воины, что рабочий класс столицы свое производство переоборудовал для фронта. Все для фронта!.. К станкам встали ваши матери, ваши сестры и ваши младшие братья! Помните, что за спиной у вас Москва!
Хмурые сосредоточенные лица бойцов застыли в крайнем напряжении. Никто не кашлял, хотя десять минут назад, когда за столом президиума еще никто не сидел, по рядам зала волнами перекатывался простудный кашель.
После мастера литейного цеха завода имени Владимира Ильича выступил Николай Власович Батурин. Став за трибуну, он положил перед собой серую каракулевую кубанку, прокашлялся в полусогнутую ладонь и простуженным голосом начал:
– Бойцы!.. Решается судьба России! Лютым огнем ненависти горит душа моя, душа старого вояки! Ноют по ночам старые сабельные шрамы, шрамы гражданской войны. – Батурин отпил глоток из стакана с водой, стоявшего у борта трибуны. Откашлялся. – Почти все вы родились при Советской власти. А мы, отцы ваши, деды ваши, за власть эту не жалели ни крови, ни жизни. Не сегодня завтра вы вступите в бой. В страшный, смертельный бой… Нет у меня таких слов, какими я напутствовал бы вас с этой трибуны. Тогда примите мое отцовское благословение: не жалейте жизни для Отечества!.. И уж если кому судьбой начертано умереть за Россию, то умереть нужно с честью, как умирали на Бородинском поле русские солдаты в войне с Наполеоном. – Вздохнув, Батурин окинул пристальным взглядом зал, словно кого-то выискивая в нем. Крепко сжатые кулаки его лежали на бортиках трибуны. – Докладываю вам, сыны мои, что я, старый кавалерист, с сегодняшнего дня, с сего часа буду с вами. Моя боевая позиция уже определена: в пулеметном расчете на Багратионовых флешах. Постоим за Отечество!..
Аплодисменты зала сопровождали речь Батурина до тех пор, пока он не сел за стол президиума.
Затем комиссар дал слово академику Казаринову. Тяжело поднимался он со стула, опираясь ладонями о край стола, а когда встал и выпрямился во весь свой высокий рост, распрямил плечи, то к трибуне шагнул не сразу. Со стороны можно было подумать, что или он не решается выступать, или все слова, которые жгли его сердце, внезапно улетучились от волнения. Но такое могло лишь показаться. К трибуне академик шел медленно, о чем-то сосредоточенно думая. Дождавшись, когда зал затихнет, он порывисто вскинул свою седую голову и, обращаясь не к сидевшим в зале, а как бы в пространство, тихо начал:
– Россия!.. Родина!.. Отечество!.. Это не просто слова!.. Это наша судьба! Это наша религия!.. Это святые могилы наших дедов и прадедов… Это земля, на которой родились мы, на которой живем и на которой с честью и достоинством встретим свой последний час. – Только после этих слов взгляд старого академика пробежал по рядам замерших бойцов. – Черный роковой пал войны накатился на нашу Родину. От Белого и до Черного моря этот вал войны сжигает на пути своем все живое. Этот вал не щадит ни стариков, ни детей. Пеплом ложатся памятники древней культуры, руинами падают города наши, черным дымом пожарищ поднимаются в небо славянские деревни и села!.. Жребий войны бросил вашу прославленную в боях дивизию на священную землю, политую кровью россиян в двенадцатом году прошлого столетия. Вам предстоят на этой земле трудные бои. Я не полководец, я всего-навсего ученый, но разум и сердце подсказывают, что стратегия и тактика фашистов развивают ход военных событий таким образом, что направлением главного удара немецкой армии на сегодняшний день является можайский рубеж обороны, в центре которого стоят холмы и равнины Бородинского поля, священного для России поля. Это поле нашей военной славы, поле чести россиян. – Словно вспоминая что-то очень далекое, до боли родное, академик Казаринов вздохнул, отчего лицо его стало страдальчески печальным. – Бородинская битва двенадцатого года вошла в мировую историю как одна из самых ожесточенных битв. И если французы, как свидетельствует в своих воспоминаниях Наполеон, показали в Бородинской битва образцы воинской доблести и храбрости, то русские воины доказали всему миру на веки веков, что они непобедимы! Не-по-бе-димы! – Голос академика окреп, в скупых, но твердых жестах чувствовалась еще не угасшая сила. – Будущий декабрист девятнадцатилетний прапорщик лейб-гвардии литовского полка Павел Пестель в сражении при Бородино был тяжело ранен и за храбрость, проявленную в боях, награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Будущий декабрист Василий Давыдов, отличившийся в Бородинском сражении, был награжден орденом святого Владимира с бантом и золотой шпагой «За храбрость». В битве под Бородино показали себя как истинные патриоты декабристы Сергей Волконский, Федор Глинка, братья Муравьевы, братья Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Михаил Орлов, Владимир Раевский, Сергей Трубецкой… – Долгая пауза еще глубже ворохнула память Казаринова. – Через семьдесят лет после Бородинского сражения, уже будучи почти слепым старцем, пройдя через десятилетия каторги и ссылки, девяностолетний Матвей Муравьев-Апостол произнесет краткую фразу, которая переживет века: «Мы были дети двенадцатого года…» Великий сын земли русской Александр Сергеевич Пушкин, вспоминая свои лицейские годы, отдавая дань героям Бородина, восемнадцать лет спустя писал:
Вы помните, текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
Закипает кровь, когда читаешь вещие стихи гениального поэта:
…Сыны Бородина, о кульмские герои!..
Я видел, как на брань летели ваши строи,
Душой встревоженной за братьями летел…
Равномерно нарастающий гул самолетов заставил всех сидящих в зале настороженно поднять головы. Прислушаться.
– На Москву полетели, – сказал Казаринов. – Но ничего, на подступах их встретят. Немногим удается прорвать оборонительное кольцо. А те, кто прорывается, как правило, назад не возвращаются.
Дождавшись, когда гул самолетов стих, академик продолжил:
– Товарищи бойцы и командиры! История вашей дивизии легендарна. Созданные в октябре семнадцатого года полки вашей дивизии участвовали в разгроме Колчака, подавляли мятеж в Кронштадте, воины вашей дивизии прославились в боях у озера Хасан. И вот теперь вам предстоит вступить в праведный бой, в тяжелый бой с немецкими варварами. Я горд, что сын мой красный командир Илларион Казаринов командовал вашим полком!.. Я повторяю: вашим полком со дня его формирования, и в марте месяце 1921 года был смертельно ранен на льду Финского залива, когда вел свой полк на подавление кронштадтского мятежа. – В зале, словно неведомо откуда набежавший порыв ветра, глухо прокатился тысячегрудый вздох. – Горд я, конечно, и тем, что внук мой, сын Иллариона Казаринова лейтенант Григорий Казаринов, которого война застала на западной границе, выйдя из Вяземского котла, будет плечом к плечу с вами сражаться на Бородинском поле. Благословляю вас, сыны мои, на бой праведный! С вами наша отцовская любовь, наша надежда и наша вера. Пронесите на штыках своих честь и славу русского оружия. Бородинское поле священно!..
Закончив речь, академик некоторое время стоял не шелохнувшись, с полузакрытыми глазами. С трибуны сошел медленно, словно боясь споткнуться.
В зале – ни хлопка. Лишь тень суровости легла на окаменевшие лица бойцов.
Сидевший в первом ряду заместитель командира полка майор Суетин, протискиваясь между разместившимися на полу бойцами, легко поднялся на сцену. Представлять его бойцам не было нужды. Героя Советского Союза Суетина, отличившегося в боях у озера Хасан, знали не только старослужащие, но и бойцы-первогодки. Рослый, в длинной, туго перехваченной в талии шинели, он со стороны чем-то напоминал Дзержинского. Голос его, зычный, с командирскими нотками, звучал властно:
– Товарищи бойцы и командиры!.. Опыт прошедших тяжелых сражений показал, что в нашей подготовке к тяжелым боям мы не все учли. Мы не учли, что кроме атак, контратак и рукопашных схваток, в которых перед русским штыком не устоит ни один штык мира, есть еще и танковые атаки врага. За танками идет пехота. Эту науку – стойко и без страха встречать в окопе вражеские танки – мы должны постигнуть. Постигнуть сегодня, чтобы не заболеть мерзкой болезнью, имя которой – танкобоязнь. А поэтому… – майор поднял руку и посмотрел на часы, – как только сегодня, через несколько часов, мы займем огневую позицию, сразу же через наши окопы пропустим наши танки. И пропускать через себя их нужно не прижавшись, как крот, ко дну окопа, а потом долго приходить в себя и дожидаться, когда в окопы ворвется вражеская пехота. Счет в этом случае нужно вести на секунды. Идущий на твой окоп танк на расстоянии пятнадцати – двадцати метров не страшен. Он слеп. Ты его видишь, а он тебя нет. И вот в эти считанные секунды нужно успеть бросить под его гусеницы связку гранат или противотанковую гранату, у кого она будет. На огневой позиции вы получите бутылки с горючей смесью. Пускать в ход их нужно умело. Бросать в танк их нужно так, чтобы жидкость из разбитой бутылки проникла в щели броневых покрытий и подожгла танк. Если не успел бросить связку гранат под гусеницы танка, когда он идет на твой окоп, бросай гранату или связку гранат сразу же, как только увидишь над собой чистое небо, сразу же, как только вражеский танк перемахнул через твой окоп. В это время пулеметчики отсекают пехоту от танков, а артиллерия делает свое привычное дело. – Обернувшись в сторону президиума, майор уловил жест комиссара полка, который, приподняв над столом руку, постучал пальцами правой руки по часам, что означало: «Время!» – В ячейках траншей и в окопах кроме боевых гранат и бутылок с горючей смесью для вас приготовлены несколько тысяч учебных гранат, по виду и по весу равных боевым гранатам, и бутылки с подкрашенной водой. Только не вздумайте перепутать их с боевыми гранатами и с горючей смесью. Через вас пройдут свои танки. Через вас пройдут взад и вперед две танковые бригады. И всегда помните слова великого русского полководца Александра Суворова: «Тяжело в ученье – легко в бою!» А сейчас слушайте мою команду!.. – В зале нависла тягостная тишина. – Всем встать!.. – Загрохотали об пол приклады винтовок, захлопали сиденья кресел. Дождавшись, когда зал успокоится, майор подал команду «Смирно!». – Разрешите мне, товарищи бойцы и командиры, от вашего имени заверить наших дорогих гостей, – майор сделал широкий жест в сторону президиума, – что их напутствие, их благословение мы принимаем как святыню и клянемся, что в боях за Родину готовы с честью пролить кровь, а если потребуется, то и отдать жизнь! Клянемся!.. – Майор вскинул над головой кулак.
Зал, как загипнотизированный, на одном дыхании отозвался:
– Клянемся!..
Все, кто сидел за столом президиума, встали.
– А сейчас… всем покинуть зал, построиться поротно и по команде походной колонной двинуться на огневые позиции! На марше не курить и строго соблюдать дисциплину! На выход!..
Когда зал опустел, академик Казаринов пожал комиссару руку и напомнил ему, что у него есть договоренность с командиром дивизии: сразу же после митинга его отвезут на огневую позицию, где находится его внук лейтенант Григорий Казаринов.
– Машина вас ждет у выхода из кинотеатра. Вас будут сопровождать адъютант командира полка и медсестра. Пойдемте, я вас провожу.
На улице падал пушистый снег. Никак не сочеталась его невесомая нежность с тем, что предстояло бойцам через несколько часов. Война… Будь проклят тот день, когда впервые человек убил человека…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Рядом с шофером в эмке сидел адъютант командира полка. Сзади сидели академик Казаринов и молоденькая, лет семнадцати, медсестра, которая рядом с величественным старцем казалась совсем девочкой. Когда шли от кинотеатра к машине, Казаринову показалось, что санитарная сумка с красным крестом, набитая бинтами и медикаментами, для такой хрупкой девочки слишком тяжела. Он даже предложил свои услуги:
– Вам помочь?
Медсестра смущенно ответила:
– Она намного легче тех раненых, которых мне предстоит выносить с поля боя.
– Немыслимо! – как-то неопределенно заключил Казаринов и тут же, словно поправляя себя, сказал: – А впрочем, жизнь доказала, что резерв силы женщины в экстремальных условиях не предскажешь.
…Когда эмка выехала на шоссе и утонувший в непроглядной темноте Можайск остался позади, академик, чтобы нарушить тягостное молчание, которое, как он почувствовал, держало в напряжении адъютанта и медсестру, спросил, обращаясь к медсестре:
– Как вас зовут-то, доченька?
– Таней.
– Сколько годков вам, Таня?
– Вчера исполнилось восемнадцать.
– И не страшно?
– А чего бояться?
– Как же: война. А на войне убивают.
– Не одна я. Все девочки нашего класса ушли на фронт добровольцами. Только двум отказали по здоровью.
– Десятый класс-то хоть окончила?
– А как же. Двадцать первого июня у нас был выпускной вечер. Получали аттестаты. Танцевали всю ночь. А потом пешком пошли на Красную площадь. Рассвет двадцать второго июня встретили на набережной Москвы-реки, около Кремля. Красотища неописуемая!.. А потом… – Таня умолкла – не хотела будоражить память тяжелым воспоминанием о том, что было двадцать второго июня.
И все-таки Казаринов спросил:
– Что же потом?
– Потом сами знаете… жуткое сообщение…
– А мама?.. Плакала, поди, когда дочь на войну провожала?
– А как же… На то они и матери… – Таня смолкла и опустила голову. Челка закрыла ей глаза.
– А отец? Наверно, тоже не сдержал слез? – чтобы не обрывать нить разговора, спросил Казаринов.
– Отец уже больше никогда не проронит слезы. – Голос Тани дрогнул, левая ладонь ее скользнула по щекам.
– Как это понять?
– Папа ушел на войну в первую очередь мобилизации. Проводили двадцать пятого июня, а двадцать четвертого августа получили похоронку. Погиб в боях за Смоленск.
– Да-а… – горестно вздохнул академик. – Тяжело терять близких людей. – Чтобы как-то смягчить душевную боль девушки, Казаринов проговорил: – Я вот тоже в двадцать первом году потерял единственного сына. А вот теперь еду в полк, где лейтенантом служит мой внук. И тоже единственный.
– Сын вашего погибшего сына?
– Да. – И, помолчав, спросил: – А вы разве не были на митинге в Можайске?
Таня кивнула в сторону адъютанта командира полка, сидевшего рядом с шофером:
– Мы с товарищем лейтенантом приехали с КП дивизии и вошли в фойе кинотеатра, когда уже дали команду выходить на построение. Лица у бойцов были такие, что я их не узнала. До этого я приезжала к ним в полк. При разгрузке из эшелона все выглядели веселыми, а тут словно их кто подменил, вроде даже постарели.
Казаринов в душе пожалел, что ни медсестра, ни адъютант командира полка на митинге не были.
– А как фамилия вашего внука? – поинтересовалась Таня.
– Казаринов… Лейтенант Григорий Казаринов. Может, знаете такого?
– Нет, не знаю… Я ведь при штабе всего две недели.
– А вы, лейтенант?
– Отлично знаю!.. – оживился лейтенант. – Позавчера на него и трех его разведчиков в Москву ушло представление к наградам. Вашего внука представили к ордену Красного Знамени. Своими глазами видел реляции. Остальных – к Красной Звезде.
– За что? – Казаринов всем телом потянулся к адъютанту.
– Он со своими бойцами, с которыми вышел под Вязьмой из окружения, вынес знамя полка. А сейчас командует разведротой. – Лейтенант повернулся к академику и, чтобы тот его хорошо слышал, стал говорить громче: – Я видел своими глазами, как он обучает разведчиков бороться с танкобоязнью.
Академику стало жарко. Од почувствовал, как учащенно забилось у него сердце.
– Это что-то вроде патологического страха перед танками?
– Я бы не сказал, что страх патологический, но когда сидишь в окопе, а прямо на тебя прет танк – тут нужно иметь крепкие нервы, чтобы не растеряться. Нужно все рассчитать: вовремя вжаться в дно окопа и вовремя вскочить, чтобы бросить ему вдогонку противотанковую гранату или бутылку с горючей смесью.
– А вы, лейтенант, знаете позицию, где сейчас находится лейтенант Казаринов?
– А как же!.. Я их землянки знаю, добротные блиндажи. Имею приказание доставить вас к нему.
– Спасибо, дорогой… – Голос Казаринова дрогнул. – А вы когда его видели в последний раз?
– Последний раз видел… два дня назад, когда он получал задание командира дивизии на выход в разведку за «языком». Думаю, что вернулся.
– Какой он из себя? Наверное, худой… Вон ведь откуда пришлось выходить с боями.
– Да нет, нормальный, но только всегда печальный. Все уважают его. Только, правда, он почти седой.
– Седой?.. – Спазмы подступивших беззвучных рыданий перехватили горло Казаринова.
Потом долго ехали молча. Почти всю дорогу от Можайска пришлось обгонять непрерывно движущиеся в сторону Бородина походные колонны пеших солдат, пушки на конной тяге, крытые штабные машины, прицепы с боепитанием, походные кухни… Миновали несколько деревень, лепившихся домишками к обеим сторонам шоссе. И нигде – ни огонька. Казаринов даже удивился, когда вдали, справа, увидел цепочку время от времени мигающих огней.
– Что за огни справа? – спросил он, обращаясь к лейтенанту.
Тот ответил сразу. Словно ждал этого вопроса.
– Ложная дорога.
– Ложная? А зачем она?
– Чтобы сбить с толку немецких летчиков. Пусть бомбят пустырь.
– Ловко придумано. Ну и как, выполняют свое назначение эти ложные огоньки?
– Еще как! Последние трое суток эту ложную дорогу бомбят раза по три, по четыре за ночь. Там такие воронки и рвы напахали, что после войны колхозникам придется не один годок поработать, чтобы все это разровнять. Правда, у командарма в последние дни появились опасения.
– Какие?
– Есть догадка, что немецкая разведка разнюхала нашу хитрость или кто-то из своих выдал тайну. Так что особистам хватает работы.
– Какие же конкретные основания у командарма для опасения? Перестали бомбить?
– Прошлую ночь два раза бомбили. Но не ложную дорогу, а шоссе, по которому мы сейчас едем. Наверное, махнули рукой на наши ложные огоньки. Не исключено, что бомбили с поправкой на отклонение от огней влево. Причем, попадания были точные, несмотря на то что ночь была хоть глаз выколи.
По расчетам Казаринова, они должны были подъезжать к Горкам, где справа от дороги на возвышении стоял памятник Кутузову. Не удержался, сказал:
– Я в этих местах бывал не раз. Кажется, вот-вот должны въехать в Горки?
– А мы в них уже въезжаем, – ответил лейтенант.
Шофер снизил скорость, обгоняя походную колонну.
Напрягая зрение, Казаринов смотрел через стекло дверки машины. Он знал: сразу же после Горок, если его не заволокли тьма и падающий снег, должен показаться памятник Кутузову. Подумал о Григории: «Седой… Видимо, не знает, что Галина жива… А уж то, что у него родился сын, конечно, не знает. Вот будет рад! Эта новость – дороже орденов!..» С этой мыслью Казаринов вытащил из правого внутреннего кармана пиджака партбилет, в котором лежала похоронка на Галину и свернутое вдвое письмо от нее, в котором она сообщала из партизанского тыла, что жива и здорова, что у нее родился сын. На ощупь вытащил из партбилета письмо, оставив в нем похоронку, и зачем-то переложил его в левый нагрудный карман пиджака. «Похоронку показывать не буду. Зачем радость мешать с горечью…»
Медленно нарастающий звук немецких бомбардировщиков первым услышал шофер.
– Идут!.. И кажется, дорогу нашу ложную раскусили. Правильный курс держат.
Шофер не ошибся. Сила и напряженность звука с каждой секундой нарастали. Они ехали навстречу этим знакомым, монотонно вибрирующим звукам тяжелых немецких бомбардировщиков.
Лейтенант заметался. В первые секунды он не знал, что делать. Его тревогу почувствовали академик и медсестра.
– Какие будут приказания, товарищ лейтенант? – тревожно спросил шофер. – Как бы не того… А то будет поздно…
– Остановись!.. – Повернувшись назад, лейтенант отрывисто бросил академику и медсестре: – Немедленно всем в кювет! Лежать до тех пор, пока не пройдут над нами. – С этими словами лейтенант открыл дверцу и первым выскочил из машины. В кювет он не побежал, хотя не только на слух, но и кожей почувствовал, что вот-вот через какие-то секунды на шоссе с завыванием могут полететь бомбы.
Пальцы академика не находили в темноте ручку, чтобы открыть дверцу машины: в эмке он ехал впервые.
– Нужно вот так!.. – Медсестра почти легла на колени Казаринову и ловким движением пальцев нашла дверную ручку и только тогда, когда правая дверца открылась, ящерицей выскользнула из машины через левую дверцу. Прижав к груди санитарную сумку, она кинулась в кювет, где уже лежал шофер. Лейтенант машины не покидал: ждал, когда из нее выйдет академик. Но тот никак не мог вылезти. Тогда, обняв старика, лейтенант силой вытащил его с заднего сиденья. Но было уже поздно. Стараясь перекричать вибрирующий вой тяжелых бомбардировщиков, Казаринов успел только сказать:
– Спасибо… лейтенант…
Бомба разорвалась правее кювета, в каких-то трех-четырех метрах от машины. На кромку шоссе, рядом с кюветом, академик и лейтенант упали в обнимку.
После того как волна бомбардировщиков пронеслась над Горками, сбросив несколько десятков бомб, упавших на шоссе и на обочины, первой из кювета выскочила медсестра. Она не видела, как, обнявшись, словно отец с сыном, в предсмертном прощании упали на землю академик и лейтенант, но сердцем почувствовала, когда увидела их лица в свете карманного фонаря: смерть уже коснулась их своим черным крылом.
Впереди, на шоссе, метрах в двухстах, ярким костром горел грузовик, зарево от которого вырисовывало контур памятника Кутузову.
– Лейтенант!.. Товарищ лейтенант!.. – Заливаясь слезами, медсестра трясла за плечи адъютанта, из левого виска которого упругой струйкой вытекала кровь. И по тому, что струйка вытекала равномерно (сердце уже не гнало по артериям и венам кровь – об этом симптоме им говорили на курсах медсестер), она поняла, что лейтенант мертв. Широко раскрытые остекленевшие глаза его не мигая смотрели в одну точку.
– Товарищ академик!.. Товарищ академик, вы живы?.. Вы меня слышите?..
– Да-а-а… – как из подземелья прозвучал в темноте голос Казаринова.
– Вы ранены?.. Куда вас ранило?.. – Сияв с академика шапку, Таня проворными тонкими пальцами ощупала его голову. Включенный ручной фонарик валялся на земле. Она даже не заметила, когда склонился над ее спиной шофер.
– Грудь… – спекшимися губами с трудом проговорил Казаринов.
Медсестра расстегнула пуговицы пальто академика, сунула за борт руку и тут же со страхом отдернула ее. Липкая горячая кровь залила ее ладонь. Это была первая смерть на ее глазах, первое ощущение человеческой крови. Зубы выбивали дробь. Трясущимися пальцами медсестра открыла санитарную сумку, вытащила из нее два пакета бинтов, принялась лихорадочно разрывать пергаментную обертку, но ее остановил стоп раненого.
– Обождите… Вначале… сделайте, что я… попрошу…
– Что?.. Что вы хотите, товарищ академик? – Забыв, что ее правая ладонь в крови, она стерла с лица слезы.
– Письмо… Возьмите письмо…
– Какое письмо?
– В левом нагрудном… кармане…
Медсестра, превозмогая страх перед липкой и горячей кровью, сунула руку за борт пальто и вытащила из кармана вдвое сложенный конверт.
– Вот оно… Но оно залито кровью… Что мне с ним делать?
– Передайте его лейтенанту Казаринову…
– Я вас поняла. Я слышала ваш разговор с адъютантом.
– Разыщите его…
– Хорошо, передам… Обязательно передам!.. – Медсестра принялась на ощупь разматывать бинт, потом расстегнула верхние пуговицы пальто и пиджака академика.
– Где… письмо? – выдохнул Казаринов.
– Вот оно, рядом со мной лежит.
– Положите его… в карман… Положите, чтоб я… видел…
Медсестра сунула письмо в левый карман гимнастерки.
– Застегните… карман… Не потеряйте… – Голос академика был еле слышен.
Медсестра застегнула карман гимнастерки, широко распахнула полы пальто и пиджака Казаринова, повернулась к шоферу, который только что вернулся от машины.
– Машина на ходу?
– Нет… Перебит бензопровод, спустили обе правые покрышки. Осколки попали в бензобак, в нем ни капли бензина. Стекла правой двери и лобовое – вдребезги.
– Карпушин, за доставку раненого академика в Можайск отвечаешь ты! Понял?! – В голосе медсестры, затянутой в осиной талии брезентовым солдатским ремнем, прозвучала властная командная нотка.
Только теперь шофер сообразил, что ему нужно делать.
– Ты давай перевязывай, а я сейчас остановлю первую попавшуюся. – С этими словами Карпушин бросился в темноту, навстречу идущей с еле видимым подсветом машине. Она шла в сторону Можайска. Длинные козырьки над фарами с воздуха делали машину невидимой, если она шла по ровной дороге или спускалась под откос. При подъеме на взгорок шоферы и этот крохотный подсвет выключали.
– Таня… Не стоит… Это уже все…
– Не отчаивайтесь, товарищ академик! Вот сейчас перевяжу, остановим машину и отвезем вас в госпиталь. В можайском госпитале хорошие московские хирурги. А потом вас переправят в Москву.
– Таня… Доченька… – С каждой минутой стон становился все слабее и слабее. – А еще… еще…
– Что еще, товарищ академик! – произнесла медсестра, с трудом подсовывая под спину Казаринова конец бинта. Чтобы в темноте не потерять тампон, который она должна была наложить на рану, Таня держала его в зубах, отчего слова ее с губ срывались как-то глухо и шепеляво. – Ну что?.. Что вы хотите сказать?.. Я вас слушаю…
– На словах скажите внуку, что… жена его… Галина… жива и здорова… Партизанит на Смоленщине… И что у нее… родился сын… Дмитрием назвали…
– Хорошо, скажу… Все скажу… Все запомнила. Галина жива, сына назвали Дмитрием…







