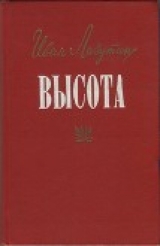
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Под натиском в несколько раз численно превосходящих сил и огневых средств мотострелкового полка дивизии СС «Рейх», плотность артиллерийского и минометного огня которого нарастала с каждой минутой, когда уже была видна колонна вышедших из леса немецких танков, командир полка разрешил командиру батальона капитану Яковлеву вывести остатки батальона с занимаемого в окрестностях деревни Рогачево рубежа в район деревни Доронино. Нелегко было комдиву в разгар боя докладывать командарму о сдаче немцам деревни Рогачево. Обидно было выслушивать генерала, который уставные слова военного человека густо пересыпал грубой бранью. А кончил словами, которые больно кольнули в сердце Полосухина: «Какие же вы… хасановцы, если не можете удержать свои рубежи?! Их день и ночь сооружали рабочие заводов и фабрик. А вы!..» Дважды повторив ставшую молитвой и клятвой команду «Ни шагу назад!», командарм бросил трубку. Проволочная связь с полками то и дело прерывалась. Связисты, выходившие на устранение разрывов, как правило, попадали под минометный или пулеметный обстрел и не возвращались. А те, кто, наладив связь, полз назад к своим окопам, часто, подкошенные нулей или осколком, оставались лежать на грязном снегу.
Каждые полчаса оперативный дежурный по штабу дивизии звонил в Можайск, справлялся, не прибыл ли эшелон с 223-м стрелковым полком. Но эшелон все не прибывал. В одиннадцатом часу, когда противник, наращивая атаки и огневые силы, бросил танки и пехоту на Фомкино и Ельню, связь с командным и наблюдательным пунктами 17-го стрелкового полка оказалась прерванной. Комдив зрительно, не по карте, знал расположение КП и НП полка и теперь с наблюдательного пункта четко видел, что большая группа немецких автоматчиков и пулеметчиков двигалась густыми цепями за танками со стороны занятой неприятелем деревни Рогачево. Взяв под фланговый перекрестный обстрел наблюдательный пункт полка, где находились командир полка майор Бородинов и комиссар полка Михайлов вместе со своим штабным ядром, немцы уже обтекали сооруженный москвичами хорошо замаскированный железобетонный дот на пригорке. Этот дот с толстой земляной насыпью смог бы выдержать и тяжелые бомбы, но нахождение в нем, когда в его лаз свистел град пуль прицельного огня, означало верную смерть. Бинокль в руках комдива крупно дрожал, перекрестие в нем плясало на плоскости бетонного лаза в чрево НП.
«Все!.. Крышка!.. Полк без командира и без комиссара». И тут же другая мысль обожгла мозг Полосухина. Он вспомнил, что знамя полка с прикрепленным к нему орденом Красного Знамени находится на командном пункте, в каких-то 500–600 метрах от дота НП, в блиндаже, сооруженном рабочими московского завода «Красный пролетарий». Отметку заводчан кто-то неизвестно чем выжег на широкой поверхности грубого соснового стола: «От краснопролетарцев».
Не смог остановить немецкие танки и цепи вражеских автоматчиков и заградительный огонь двух батарей 54-го гаубичного полка. И вдруг… Комдив до боли в переносице прижал к лицу бинокль. Он отчетливо видел, как со стороны Артемок по направлению к НП полка с автоматами наперевес бежала группа командиров и бойцов. Их было человек сорок. Он не различал лиц бегущих, но сразу понял, что это люди 17-го полка, что они бегут спасать окруженных в бетонном доте НП своих командиров. И тут полковник Полосухин первый раз увидел со стороны рукопашный бой, увидел, как кто-то из бойцов или командиров бросил под гусеницы немецкого танка гранату, как танк вздрогнул всем корпусом, заколыхался и завертелся на месте. Видел, как боец, подорвавший танк, рухнул почти у гусениц танка. Все это продолжалось каких-то полторы-две минуты, но минуты эти оказались последними для многих, скрестивших оружие в рукопашном бою. Выскочившие из подбитых танков немцы были тут же, еще на борту машин, срезаны автоматными очередями наших бойцов. Те из немцев, кто не выдержал рукопашной, пригибаясь, ошалело кинулись в лощинку у леса. Комдив видел, как их добивал из «максима» вылезший из дота пулеметчик, видел, как одна за другой выскочили из дота две согбенные фигуры, а за ними еще несколько человек. По силуэтам в двух из них он узнал командира полка и батальонного комиссара Михайлова. Если несколько минут назад со стороны командного пункта к НП бежало человек сорок, то теперь их было не больше пятнадцати. Несколько человек остались помогать раненым, остальные во главе с командиром полка побежали в сторону КП. А у КП полка творилось нечто непонятное. Перепуганные разрывами снарядов и стрельбой батарей гаубичного полка, несколько запряженных в повозки лошадей испуганно метались между свежими воронками. Рядом с повозками не было видно ни ездовых, ни часовых.
«Куда они делись? Неужели бросили штабное имущество и в диком страхе убежали?! Ведь кроме оперативных документов в штабе на КП находится и знамя полка!..» Эта мысль обдала холодком учащенно бьющееся сердце. «Неужели они погибли?.. Ведь Боевое Знамя это… Неужели уже нет полка?»
Моторизованная пехотная дивизия СС «Рейх» перешла в наступление по всему фронту. Против двух стрелковых полков и батальона курсантов Военно-политического училища двинулись танки, огневые валы артиллерии…
…Только вечером Полосухину доложили, что при освобождении командования полка в окруженном немцами НП на окраине деревни Ельня в рукопашной схватке погибло более тридцати человек. Сложили свои головы в этом бою начальник связи полка капитан Гольберг, начальник артиллерии капитан Ильин, начальник боепитания старший лейтенант Баруткин, которые на выручку своих командиров повели комендантский взвод штаба и ездовых хозвзвода.
Подробности этого критического положения, в которое в первый же день боев на Бородинском поле попали командир и комиссар 17-го полка, полковник Полосухин узнал уже в конце дня, когда с наступлением темноты механизм ведения войны, с годами четко отработанный немцами, давал своим полкам и дивизиям небольшую передышку.
…В пятом часу утра, когда в штабном блиндаже за ночь настыло, ординарец Фомич, осторожно ступая, принес в отсек комдива охапку дров, заботливо заготовленных колхозниками окрестных деревень. Даже это было предусмотрено по-крестьянски надежно: чтобы дрова не мокли под дождем в отводах траншей и их не заносило снегом, штабеля дров были накрыты пластами толя. Эту чью-то заботу Фомич оценил по-своему: «Не иначе как старики позаботились… Чуют, что война не драка на кулачках, что впереди и осенние дожди, и рождественские морозы…»
Чтобы не разбудить комдива, Фомич тихо присел у чугунной печки и осторожно, чтобы не греметь, по одному полешку положил дрова на сырой земляной пол. И лишь после того как положил в печку сухую разжигу и поджег под ней пук скомканной газеты, подошел к койке комдива. Полосухин лежал на спине, вытянув ноги и сложив на груди руки. Даже во сне на лице его, тускло освещенном керосиновой лампой, была печать напряжения и озабоченности. Накрывая комдива шинелью, Фомич подумал: «Хоть бы сапоги снял… Даже ремень не ослабил… Хуже, чем на Хасане».
Фомич вздрогнул, когда, шурша брезентовым пологом, в отсек вошел оперативный дежурный. Он даже приложил к губам палец, давая знать капитану, чтобы тот не разбудил комдива. Но капитан нес свою службу. Разбудив Полосухина, он доложил:
– Товарищ полковник, на проводе командующий!
Сон комдива как рукой сняло. Фомич не слышал, что говорил и какие приказания отдавал Полосухину командарм, но по лицу его и по тому, как комдиву в чем-то пришлось оправдываться и что-то пояснять, Фомич понял, что командарм, как и вчера, снова чем-то недоволен. А когда комдив передал связисту телефонную трубку, взгляд его встретился со взглядом оперативного дежурного, стоявшего у брезентового полога. Высокий, стройный, щеголеватый, словно приготовившийся к смотру, для Фомича этот капитан всегда являл собой образец командира Красной Армии.
– Где сейчас разведбатальон майора Корепанова? – резко спросил комдив.
– Как вы и приказали, час назад батальон разведчиков сосредоточился после марша на окраине деревни Горки, почти у подножия памятника Кутузову.
– А Корепанов? Где он сейчас?
– В дежурном отсеке штаба, – отчеканил капитан таким тоном, словно дежурил не в боевых условиях, а в мирное время, когда в части идет инспекторская проверка.
– Когда он прибыл?
Капитан взглянул на часы:
– Двадцать минут назад!
– Что же ты сразу не разбудил меня?
– Было приказано разбудить вас в пять ноль-ноль! – чеканно произнес капитан.
– В следующий раз, капитан, принимай решения на свой страх и риск. Война идет не по заранее написанному сценарию. Она заставляет импровизировать.
– Понял вас, товарищ полковник.
– Ко мне майора Корепанова.
Последний раз Полосухин видел Корепанова при погрузке эшелона на Дальнем Востоке. На вопрос комдива: «Ну как твои орлы?» – Корепанов не только словами, но жестом вскинутой руки, крепким, напористым баском и решительным взглядом выразил уверенность, что бойцы его разведбатальона сделают все, чтобы не уронить славу Хасана. И вот теперь… Прошло всего каких-то две недели, а как постарел, как осунулся майор!
– По вашему приказанию прибыл, товарищ полковник! – усталым, глуховатым голосом доложил Корепанов.
Полосухин подошел к майору и обнял его:
– Когда спал последний раз?
По лицу майора скользнула тень виноватости.
– Забыл, товарищ полковник… Кажется, дня три назад, в эшелоне…
– Где твои разведчики?
– На окраине деревни Горки.
Полосухин подвел Корепанова к оперативной карте, лежавшей на столе, и пальцем показал место, где находились Горки.
– Сейчас твой батальон вот здесь. А через два часа, пока ночь работает на нас, твои разведчики должны занять огневые позиции на опушке Утицкого леса. Оперативную карту получишь у дежурного по штабу. Через два часа доложишь мне. Задача ясна?
– Ясна!
– Раненые и больные есть?
– Нет, товарищ полковник. Но нервный накал у бойцов на пределе.
– Как это понять?
– Рвутся в бой.
– На рассвете вы поведете их в бой. Только что звонил командарм. Сообщил, что, согласно разведданным, на левом фланге нашей дивизии сегодня с рассветом будет очень жарко. 17-му полку и курсантам Военно-политического училища будет труднее, чем вчера. Наши эшелоны все еще в пути.
– Какие подразделения еще не прибыли на место дислокации, товарищ полковник?
– Вопрос по делу. Командир разведбатальона должен знать боеспособность по штату укомплектованной дивизии. – Однако не сразу ответил Полосухин на вопрос майора. – Присядь. – Комдив взглядом показал на лавку у стола и опустил руку на плечо присевшего на корточки ординарца, подкладывающего в печку дрова: – Фомич, плесни майору для сугрева положенные фронтовые. Видишь, у него еле-еле душа в теле. Да открой консервы.
Приказание полковника ординарец выполнил поспешно и охотно. А когда в граненый стакан налил из фляжки водки, не удержался от прибаутки:
– У меня глаз – как ватерпас!.. Хоть на аптекарских весах взвешивай – сто грамм, и ни на каплю, ни больше, ни меньше.
Тушенку майор ел жадно, но не спешил. Взгляд его пристально скользил по оперативной карте.
– В пути находятся еще несколько эшелонов. Где-то застряли 322-й полк, дивизион гаубичного полка, батальон связи и саперный батальон… Утицы и Артемки, как сообщил командарм, должны ждать удар страшной силы. Бросят все: авиацию, артиллерию, танки… Немцы за автомагистраль готовы заплатить дорого. Им нужна дорога на Москву. Против нашего полка и московских курсантов стоит моторизованная дивизия СС «Рейх» и еще столько, что предстоит разведать твоим орлам. Запомни главное, майор: прорыв с сегодняшнего утра ожидается на участке нашей обороны в районе Артемок и Утиц. И еще одно пожелание: держите тесную связь с гаубичным полком майора Чевгуса. За Артемки и Утицы ему тоже придется вместе с вами пролить кровушку. Ну а сейчас… – Видя, что майор справился с консервами, продолжил: – В твой батальон сегодня утром вольется разведрота лейтенанта Казаринова. Бойцы падежные, проверенные. Запах пороха и гнилых болот Белоруссии и Смоленщины знают с первых дней войны.
– Все кадровые?
– Трижды кадровые. Костяк взвода с боями выходил из вяземского ада, где окружено четыре наши армии.
– Четыре армии?! – Лицо майора, кадрового командира, хорошо знавшего штатную структуру Красной Армии, передернулось в гримасе боли и удивления. – Да это же!.. Четыре армии!.. – И чтобы не вызвать гнев комдива бурной реакцией на его сообщение, спросил: – Как вы сказали, фамилия командира разведроты, что вольется в мой батальон?
– Казаринов. Лейтенант Григорий Казаринов.
– Казаринов, Казаринов… – Майор свел брови, что-то припоминая. – Вроде знакомая фамилия.
– «Правду» вчерашнюю читал? – сухо спросил комдив.
– Читал. Да вот она. Половину уже искурил. – Майор достал из кармана шинели свернутую для табачных самокруток газету и развернул ее. Увидев на третьей полосе траурную рамку и портрет старика с величественной осанкой, вслух прочитал: – «Казаринов Дмитрий Александрович. Академик». – Посмотрев на комдива, спросил: – Родня?
– Внук.
– Газету в батальоне прочитали все до последнего бойца. И ведь где погиб-то!
– Вот именно – где! На всякий случай помни, майор, что одного Казаринова земля бородинская уже приняла. На крайний риск, если на то не будет особой нужды, внука не посылай. Это не приказ, это – просьба. Сейчас лейтенант в Москве: командарм дал ему четверо суток отпуска на похороны деда.
– Понял вас, товарищ полковник.
– Ну, с богом. Жду твоего доклада.
Когда за майором упало брезентовое полотнище, в отсек вошел оперативный дежурный.
– Товарищ полковник, только что поступило донесение из штаба 17-го, что обе группы добровольцев из расположения противника вернулись. «Языка» захватить не удалось, но силы противника в районе железной дороги разведали. Засекли позиции артиллерийских и минометных батарей, а также сосредоточение танков.
Еще с вечера полковник приказал командирам всех полков дивизии выделить боевые группы добровольцев и заслать их под покровом темноты в расположение противника. В задачу боевых групп входило: если представится возможным – взять «языка», но главное, как потом пояснил Фомич на своем языке адъютанту комдива, – устроить в тылу немцев такой «шухер», чтобы знала проклятая немчура, что Бородинское поле – это им не «алисейские поля в Париже», по которым, как он слышал от лектора из политотдела еще в эшелоне, немецкая пехота прошла торжественным маршем, а танкисты, откинув люки башен, с выстрелом откупоривали бутылки французского шампанского.
– Все вернулись? – спросил комдив.
– Не вернулся один человек – командир группы лейтенант Сорокин, – четко доложил капитан.
– Сорокин?.. Откуда он? Из какого подразделения?
– Командир взвода управления полка.
– Это, случайно, не тот Сорокин, что на востоке был физруком легкоартиллерийского полка?
– Тот самый, товарищ полковник. Призер дивизии по трем видам спорта. Гимнаст.
– Знаю его, помню… – Голова комдива низко склонилась над картой. – Наверное, попал в переплет. – И помолчав, поинтересовался: – А боевые группы других полков? Вернулись?
– Пока не докладывали.
– Свяжитесь со штабами и доложите мне.
– Есть, связаться со штабами и доложить!
Так начинался второй день боев на Бородинском поле.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Мастерская скульптора Правоторова находилась в одном из тихих переулков Арбата, в старинном одноэтажном особняке, ремонтировать который райисполком в тридцатых годах счел делом дорогостоящим и хлопотным: отопление печное, водоснабжение и канализация давно вышли из строя, телефона не было. И поэтому домик с легкой душой был передан под мастерские Союзу художников: благо, что художники МОСХа вот уже несколько лет ходатайствовали перед Моссоветом о передаче им старых, пришедших в ветхость и непригодных для жилья домов, каких только в зоне Бульварного кольца столицы оказалось несколько десятков.
В одном из таких домов получил несколько просторных комнат с высокими потолками и скульптор Правоторов.
Из письма деда, полученного весной, Григорий знал, что Правоторов в январе и феврале работал над его портретом, а вот завершил ли он его – Дмитрий Александрович не написал. Сегодня, после того как он передал по акту двум представителям президиума Академии наук СССР опечатанные труды деда, хранившиеся у него в сейфе, Григорий через справочную узнал телефон Правоторова и позвонил ему домой. Разговор был короткий, но тяжелый. Больной скульптор, выражая слабым, осипшим голосом соболезнование, очень горевал, что из-за проклятого радикулита, свалившего его месяц назад, не смог проводить в последний путь известного советского ученого, которого успел полюбить за те несколько недель общения, когда работал над его портретом.
На вопрос скульптора: «Чем могу быть полезен?» – Григорий спросил: завершил ли он работу над портретом деда. Прежде чем ответить, Правоторов зашелся в сильном астматическом кашле. Пауза показалась Григорию мучительно долгой.
– Завершил… Остались кое-какие мелкие недоделки. Но уже чисто технического плана…
Григорий сказал, что его дивизия стоит под Москвой, и что командование отпустило его всего на четверо суток, и что завтра он должен быть на месте.
– Милый, чем могу быть вам полезен? – донесся из трубки глухой, болезненный голос.
– Хочу видеть портрет деда. Дорогой Артем Константинович, пожалуйста, примите меня, и если можно, то сегодня… Очень прошу вас. Если позволите, я найду машину и отвезу вас в вашу мастерскую, если портрет находится там.
– Да, портрет в мастерской, но пока он еще в гипсе. А вот насчет машины… насчет машины я постараюсь сам. Я как раз планировал сегодня вечером быть в мастерской. За мной приедут. Запишите адрес.
Григорий выхватил из планшета карандаш, блокнот и стал записывать. На слуху у него названный арбатский переулок был давно, еще с детских лет, а вот где он находится – не знал. За ориентир решил взять театр имени Вахтангова, а потом у арбатских старичков и старушек наверняка удастся узнать местонахождение этою переулка.
И он не ошибся в своих расчетах. Первая же старушка в старомодной меховой шапке и отороченном вытертым мехом приталенном пальтишке, которую он остановил, когда она выходила из Серебряного переулка, на протяжном, мягко акающем старомосковском говоре подробно объяснила, как ближе дойти до нужного переулка.
Было еще семь часов вечера, а военная Москва уже потонула в вечернем мраке, когда Григорий разыскал низенький староарбатский домик и, нащупав кнопку звонка, нажал на нее. Дверь ему открыла немолодая женщина с пуховой шалью на плечах.
Судя по тому, как женщина поспешно, с какой-то тревогой почти судорожно захлопнула дверь и закрыла ее на чугунную задвижку, Григорий понял, что вопрос светомаскировки волнует москвичей сильно.
– Вы внук Дмитрия Александровича Казаринова?
– Да, я с Артемом Константиновичем договорился.
– Он вас ждет, прошу… Сюда… – Шлепая старенькими тапочками по старому паркету, женщина повела Григория по холодному, пахнущему известкой и плесенью коридору. – Похожи, очень похожи на своего покойного дедушку… – Протяжный глубокий вздох оборвал фразу.
Главная рабочая комната скульптора, куда ввела Григория, как он сразу понял, супруга скульптора, была неожиданно большой и с непомерно высоким потолком, завешенным серым брезентом. Григорий успел подумать: «Наверное, потолок стеклянный… Завешен в целях светомаскировки…» Таким же плотным брезентом были зашторены и окна. Комната была заставлена разных размеров скульптурами, расставленными в беспорядке на полках, на стеллажах из неструганых сосновых досок, на массивных подставках… Некоторые, особенно крупные скульптуры стояли на полу. На какие-то секунды забыв про художника, к которому он пришел, Григорий лихорадочным взглядом пробежал по скульптурным портретам, выискивая портрет деда.
Увидев волнение гостя, жена скульптора поспешила успокоить Григория:
– Портрет вашего деда в другой комнате, не ищите его здесь.
Из соседней комнаты послышались чьи-то тяжелые шаги – и вскоре дверь широко раскрылась. Опираясь на суковатую дубовую палку, заметно припадая на одну ногу, из нее вышел Правоторов. Высокий, костистый, худой… Львиная с сильной проседью шевелюра, глубокие морщины, избороздившие впалые небритые щеки… Такие лица, увиденные однажды, запоминаются на всю жизнь. Год назад, как помнит Григорий, Правоторову исполнилось семьдесят лет. О нем писали в газетах, говорили по радио, в Центральном Доме работников искусств на Пушечной улице была организована персональная выставка юбиляра. В «Огоньке» о творчестве Правоторова был напечатан целый разворот и помещен цветной портрет работы известного художника Ларионова. И вот теперь он стоит перед ним хотя и ссутулившийся, старый, судя по бледному лицу, изнуренный болезнью, но по-прежнему, как и на портрете Ларионова, величественный и излучающий какую-то внутреннюю силу мастер, знающий себе цену и верящий в свое предназначение.
– Сработали, сработали дедовы гены, – проговорил Правоторов, пронзая взглядом Григория. Несмотря на болезнь, пожатие скульптора было крепким. – Те же глаза, тот же разлет бровей… – Повернувшись к жене, он спросил: – Машенька, ты не находишь, что внук поразительно похож на деда?
– Я об этом сказала, как только открыла дверь, – словно оправдываясь, проговорила жена.
– Познакомьтесь – это моя дражайшая супруга, мой соавтор-труженик, мой домашний доктор, и если сказать правду, то временами и деспот… Мария Николаевна. В молодости друзья ее называли Правоторихой.
– Очень приятно. – Григорий поклонился и представился: – Григорий Казаринов.
– Машенька, раздень дорогого гостя и дай нам в кабинет кофейку. Ну и не поскупись к кофейку по маленькой. Помянем Дмитрия Александровича. Он жил как маршал, а умер как солдат. – И чтобы не мучить Григория расспросами об обстоятельствах гибели деда и не бередить душевную рану, Правоторов с горечью махнул рукой: – Подробности можете не рассказывать. Их знает вся Москва. Прими, Григорий Илларионович, мое отцовское соболезнование. Для меня гибель академика Казаринова, с которым я успел подружиться, была сильным ударом. Два дня я не мог взять в руки ни карандаша, ни кисти. Опускались руки. Вот так-то, друг мой. Все мы ходим под богом, хотя крестов на груди не носим. Носим партийные билеты.
Раздевшись, Григорий повесил шинель, шапку и планшет на ветвистые оленьи рога, прибитые к стене.
– Как мы с тобой поступим: сразу быка за рога или вначале посмотришь мои скульптуры? Тут тридцать последних лет моей жизни.
Григорий стоял смущенный, молчал, окидывая взглядом нагромождение скульптур, которые были ему сейчас безразличны, но сказать об этом он не решался. Ему помог скульптор.
– Понял тебя, дорогой друг. Тебя сейчас не тронут даже шедевры Лувра. Пойдем. – Приоткрыв дверь в соседнюю комнату, Правоторов пропустил впереди себя Григория и, волоча больную ногу, пристукивая тяжелой палкой, пошел следом за ним. В небольшой комнате, служившей художнику кабинетом, кроме письменного стола, двух кресел, дивана и полок с книгами стояли еще три портрета на высоких подставках. На одном из них был изображен академик Казаринов. Этот портрет был крупнее двух других и отличался манерой исполнения.
Увидев замершего перед портретом Григория, Правоторов, стараясь не стучать палкой, отошел в сторону и со стоном опустился в кресло. Для него, художника, Григорий уже был живой, выразительной натурой. Бери кисть и запечатлевай на полотне мгновение человеческого напряжения. Перед портретом стоял не искусствовед, не художник… Перед портретом академика Казаринова стоял его родной внук.
Глубокий как стон вздох Григория нарушил тишину, которую болезненно ощущал художник.
– Ну как? – тихо спросил Правоторов, не сводя глаз с лица Казаринова.
Григорий молчал, словно не слышал вопроса. И молчание это скульптор воспринял как наивысшую похвалу его работы. Лишь через несколько минут, когда в комнату с подносом в руках, на котором стояли две чашки кофе, две рюмки, вафли и начатая бутылка коньяка, вошла Мария Николаевна, Григорий тяжело выдохнул:
– Он был таким. Он весь здесь. Как живой… – И, помолчав, добавил, не спуская глаз с портрета: – Он словно рядом с нами. Мне кажется, что он сейчас заговорит.
Правоторов встал, с трудом разгибаясь, подошел к Григорию, который, по-прежнему не шелохнувшись, стоял перед портретом.
– Спасибо, Григорий Илларионович… – Голос художника старчески дрожал. – Сказанное вами – высшая похвала для меня. Когда я отолью портрет в бронзу – подарю вам этот оригинал.
В разговор вмешалась Мария Николаевна:
– Ты же собирался высечь его в белом итальянском мраморе. Говорил, что даже облюбовал глыбу.
– Нет, Машенька, я передумал. Белый мрамор для такого великана, каким был академик Казаринов, – материал слишком сентиментальный. Его вулканическую душу нужно писать языком пожара. А богатырский лик его передаст только бронза. – Правоторов медленно опустился в кресло, стоявшее перед журнальным столиком, и жестом пригласил и Григория сесть… – Хоть символически, но, по славянскому обычаю, помянем деда. Машенька, посиди и ты с нами. Ведь ты тоже любила Дмитрия Александровича. Ты его считала истинным джентльменом. Ни разу ведь не приехал без цветов.
– Да-а… это был необыкновенный человек! – вздохнула Мария Николаевна. – Когда он приезжал к нам, мне всегда казалось, что в мастерской становилось светлее.
Поднимая рюмку с коньяком, Правоторов закрыл глаза. На какое-то время рука его замерла в воздухе.
– Пусть земля ему будет пухом! Он оставил глубокий след в науке и в наших сердцах. – Правоторов опрокинул рюмку и закусил вафлей. – Дмитрий Александрович много раз был у меня. Какие задушевные беседы мы вели!.. Широта мыслей у него сочеталась с какой-то детской непосредственностью. Неповторимые дни в моей жизни… Он много рассказывал мне о тебе, о твоем отце, погибшем при штурме Кронштадта, о том, как вы хоронили его на Волковом кладбище. Он гордился тобой… – Голова художника толчками склонялась на грудь.
Было видно, что он очень устал. Григорий сразу почувствовал это.
– Артем Константинович, у меня к вам большая просьба.
– Слушаю тебя, Григорий Илларионович… – Правоторов медленно поднял голову, и взгляд его встретился со взглядом Григория.
– Я хочу купить портрет деда.
– Зачем он вам? Куда вы его поставите? Вы же воюете… Вы же не знаете, что с вами будет завтра. – Большие сильные пальцы старика нервно выбивали дробь на подлокотнике кресла.
– Я хочу поставить памятник на могиле деда.
– Кто его будет делать?
– Вот об этом я и хотел просить вас. Деньги у меня есть. Мне досталось большое наследство. Кроме вас, мне некого просить об этом.
Правоторов откинулся в кресле и некоторое время сидел неподвижно с закрытыми глазами, словно что-то мучительно обдумывал.
– Вы немного опоздали, Григорий Илларионович, – вмешалась в разговор Мария Николаевна, зябко кутая плечи в пуховую шаль.
– То есть как опоздал? – с тревогой в голосе спросил Григорий.
– Неделю назад у нас была закупочная комиссия. Портрет уже оценили, и составлен акт оценки. Его хочет приобрести Третьяковка.
– Ты обожди, Машенька, не вмешивайся… – Правоторов многозначительно посмотрел на жену. – Одно другого не исключает. В запасниках Третьяковки портрет еще успеет настояться… – Глаза Правоторова заблестели, а крепко сжатый кулак твердо лег на журнальный столик. – Да!.. На Новодевичьем кладбище портрет будет выглядеть впечатляюще. Я и задумал его не салонным, не камерным… – Переведя взгляд на Григория, художник обеспокоенно проговорил: – Но ведь потребуется достойный постамент, желательно из гранита-габро, гранитная ограда… Это потребует немалых денег, а ведь вы пока всего-навсего лейтенант.
– У меня есть деньги, – мягко напомнил Казаринов. – Денег хватит на все: на портрет из бронзы, и на постамент из габро, и на гранитную ограду.
– Машенька, дай мне оценочный лист. Он в нижнем ящике стола, в левой тумбе, в розовой папке.
Мария Николаевна достала из стола розовую панку, извлекла из нее то, что просил муж, и положила документ на стол. Правоторов развернул лист и положил его перед Григорием.
– Зачем вы мне это показываете? – смутился Григорий, который всегда чувствовал неловкость, когда разговор заходил о деньгах.
– Чтобы вы знали, во сколько оценила портрет закупочная комиссия Третьяковки. Вы же хотите приобрести портрет?
– Да, я хочу его приобрести, – твердо произнес Григорий, пробегая глазами оценочный лист. – Эту сумму я могу передать вам сегодня, даже сейчас, потому что завтра для этого у меня уже не будет времени. Завтра я должен быть на передовой. – Видя, что Правоторов хочет что-то сказать, Григорий, боясь сделать паузу, напористо продолжал: – И еще у меня к вам просьба, дорогие Артем Константинович и Мария Николаевна. Умоляю вас памятью деда: возьмите на себя хлопоты по изготовлению памятника и постамента, по его установлению и всем тем транспортным расходам, которые будут необходимы. Разумеется, для этого вам придется нанимать рабочих и архитектора. – Григорий посмотрел на часы, отхлебнул глоток уже остывшего кофе. – Денег у меня на все хватит. Остались от деда в его сейфе.
– Ты нас поставил в весьма трудное положение, Григорий Илларионович, – глухо и как-то виновато проговорил Правоторов. – Там, где кончается разговор творческий, разговор душевный, и начинаются денежные расчеты, я, честно говоря, теряюсь. Что касается стоимости портрета, то я могу взять с тебя только половину оценочной стоимости. Дмитрий Александрович был моим другом… Мне даже и эту сумму взять совестно, если б не текли потолки и не нужно было менять прогнивший во всех комнатах пол… Машенька, что скажешь ты? – Правоторов, склонив голову, выжидательно смотрел на жену.
– Да не только пол и потолки… А печи?.. Обе развалились, а за подводку водяного отопления заломили такую сумму, что я даже растерялась.
Лицо Правоторова передернулось в болезненной гримасе.
– Маша, Маша!.. Ты не то говоришь!.. Я не об этом тебя спрашиваю.
Видя возникшую неловкость, Григорий встал и быстро вышел из кабинета. Через минуту он вернулся с планшетом, достал из него сберегательную книжку, три пачки новеньких сторублевых купюр, крест-накрест заклеенных голубыми бумажными лентами, и положил все это на стол. – Я единственный наследник деда не только по закону, но и по завещанию, которое лежит в книжке. В ней же лежит и нотариально заверенная доверенность на вас, Артем Константинович. По ней вы можете получить все деньги хоть завтра и взять из них столько, сколько потребуется на памятник деду.







