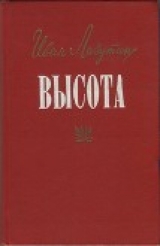
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
– А теперь тот, что побольше, вставь в замочную скважину сейфа и поверни два раза по часовой стрелке.
…Это было давно, перед выпускными экзаменами. И вот теперь те же ключи со сложным рисунком профилей лежали на его ладони.
Вставив большой ключ в замочную скважину, Григорий почувствовал какую-то неловкость. Думал ли он когда-нибудь, что в жизни все сложится так несправедливо. И все-таки сейф придется открыть. Наследство деда нужно принимать не кому-нибудь, а ему, внуку, единственному оставшемуся в живых из рода Казариновых. Действиями Григория теперь уже руководил долг.
Легко открылись и две другие внутренние дверцы. В верхнем отсеке сейфа, на самом верху стоики документов, лежал большой белый конверт, надежно заклеенный и скрепленный сургучной печатью. На лицевой стороне конверта черными чернилами рукой деда (почерк его Григорий узнал бы из тысячи почерков) было размашисто написано: «При жизни моей не вскрывать!..» Внизу стояла его роспись с мудреными завитушками на последней букве.
Григорий ножницами осторожно разрезал утонченный край конверта. В нем лежало нотариально оформленное завещание. Дмитрий Александрович завещал внуку все: дачу, денежные сбережения в сберкассе, библиотеку, квартиру, а также все движимое и недвижимое имущество, на правах личной собственности принадлежавшие академику Казаринову. Особо было оговорено и право наследования Григорием всех гонораров, причитающихся академику Казаринову за труды, которые будут опубликованы после его смерти.
Григорий положил завещание на стол, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. «Дедушка, милый, если бы все это можно было бы отдать всего лишь за один-единственный день твоей жизни… за час свидания с тобой… Последний раз ты видел мои слезы, когда я был совсем маленький… А вот теперь я плачу… Я так одинок… Но ничего, старина, ты прожил большую красивую жизнь. Ты испытал все, что написано на роду великому человеку: горечь утрат самых близких и радость высокого предназначения в науке. Слава, почести, народное признание, моя любовь… – все было с тобой до последних ударов твоего сердца».
Во время похорон деда Григорий как-то держался. Сердце его словно окаменело от горя. А вот теперь… «Не так давно у меня были ты, Галина и Родина. Сейчас нет тебя, нет Галины, которая под сердцем носила мое дитя. Осталась только Родина. Я знаю, дедушка, ты любил Родину, во имя Родины ты отдал жизнь! Во имя Родины я уже клялся под знаменем отдать свою жизнь, если потребуется. Только в бою я найду теперь утешение. Только в отмщении за тебя, за Галину, за мое загубленное дитя и за всех тех, кто сложил голову за Родину… В моих жилах, дедушка, течет твоя, казариновская, кровь. Только сейчас я понял, дедушка, как же сильно я люблю тебя…»
Из оцепенения Григория вывел телефонный звонок. Расслабленной рукой поднял он телефонную трубку. Звонили из президиума Академии наук СССР. Звонивший представился по фамилии, имени и отчеству, назвал свое служебное положение, спросил, с кем разговаривает.
– Вы говорите с внуком академика. Моя фамилия Казаринов Григорий Илларионович… – проговорил Григорий.
– Как я понял во время похорон, вы человек военный? – раздался в трубке вопрос.
– Да… С боевых позиций командование отпустило меня на четверо суток. Завтра вечером или послезавтра утром я должен быть в части. Вас что-то интересует?
После некоторой паузы звонивший ответил, что во избежание разного рода непредвиденных обстоятельств архив научных работ академика Казаринова необходимо срочно передать в президиум академии. Последние слова таили в себе скрытый смысл. По тону, каким они были сказаны, Григорий понял, что архив деда представляет большую ценность.
– Я вас понял. Можете приехать сегодня после пятнадцати ноль-ноль. Я все приготовлю. Только прошу вас: акт передачи нужно оформить официально. Побеспокойтесь об этом.
– Это будет непременно сделано, – прозвучало в трубке. – До свидания.
Григорий положил телефонную трубку и открыл нижнюю дверцу сейфа. В глаза бросилась большая синяя папка, крест-накрест перевязанная белой тесемкой. Как и конверт с завещанием, папка была опечатана сургучной печатью. На лицевой стороне ее красными чернилами все тем же дедовским почерком было написано: «После моей смерти передать в президиум Академии наук СССР». И та же размашистая подпись с закорючками на последней букве.
Потом пошли беспрерывные звонки. Звонили знакомые и незнакомые Григорию люди. В основном это были сотрудники Академии наук и преподаватели Московского университета, которые по тем или иным причинам не смогли прийти на гражданскую панихиду. Звонки эти бередили душу, временами Григорий чувствовал в них не столько скорби, сколько рационального, житейского, протокольного… Измучившись вконец, он выключил телефон, набил табаком старую дедову трубку работы кубачинских мастеров, которую академик давно уже не курил, и с первых же затяжек ароматного «Золотого руна», пачка которого каким-то чудом сохранилась в ящике письменного стола, почувствовал, как по телу поплыло сладкое, пьянящее расслабление.
В верхнем отсеке сейфа лежали также две сберегательные книжки. В углу виднелся довольно толстый сверток. Григорий развернул его. В нем лежали четыре пачки новеньких сотенных купюр, каждая из которых была опоясана банковской бумажной лентой с пометкой «10 тысяч руб.».
К деньгам Григорий был равнодушен с молодости. Теперь же, когда на его глазах погибали боевые друзья, погибла любимая жена, когда каждый день на карту ставилась собственная жизнь, деньги не только потеряли свое значение, но были и чем-то тягостным: они связывали его, к чему-то обязывали – ведь они были нажиты честным трудом.
Григорий положил в сейф папку с научными трудами и конверт с завещанием, закрыл его на ключ, деньги бросил в ящик письменного стола. Прошел в гостиную. В ней ничего не изменилось с тех пор, когда он был здесь в последний раз два года назад. На стеклах окон, правда, появились бумажные кресты. На глухой, торцовой стене комнаты висел портрет деда, написанный десять лет назад известным московским художником Ларионовым. Даже слегка сведенные густые темные брови, образовав складку, не гасили обаяния светлой улыбки. Таким было лицо деда в минуты, когда он вел задушевную беседу с другом или интересным человеком.
Над диваном висел написанный маслом пейзаж Павла Радимова. Художник подарил его Дмитрию Александровичу в середине тридцатых годов, когда тот вместе с Ворошиловым приезжал к нему на дачу в Абрамцево на открытие постоянной выставки Радимова. Художник был основателем и первым председателем Ассоциации художников революционной России. Об этой интересной встрече, на которую собрались видные художники Москвы, Дмитрий Александрович рассказывал часто, всякий раз внося какую-нибудь новую подробность в описание чудачеств художника и поэта Павла Радимова. В свое время Горький и Шаляпин, во время их встречи на Капри, от души до слез хохотали над радимовскими стихами, написанными гекзаметром. Сегодня Григорий видел Павла Радимова на Новодевичьем кладбище.
Григорий подошел к окну и увидел в углу двора Лукиничну, снимающую с веревки мороженое белье. Около нее крутился Тарасик, тыча ей в грудь мохнатого медвежонка. Этого медвежонка Грише подарила няня Фрося, когда он еще не ходил в школу. Слов Тарасика не было слышно, но по выражению его лица можно было догадаться, что все его детское существо в эту минуту переполнено счастьем.
Чтобы куче пороха вспыхнуть и сгореть, не нужно поджигать каждую порошинку в отдельности. Достаточно поджечь одну порошинку, чтобы пламя ее, перекинувшись на соседние порошинки, в какие-то доли секунды превратило кучу пороха в вихрь огня. И этой первой вспыхнувшей порошинкой в душе Григория был Тарас, на которого бабушка, занятая делом, не обращала никакого внимания.
Григорий поднялся на подоконник, открыл форточку и крикнул:
– Лукинична!.. Зайдите ко мне…
Первую минуту Лукинична не могла понять, откуда ее окликают, и, только после того как Григорий помахал высунутой из форточки рукой, догадалась, кто ее зовет.
– Лукинична!.. Зайдите ко мне вместе с Захаром Даниловичем.
– Когда? – разнесся по двору ее не по годам сильный грудной голос.
– Сейчас!..
Буквально через несколько минут в прихожей Казариновых раздался робкий звонок. По растерянным выражениям лиц дворника и его жены нетрудно было понять, что оба они обеспокоены: уж не случилось ли что?
– Звали? – виновато спросил дворник, поглаживая ладонью седую бороду.
– Заходите! – Григорий широко распахнул дверь.
– Да мы… Да на дворе сыровато… Наследим… – топтался перед порогом дворник. – Может, так скажете… Может, какая помощь нужна?
– Заходите! – строго сказал Григорий. – Разговаривать через порог, говорят, плохая примета.
После того как старики сняли в прихожей валенки (Григорий на этот раз не произнес традиционной фразы «У нас не музей», которая была в ходу у Казариновых, – гости, боясь наследить, нередко торопились спять обувь), Григорий пригласил их пройти в гостиную.
– Хочу показать вам квартиру.
– Да я ее видела, спасибочко, пособляла Фросе мыть окна, помогала ей по дому, когда она хворала. Как-то недели две лежала в таком жару, что думали – не встанет. Но бог миловал, поднялась.
Видя, что Лукинична хочет сказать что-то еще, но не решается, Григорий перебил ее:
– Пожалуйста, Лукинична, и вы, Захар Данилович, пройдите за мной.
Григорий провел стариков в кабинет деда и усадил их на диван.
– Ну как, внуки довольны игрушками?
– Ой, что вы, прямо ошалели от радости!.. Носятся с ними как полоумные! Сроду в такие не играли! – воскликнула Лукинична.
– А теперь послушайте меня. – Григорий встал посреди кабинета и в упор смотрел на дворника. – Для начала нашего делового разговора представлюсь. – Григорий расправил под широким ремнем гимнастерку и сдвинул слегка назад кобуру с пистолетом. – Мое имя и отчество вы уже знаете. По военной должности я – командир разведроты. Воюю с первого дня войны. Сейчас стоим за Можайском. Я получил четверо суток на похороны деда. Похоронили его, как вы знаете, на Новодевичьем кладбище. – Григорий замолк и прошелся по ковровой дорожке от стола к книжным стеллажам, занимающим всю глухую стену кабинета. По как-то сразу потускневшим лицам стариков он понял, что извечная традиция славян выразить сострадание – вздохом ли, плачем ли, или причитанием – тем, кто только что потерял ближнего, коснулась и их чувствительных душ. Лукинична глубоко и шумно вздохнула и со словами «царство ему небесное» перекрестилась. Данилыч нахмурился и низко опустил голову.
– Поминки-то будут? Может, чем помочь могу? Я по стряпне, люди сказывают, ловкой была. – Губы старушки сошлись скорбным морщинистым узелком.
– Спасибо. Поминок не будет, – как бы оправдываясь, сказал Григорий. – Хотя покойный был крещеный и христианской веры. Война. Меня ждут окопы. На войне умирают миллионы, и все без поминок. Мой дед погиб на войне как солдат. Помянули его сегодня на Новодевичьем кладбище как солдата – троекратным залпом над могилой.
– Что верно, то верно, – глухо отозвался старик, не поднимая головы.
– Пригласил я вас, дорогие Степанида Лукинична и Захар Данилович, для серьезного разговора. И думаю, что для вас этот разговор не будет безразличен. – Григорий снова прошелся по ковровой дорожке.
– Мы-то что… Мы завсегда рады помочь, разве мы не понимаем… Сейчас только сообща можно не потерять головы… – Старуха силилась понять, зачем внуку академика, командиру Красной Армии, потребовались они, темные деревенские люди, и вроде бы сердцем чуяла, о чем думал Григорий, а в точку не попадала. А потому решила молчать.
– Я только что был у вас. Видел, в каких условиях вы живете. Зима предстоит трудная. Война никого не греет. С внучатами-сиротами вы ютитесь в сырой темной лачуге. – Григорий жестом руки обвел большой кабинет деда и показал на дверь в сторону гостиной: – А здесь, видите, пустуют такие хоромы. Четыре комнаты, около ста квадратных метров. Хозяин умер, а я завтра уезжаю на фронт, в окопы. А пуля, она – дура, для нее все равны: простые смертные и знаменитые академики. Теперь вы поняли, зачем я вас пригласил? – Григорий смотрел в глаза Лукиничны.
– Что-то вы мудрено говорите, Григорий Ларионович. Не поняли мы, чем помочь можем.
– Помощь нужна не мне, а вам. Впереди зима, а она обещает быть лютой. Промерзнет насквозь ваш птичник. Покойный профессор своих пернатых в морозы переносил в квартиру, хотя птичник его хорошо обогревался.
– Что и говорить, старики действительно обещают зиму крутую, – согласился Захар Данилович. – Да и по приметам чую, что худо вам придется в хибарке, уже сейчас промерзает.
– Внуки начнут хворать, да и вы в свои годы уже не железные.
Старуха поднесла к глазам угол клетчатого платка, сокрушенно завздыхала, разглаживая левой рукой морщины на лбу.
– Откуда ему быть, здоровью-то? Жизнь так ломала, так крутила-вертела, что не приведи господь.
Наступила тягостная пауза. По лицам стариков Григорий видел, что оба они в растерянности.
– Теперь слушайте меня: две комнаты из четырех я решил передать вам.
Лица стариков вытянулись. Руки дворника, свесившись с коленей, крупно дрожали. Он даже поперхнулся, пытаясь не то что-то спросить, не то возразить.
– Да как же так?.. За что же это вы нам, Григорий Ларионович? – заохала и запричитала Степанида Лукинична, то прижимая руки к груди, то разводя их в стороны. – Кто мы вам – родия, что ли?
Старики ничего не понимали. Григорий решил разрядить напряжение:
– Я все продумал, дорогие мои старички. Может быть, я и не пошел бы на это, если бы сам не испытал сиротство. Мне жалко ваших внучат. В отличие от меня им придется расти не в семье знаменитого академика, а в семье старого дворника. – Григорий раскурил потухшую трубку, сел в кресло за письменный стол. – Вам и вашим внукам нужно теплое и удобное жилье, чтобы жить по-человечески. А мне нужны честные люди, которые смогли бы сберечь все, что осталось от покойного деда. – Григорий махнул рукой в сторону книжных стеллажей: – Эту библиотеку дед собирал полвека. В этом столе, – Григорий положил обе руки на стол, – лежат документы, архивные материалы, важные письма… – Бросив взгляд на открытый сейф, продолжил: – В сейфе этом – тоже важные документы и ценности. – Григорий обвел вокруг себя руками: – Все, что находится здесь, в гостиной и в двух остальных комнатах, нужно сберечь. Все это наживалось дедом честным трудом. Это был его духовный и материальный мир. Прошу вас, помогите мне все это сохранить.
Григорий встал и жестом пригласил стариков пройти за ним в гостиную. Когда они вошли в нее, Григорий заметил, как взгляд дворника начал метаться от хрустальной люстры к серванту, от серванта – к буфету, заставленному хрусталем и дорогим фарфором, от посуды – к картинам в дорогих рамах, висевшим на стенах.
– А куда все это девать?.. Где все это прятать? – озадаченно произнесла Лукинична. – В той комнате, где мы только что были?
Григорию была понятна растерянность стариков.
– Все это вам пригодится. Надо же из чего-то есть и пить. Часть посуды, к примеру, два эти сервиза, – он показал рукой, – мы перенесем в кабинет. Уберем и часть хрусталя. Всем остальным можете пользоваться.
– Нет-нет!.. – замахала руками Лукинична. – Мы не привыкшие есть из дорогих тарелок. У нас свои есть… Да и ребятишки больно озорные, из алюминиевых чашек уплетают так, что только успевай подливать да подкладывать. А чай-то… Чай в наших местах сроду из граненых стаканов пили, а их у нас, слава богу, хватает. – Видя, что старик онемел от неожиданного предложения Григория, Лукинична все стала решать сама. – Уж если вы, Григорий Ларионович, хотите помочь нам перезимовать, то дайте одну комнату, а остальные заприте. Мы сохраним все. А то и одной кухней обойдемся.
– Я вам оставлю две комнаты: эту и вон ту. – Григорий показал на дверь Фросиной комнаты. – В вашем распоряжении и кухня. Там есть все необходимое.
– Не нужна нам ваша дорогая посуда. Мы и из черепушек похлебаем за милую душу, не избалованы, ко всему привычные, – лились слова Лукиничны. И лишь когда запас ее благодарственных слов иссяк, она метнула взгляд на старика: – Ты-то что молчишь? Али язык проглотил?
– Я-то что… Я с превеликой благодарностью приму предложение ваше, Григорий Ларионыч. А что до добра, то все сохраним по совести. Но есть одна закавыка… – Старик неожиданно умолк.
– Какая закавыка?
– Да милиция, будь она неладна…
– Что – милиция?
– Разрешит ли? Больно строга она в Москве.
– Чем же она строга? – Григорий внимательно смотрел на дворника и никак не мог понять, что могло так неожиданно омрачить радость в душе старика.
Старик разгладил глубокие морщины на заросших седой щетиной щеках и шумно вздохнул:
– Пачпортов мы со старухой пока не получили. Колхозники мы, Ларионыч. До сих пор живем с сельсоветскими справками. Да и те порядком поистерлись: уж больно часто их спрашивали. – Еще что-то хотел сказать старик, но Лукинична перебила его:
– Дак ведь обещают. Ты что, забыл? Когда принимали в дворники, сказали: «Поработаешь месяца два-три – и выдадим пачпорта».
– Прописывать их надо, – глухо проговорил старик, мрачнея. – Сам участковый сказывал намедни: без прописки в Москве нельзя.
– Дак сам же неделю назад говорил, что временно, пока на полгода, обещали прописать. Что, нетто забыл? – напирала на старика Лукинична, а сама все старательнее приглаживала к вискам седые, выбившиеся из-под платка пряди.
– Это было говорено… Временно обещали. Да нам хотя бы временно… – Старик поднял на Григория глаза. В них были и детское доверие и преданность. – Нам бы хотя напервой, как говорит дворник из соседнего дома, малость зацепиться. А то со справками одна маета. Одно слово – беспачпортные бродяги. Спасибо милиции, что с сиротами из Москвы пока не выгоняет, работу дала. Куда с ними денешься?.. На дворе – зима.
– Как, разве у вас нет паспортов? – удивился Григорий.
Старик развел руками:
– А откуда им быть? Колхозникам пачпортов не положено.
Родившийся в Москве и всю жизнь проживший в центре столицы, Григорий не мог себе представить: как это так – не иметь паспорта.
– Это что, в одной вашей области? Или по всей Белоруссии?
Ухмылка скользнула по серым губам старика и скрылась в обвислых седых усах.
– Вы сурьезно об этом спрашиваете, Григорий Ларионыч, или так, шутейно?
– Я спрашиваю вполне серьезно, – проговорил Григорий, тут же прикинув в уме, не кроется ли в словах старика какой-то скрытый смысл.
И снова взгляд давно потухших глаз Данилыча встретился со взглядом Григория.
– Не только в нашей Белоруссии колхозники мыкаются без пачпортов, но и по всей матушке-России, а также и у других нациев. Даже у грузинов и армянов. Лошадей держат без налогов, и кинжалы разрешают им носить, а пачпортов, говорят, тоже пока не дают.
– А почему «даже» у грузинов? – Глядя в как-то сразу поникшее лицо дворника, Григорий пожалел, что так неосмотрительно перевел безобидный житейский разговор в национальное русло.
– Да это я так… От соседского дворника слыхал. Сказывал он, что грузинцам дают поблажку, – пытался увильнуть от прямого ответа старик.
– Что же вы от него слышали? – просительно произнес Григорий, надеясь, что старик по простоте душевной скажет ему что-то такое, что прольет свет на неясный для него вопрос: почему колхозники не имеют паспортов?
– Соседский дворник намедни даже побожился, что грузинцам разрешают и днем и ночью носить на боку вострые кинжалы… И еще он говорил, что их не облагают налогом на лошадей. Заводи хоть тройку. И самогон гнать грузинцам не запрещают. Только зовут они его не самогоном, а чачей. Хитры, черти!..
– А в России? А в вашей Белоруссии?
– Шутник вы, Григорий Ларионыч! – Первый раз лицо старика осветилось озорной, хитроватой улыбкой, а из прищуренных глаз брызнула колкая насмешка. – Как будто сегодня родились.
– Нет, я серьезно спрашиваю: какая связь между лошадьми, кинжалами и грузинами?
Старик неторопливо разгладил бороду и глухо откашлялся – как бы прочистил горло. Лицо его сразу посуровело, задумчивый взгляд устремился в пол.
– Если вы сурьезно спрашиваете, то я вам сурьезно и отвечу. – Старик помолчал, видимо подбирая правильные слова. Наконец продолжил: – В России, как вы знаете, Григорий Ларионыч, за ношение финок и кинжалов сажают в тюрьму и угоняют кого в Магадан, кого на Колыму… А с единоличников, которые имеют рабочих лошадей, снимают три шкуры…
– Поясните, – перебил Данилыча Григорий.
– Райфо обкладывает такими налогами, что, будь ты хозяином даже трехжильным, все равно не выдюжишь, через месяц за бесценок сведешь в колхоз свою гнедуху или рыжуху.
Григорию было неловко оттого, что он прожил на свете двадцать четыре года и только теперь узнал, в какое неравное положение по сравнению с некоторыми другими национальностями поставлен русский крестьянин, вся жизнь которого испокон веков связана с лошадью. А житель Кавказа, для которого лошадь всегда являлась не столько рабочей силой и кормилицей, сколько средством проявления национальных традиций с их праздничными увеселениями, скачками, джигитовкой, поставлен в такое привилегированное положение.
– Да-а-а… – только и мог сказать Григорий. – Но ничего, Захар Данилович, не вешайте голову. Вот разобьем фашистов, во всем разберемся, тогда и посмотрим, кому нужнее лошадь и можно ли избранным носить кинжалы. А сейчас давайте вернемся к нашим делам. Мы несколько ушли в сторону.
– Что верно, то верно. Начали за здравие, а кончаем за упокой, – заулыбался старик. – Участковый у нас мужик сурьезный, за поимку мародеров представлен к ордену. Таких двух головорезов скрутил – уму непостижимо. Правда, они его порезали, но не сильно, даже в госпиталь ложиться отказался. – Переведя дыхание, дворник озабоченно продолжал: – В Москве сейчас, Ларионыч, ой как неспокойно. Тюрьмы-то почти все распустили, вот они, бандюги, и прут в Москву поживиться дармовым. Опустела Москва-то…
– Так что вам сказал участковый насчет паспортов? – перебил старика Григорий.
– Участковый сказал, что, если мы с Лукиничной будем стараться, зимой нам выдадут пачпорта и временно пропишут на казенной площади.
– Я вам помогу в этом, – заверил старика Григорий. – И откладывать с этим делом давайте не будем: ведь послезавтра я должен быть на можайском рубеже обороны. – Григорий подошел к телефону, набрал «09» и через справочную узнал номер телефона приемной председателя райисполкома. Пока дозванивался до председателя, выдержав при этом довольно нервный диалог с его помощником, который обязательно хотел знать, по какому вопросу лейтенант Казаринов идет к нему на прием, старики, затаив дыхание, сидели на диване и не спускали глаз с Григория, который все-таки настоял на том, чтоб его соединили с председателем.
Нелегким был разговор и с председателем, который, как и его помощник, начал с того, что спросил, по какому вопросу лейтенант Казаринов хочет прийти к нему на прием.
– Об этом я вам доложу на приеме!.. На личном приеме!.. Вопрос серьезный, и решить его можете только вы!.. – На лбу Григория выступили капельки пота.
Разговор с председателем кончился тем, что тот обещал принять Григория на следующий день утром в восемь часов.
– В восемь ноль-ноль, и ни на минуту позже!.. – прозвучало в телефонной трубке, из которой тут же понеслись короткие гудки.
Григорий встал из-за стола и нервно взад-вперед прошелся по ковровой дорожке кабинета. Его волнение передалось и старикам. Они даже встали, в душе считая себя виновниками гнева и возмущения Григория.
– Сколько хлопот-то из-за нас, – поджав губы, сокрушенно проговорила Лукинична.
Словно не расслышав ее слов, Григорий посмотрел на часы:
– Завтра без пятнадцати восемь нам нужно быть в приемной председателя райисполкома.
– И мы тоже? – испуганно спросила Лукинична. – Втроем?
– Да нет, справимся вдвоем. – Григорий улыбнулся. – Вы, Степанида Лукинична, останетесь дома, помолитесь за успех операции. Ведь, поди, верующая?
– А как же! Нешто мы нехристи?
Григорий пошел на кухню и тут же вернулся с вещевым мешком.
– Это вам и вашим внучатам от меня гостинец. Трехдневный окопный сухой паек. – Григорий положил на стол буханку ржаного хлеба, две банки свиной тушенки, большой кусок сахара и три пачки сухих концентратов. – Ужинать будем вместе. У вас. У меня сегодня срочные дела… – Григорий обвел строгим взглядом притихших стариков. – Задача ясна?
– Да уж чего ясней! – со вздохом проговорила Лукинична, уголком платка вытирая сухие глаза.
– А сейчас давайте перенесем в кабинет деда то, что вам не годится и будет только мешать. – Григорий принес из кухни табуретку, приставил ее к стене и осторожно снял портрет деда.
Старик принял его из рук Григория как икону и, не дыша, замер на месте, ожидая дальнейших распоряжений. Григорий видел, как тряслись губы старика, как силился он не выказать своей слабости и не прослезиться.







