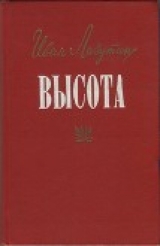
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Вчера заходил староста, назначенный немцами сразу же, как только фронт прошел Смоленщину. Кряжистый, с глазами цвета закисшей сыворотки мужчина лет пятидесяти. Минут десять расспрашивал меня, «Глашу Мордашкину», кто я да сколько мне лет, откуда приехала, кем в Минске работала. Хорошо, что Ниловна предупредила меня заранее, что он ровесник моего «отца», Мордашкина Ивана Ниловича. Они вместе учились в церковноприходской школе, но сызмальства враждовали. Брат Ниловны – бедняк в пятом колене, слывший среди ровесников силачом и отчаянным сорванцом, нередко своего ровесника Пашку Охрименко поколачивал. В 1931 году в ходе коллективизации семейство Охрименко было раскулачено, отца и мать Пашки сослали на Соловки, а Павел (в тот год ему уже было под сорок) сумел от ссылки улизнуть. Бросив дом и хозяйство, вместе с женой и двумя сыновьями дождливой осенней ночью как в воду канул. Только лет через семь до соседей дошел слух, что Павел Охрименко с женой и уже взрослыми сыновьями живет где-то в Донбассе, работает на угольной шахте. И каково же было удивление односельчан, когда весной сорок первого года в деревню перед пасхой заявился Павел Охрименко. Здоровый, как буйвол, красномордый, в хромовых со скрипом сапогах, в бостоновом костюме, подстриженный «под бокс» и с золотой фиксой на верхнем переднем зубе. После пасхи купил в центре села у вдовы Мироновой дом, а через неделю приехала и сама Охрименчиха, женщина (я, правда, ее не видела) пудов на семь. И, как сказала Ниловна, стали они жить-поживать да деньгу наживать. Павел хоть и вступил в колхоз (стал контролером-учетчиком в полеводческой бригаде), но жили фактически спекуляцией: гнали самогон и время от времени ездили в Москву за мануфактурой, которую потом продавали втридорога.
Кандидатуру для старосты немцы нашли весьма подходящую. Даже вернули ему когда-то отобранный у отца дом на каменном фундаменте под железом, в котором лет десять размещались детский сад и ясли. А походка!.. Нужно видеть походку этого человека. Смутил меня однажды один очень заковыристый вопрос старосты. Думаю, хотел он подловить меня.
– Как здоровье-то бати? Больше кровь горлом не идет?
В первую минуту я не знала, что и ответить, но лицом замешательства не выдала. Ответила, что не идет кровь горлом. А потом осмелела и сама спросила:
– А почему она должна идти?
– Ну как же, любил твой батюшка силой похвастаться. Однажды, это было в шестнадцатом году, когда он раненый вернулся с империалистической, после большой выпивки поспорил с мужиками, что поднимет с земли на воз десятипудовый чувал с солью.
– Ну и что, взвалил?
– Взвалил, но кровушка-то горлом пошла. С тех пор хоть медленно, но стал гореть, как лучинушка.
Перед уходом староста долго смотрел мне в глаза, потом хмыкнул и заявил:
– Что-то в говорке твоем, девонька, не чую я ничего, что отдавало бы Смоленщиной или Белоруссией. Отдает от речи твоей чем-то киевски-одесским, ты не говоришь, а поешь. Да и лицом-то пошла не в Мордашкиных.
Что я могла сказать ему на это? Оставалось только тяжело вздохнуть:
– Что же поделаешь – такую бог уродил, теперь уж не переделаешь.
При разговоре этом был Никодим Евлампиевич. Чинил у окна хомут. В конце нашего затянувшегося разговора не вытерпел, поднял голову, разгладил седые усы и сердито подытожил:
– Ты вот что, товарищ староста, не строй из себя прокурора или батюшку на исповеди. А насчет Глашиного обличья скажу тебе вот что: вся в свою бабку по материнской линии пошла, как бы перешагнула своих батюшку и матушку. Взяла от бабки красу и русскую косу.
Уже из кухни, через полуоткрытую дверь, я слышала (вся превратилась в слух), как старик Евлампиевич, надсадно кашляя, сказал старосте:
– Ты, Павел Игнатович, не забывай, что деревня наша еще с весны керосином запаслась года на два – на три. Знай также, что дома загораются не только от немецких бомб и зажигательных пуль.
Когда староста и Евлампиевич вышли из избы, Ниловна меня успокоила:
– Ты, доченька, не боись, после угрозы моего старика красного петуха пустить ему, окаянной харе, есть о чем подумать. Они, Охрименки, хоть мстительные и подлые, но ужасть какие трусливые.
Вот, родненький, снова я с тобой поговорила, чуток всплакнула и нет-нет да прислушиваюсь: как он там – спит или дает о себе знать.
Сегодня у меня три перевязки. Одна в нашей деревне, две в соседней. И все это придется делать в условиях глубокой конспирации. Так что не зря, мой милый, я ем хлебушек. А это придает мне силы и веру, что я нужна не только тебе, но и Родине. Всегда помни: женушка твоя – солдат строевой, и не из хозвзвода, а из огневого батальона.
Целую – твоя Глаша Мордашкина».
Прежде чем распечатать третье письмо, Григорий, откинувшись на спинку дивана, с минуту сидел с закрытыми глазами. Вряд ли когда-нибудь в жизни он испытывал такой прилив душевной радости и волнения. Он даже ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон, что Галина жива и здорова, что она ждет ребенка. И сразу же его сковал страх: «А что в третьем письме?.. Что в нем?..»
Третье письмо Григорий распечатывал трясущимися руками.
«Дорогой Гриша!
Пишу тебе третье письмо. На душе так неспокойно, так тоскливо, что если бы была волчицей, то вышла бы во двор и завыла бы на луну. А она сейчас только народилась, и на улице так светло, что отчетливо вижу из окна два немецких танка и самоходку. Неделю назад ничего такого здесь не было. А сейчас у немцев появилась в этом острая нужда: с каждым днем (а вернее, с каждой ночью) партизаны донимают их все сильнее и чувствительнее. Как сказал мой хозяин, в отряде карателей, что разместился в нашей деревне, около пятидесяти человек. Вооружены до зубов: минометы, пулеметы, несколько машин со снарядами и гранатами. Никодим Евлампиевич хоть и стар, но человек бывалый, солдат Цусимского сражения. Все засекает, все оценивает. Мне полностью доверяет. Да я и сама от стариков ничего не скрываю.
В первый же день, как только каратели прибыли в нашу деревню, к вечеру к нам пожаловали офицер и два солдата с автоматами. Мы с Ниловной заранее договорились, чем их отпугивать: у нас, мол, клопы, блохи, тараканы. И ко всему прочему у меня туберкулез. В тиф немцы уже не верят, воспринимают это как способ защиты.
Хорошо, что соседская девчонка-школьница принесла мне потрепанный русско-немецкий словарь, попросила его у учительницы. В нем я нашла слова «клоп», «таракан», «блоха»… Потом долго учила Ниловну и Никодима Евлампиевича правильному произношению названий этих «друзей» человека. Умора. Ходили и повторяли, как дети. Наконец запомнили. Правда, слово «таракан» произносить по-немецки не было никакой необходимости: стоило просто показать на чувал печки и на потолок над ней. Там кочевали взад-вперед целые караваны этих рыжих верблюдов.
Исповедуя культ тараканов, старички мои, по их словам, сколько живут в своем доме, пока еще не видели ни одного клопа, ни одной блохи. Но нужда заставила все это придумать, что, конечно, очень пригодилось. Но старички очень озадачились, когда я велела им, чтобы они (если немцы припрутся на постой), показывали на меня и повторяли слово «туберкулез».
– Доченька, да разве они поверят? – засомневалась Ниловна. – Взгляни на себя в зеркало, ведь кровь с молоком. Придумай лучше что-нибудь другое. Давай скажем, что у тебя сыпной тиф. Посмотри в книжечку, как там называется по-немецки сыпной тиф или брюшной. Какой заразней, про тот мы со стариком и скажем. Ты только научи нас.
Я сказала им, чтобы о тифе они и не заикались. А слово «туберкулез» на всех языках звучит одинаково.
Евлампиевич сидел, молча слушал нас с Ниловной и перебирал пальцами седую бороду. Потом вдруг оживился и поднял голову:
– Да что там ваши тараканы да блохи с клопами!.. У кого их нынче нет. Давайте напугаем их вшами и что ты, – он показал на жену, – припадошная. И что припадки бьют тебя по два – по три раза в день… От вшей и от припадошной хозяйки они, как от чумы, шарахнутся. Я сам сызмальства припадошных боюсь больше, чем злых собак.
Ниловне это сразу не понравилось, и даже рассердило.
– Нет, давай лучше про тебя скажем, что ты припадошный. У тебя это лучше получится. А если самогонкой зальешь глаза, как в прошлый троицын день, да свой концерт закатишь, как однажды было, они не токмо от нас сбегут, они из деревни всем скопом выметутся.
Уж на какие такие «концерты» намекала Ниловна, я любопытствовать не стала, но поняла, что была в характере Евлампиевича эдакая ершистая колючка и петушиный задор, которые давали о себе знать, когда он самогонкой «заливал глаза».
Припадки начисто отменили. Я убедила стариков остановиться (когда речь зайдет обо мне, лежащей в постели) на туберкулезе. На всякий случай нашла в немецком словаре и слово «вошь». Научила их. Вроде бы зазубрили.
И что же ты думаешь, Гришенька? Репетиция буквально спасла нас.
Было и грустно, и смешно, когда мои старики (я не видела лица Евлампиевича, но через раскрытую дверь видела лицо Ниловны и, хотя спектакль этот происходил на кухне, отчетливо слышала каждое слово), перебивая друг друга, путаясь и искажая произношение, твердили три этих отвратительных немецких слова: «ванцен» (клоп), «фло» (блоха) и «шабе» (таракан). Ниловна при этом так усердствовала, что, когда произносила слова «ванцен» и «фло», своими старческими пальцами изображала укусы этих насекомых, больно щипала себе бока и живот и делала при этом такое мученическое выражение лица, что я, несмотря на сложность и опасность ситуации, с трудом сдерживала нервный смех. А когда Ниловна несколько раз произнесла по-немецки слово «вши» и принялась так исступленно чесать свои бока и грудь, что немцы даже отшатнулись от нее. Один из них не выдержал и брезгливо бросил: «Швайн!»
А когда пошло в ход слово «туберкулез» (я перед приходом немцев натерла себе щеки, губы и нос известкой от печки, посмотрелась в зеркало и ужаснулась: в гроб и то краше кладут), я начала истошно кашлять. В горенку ко мне немцы вошли молча. Все трое уставились на меня, как на прокаженную. Я смотрела на них в упор широко открытыми глазами и прикусила зубами щеку так, что из нее хлынула кровь. Захлебываясь в кашле, я поднесла ко рту белую тряпицу и несколько раз выпустила на нее изо рта кровь. А Ниловна, показывая на меня, сострадальчески повторяла: «Туберкулёзэ», «анштэкен» (заразная).
Немцы молча попятились к двери и мигом выкатились из дома.
Не сразу удалось мне успокоить Ниловну. Пришлось чуть ли не выворачивать щеку и показывать ей рану во рту. А когда она успокоилась, даже похвалила меня.
– Ну, девонька, ты артистка! Видала я артисток в кино, но таких не видывала… Чтобы так вот, как ты, да сразу… И не придумаешь. Поплюй еще на тряпицу, чтобы побольше кровавых пятен было, да держи под подушкой на всякий случай, может, еще закатятся.
Вот уже почти неделю, как Ниловна, когда ей охота поворчать на своего седенького Евлампиевича, называет его «припадошным». И смешно, и грустно. А мне старика искренне жаль. Он – сама доброта.
Доходят и до меня весточки, что идут тяжелые бои за Москву.
От раненого капитана, которого я выхаживаю, узнала, что за последнюю неделю партизаны (они где-то недалеко от нас) пустили под откос несколько эшелонов, сожгли и подорвали около двух десятков груженых машин, сожгли деревянный мост на реке Угре, спалили комендатуру в деревне Александровна, подпилили телеграфные столбы между станцией Лелековинская и деревней Волоковая, а на следующую ночь – между Волоковой и Касплино.
А три дня назад наш самолет сбросил над несколькими деревнями Смоленщины и над автострадой Москва – Минск листовки с призывом расширять партизанскую войну с фашистами.
Милый мой!.. На крови и тлене замешанная древняя земля смоленская поднимается против ненавистного врага. Храню и твой подарок, который ты сделал мне при нашем последнем свидании в медсанбате. Берегу к нему и все те патроны, которые ты насыпал в мою медицинскую сумку. Берегу все это на самый крайний случай. Если когда-то придет последняя минута последнего часа, жизнь свою (и его, он уже ножкой по ночам будит меня, будит ласково, нежно, знает, что я ему родная) постараюсь отдать подороже. Но это я так, к слову, чтобы ты знал, что твоя Глаша Мордашкина не из робкого десятка. Я слишком много видела смертей (смертей таких мужественных людей) и потому не дрогну перед ней, если так распорядится судьба. Я горда тобой, мой милый, и хочу быть достойной тебя.
Вчера, после того как я перевязала рану капитану (я уже писала тебе о нем), в избу непрошенно-негаданно вошел староста.
Разговор был недолгим. Он, видимо, понял, что мы за птицы, и поэтому, перед тем как уйти, заявил мне и капитану категорически, чтобы в течение двадцати четырех часов мы из деревни выметались. Так и сказал:
– Чтобы духу вашего здесь не было!.. Иначе я сообщу о вас в комендатуру!..
Нужно было видеть в этот момент лицо капитана. Я ждала взрыва, но взрыва не произошло. Потом капитан зачем-то позвал старушку хозяйку и, когда она вошла в его закуток, где он лежал с ногой на подвеске, спокойно, словно бы между прочим, но так, чтобы слышал староста, спросил:
– Федосеевна, это правда, что весной к вам в деревню привезли целую цистерну керосина и за какие-то три дня ее всю раскупили? Говорят, что керосином деревня запаслась года на два – на три. Это верно?
– Верно, – простодушно ответила хозяйка. Ей даже на ум не пришло, что вопрос капитана о керосине был обращен не столько к ней, сколько к старосте. И тут я вспомнила, что об угрозе поджечь старосту сказала капитану во время предыдущей перевязки.
Когда хозяйка покинула закуток капитана, староста крякнул, поморщился и долго тер свою рыжую бороденку. Потом спросил:
– Это что – угроза?
– Не угроза, а предупреждение. И помни, гражданин староста, что до тех пор, пока я не начну передвигаться хотя бы с палкой, я отсюда никуда не уйду. Я здесь не у тещи на блинах и, как видишь, не беженец, а кадровый командир Красной Армии.
В эту минуту со стороны могло показаться, что передо мной строгий прокурор, ведущий допрос, и растерявшийся подследственный.
– Готов на все закрыть глаза, да служба не позволяет. Лучше прямо скажите – что вы от меня хотите?
– Хочу одного: чтобы ни ты, ни твои единомышленники, если таковые есть, не сообщали о нас в комендатуру. Мы все уйдем, как только я встану на ноги. Я уведу их всех, и на душе у тебя будет спокойно. Но если хоть один из нас будет предан тобой – пеняй на себя. Смерть твоя будет лютой и позорной. И не мгновенной, от пули, а потяжелее.
Когда староста вышел из его каморки, капитан вернул его и спросил: не читал ли он листовку, сброшенную вчера с нашего самолета?
– Вы о какой листовке? Их тут всякие сбрасывали: и советские, и немецкие.
– Я говорю о вчерашней, о той, где напечатан призыв нашей Коммунистической партии большевиков.
Староста (мне показалось, что он даже ростом стал ниже) помялся и ответил:
– Ну, допустим, читал. А что из этого?
– А из этого следует, что ты, староста, должен быть дальновиднее и умнее. Оглянись кругом: разгорается великий пожар!.. – Капитан, тихонько постанывая от боли, даже присел на кровати и сжал кулаки. – Многие сгорят в этом свинцово-пороховом пожаре. И не только немцы. Придешь домой – прочти эту листовку еще раз. Там сказано и насчет пособников врага. Насчет их ЦК партии дает прямое указание.
Когда староста ушел, я спросила у капитана, о какой листовке он говорил. Капитан молча достал из-под подушки вчетверо сложенный листок и протянул его мне.
Милый Гриша! Читала я эту листовку, и в меня вливались новые силы. А ведь сколько окруженцев и беглых из концлагерей пленных погибло, ведь они стремились во что бы то ни стало группами или в одиночку прорваться через линию фронта к своим. И это в то самое время, когда враг кругом, под носом, уничтожай его как только можешь. Эту листовку капитан дал мне. У него есть еще несколько таких. Они нужны ему для дела. Когда я спрятала листовку под лифчиком, капитан горестно сказал мне:
– Если бы эта листовка попала к нам летом, хотя бы где-нибудь в начале сентября, сколько бы наших не полегло на рубеже прорыва и на страшных дорогах к линии фронта!.. Сколько бы можно было сформировать партизанских отрядов и соединений! Да каких соединений!.. Места для этого в Белоруссии и на Смоленщине классические, это не украинские степи, где на целые десятки километров не встретишь даже рощицы.
Вот видишь, Гришенька, написала тебе, и на душе стало легче. Как будто встретились, поговорили.
Прочитала это длиннющее письмо, написанное за один присест, и даже сама себе немножечко понравилась. А знаешь, за что? За то, что люблю тебя и Родину.
Целую тебя, мой милый, в твою серебряную седину, в твои шершавые, как наждак, щеки, в твои большие глаза, которые всегда смотрят мне в душу.
Твоя Галина».
Прежде чем приступить к чтению четвертого письма, Григорий откинулся на спинку дивана и долго сидел с закрытыми глазами.
«Гриша! Дорогой мой!
Прошла еще одна неделя мучительной одиссеи полонянки. Утешаюсь только одним: старички жалеют меня и оберегают, как родное дитя. А теперь… Теперь я расскажу тебе такое, что мне чуть ли не каждую ночь снится в кошмарных вариантах. Позавчера через нашу деревню (дело было к ночи) проезжало какое-то небольшое воинское подразделение немцев.
Стук в окно был настойчивый и требовательный. Мне бы, дурехе, прежде чем подойти к окну и откинуть занавеску, нужно было что-то накинуть на плечи и закрыть грудь, а я спросонья (уснула рано, что-то целый день побаливала голова) забыла сделать это. Керосиновая лампа в моей горенке была погашена, в углу еле тлела перед иконами крохотная лампадка. Откуда я могла знать, что из окна на меня, на грудь мою и на лицо будет неожиданно направлен пучок яркого света карманного фонаря? О том, что мне грозит беда, я сразу поняла.
Грохот сапожищ и удары прикладов в дверь разбудили моих стариков. Открывать пошел Евлампиевич. Впустил двух немцев: офицера и солдата. Рожи с холода красные. Вместе с ними в хату ввалился мерзкий запах шнапса. И надо же такому случиться: старики мои, да и я тоже, забыли все немецкие слова, которыми две недели назад пугали вошедших в нашу деревню карателей. Откуда этой пьяной погани и палачам знать такие наши русские слова, как «вши», «тараканы», «клопы», «блохи». Старуха стала пугать фашистов на чистейшем русском. Вряд ли поняли два эти немца, только что увидевшие меня через окно в свете фонарика, зачем старуха несколько раз повторила слово «туберкулёзэ». Вот тут-то я и подумала, что наступает час, когда в дело пойдет твой подарок. Я вытащила его из-под подушки и положила себе на грудь. Правая рука замерла на рукоятке.
Первым в горницу вошел офицер. Здоровенный рыжий верзила. Подошел к кровати и осветил мне лицо фонариком.
– О, фрау!.. Гутен таг!..
На приветствие я не ответила. Напряженно думала только об одном: когда – сейчас, сразу, не дожидаясь, когда он полезет ко мне, или подождать, когда в комнату войдет солдат, что остался на кухне. И когда тот, приоткрыв дверь, о чем-то спросил его или что-то сообщил ему, офицер (с погонами капитана) что-то резко и раздраженно бросил ему. Раздевался капитан медленно, словно с каких-то праведных дел вернулся к своей ждущей его ласки жене. Потом достал из кармана шинели фляжку, отвинтил на ней колпачок, до краев налил в него шнапс, мерзко пахнувший в мою сторону, опрокинул его в свой широко раскрытый рот и, завинтив колпачок, поставил фляжку на стол. Сердце у меня в груди билось, как колокол. Боялась, что разорвется. А в голове просверками молнии вспыхивал один и тот же вопрос: «Сейчас или немного подождать?» Потом он начал разуваться.
И я, как мне кажется, рассчитала все правильно. Вспомнив, что старуха называла меня артисткой, решила, что в этой ситуации я сыграю роль жаждущей мужской ласки женщины. Улыбнулась ему.
От лавки, с которой он поднялся и на которую поспешно бросил китель, он успел сделать по направлению к кровати только три шага.
Ведь я за войну не убила ни одного фашиста. Двум тяжелораненым пленным, взятым под Витебском в качестве «языков», даже спасла жизнь.
Выстрел мой был точен. Прямо в сердце. Секунды две он еще постоял, шатаясь, а потом рухнул в двух шагах от моей кровати. Рухнул мягко, глухо, как сброшенный с телеги тяжелый мешок с зерном. Вторую пулю я уже заранее приберегла для того, второго, что был на кухне и о чем-то (я слышала через тонкую дверь) пытался разговаривать со стариками. В страхе я вскочила с кровати. Подумала: а вдруг этот второй, испугавшись выстрела в горенке, убежит. Но он не убежал. Мы с ним столкнулись лицом к лицу в тот момент, когда он открыл дверь. Я была готова к этой встрече, а он нет, хотя на груди его болтался автомат. В него я пустила две пули: одну – в грудь, вторую – в голову.
Хорошо, что я врач-хирург и успела за свою недолгую жизнь увидеть столько крови, что кровь этих двух врагов меня не только не испугала, но даже придала силы, но давала права растеряться.
Мы втроем возились с ними примерно полчаса. Вначале завернули труп офицера в старое ватное одеяло, сшитое из разноцветных ситцевых клинышков, но уже на пороге в сенки одумались: а что, если немцы обнаружат труп?
Охрипшим голосом старик запричитал:
– Эту нашу одеялу вся деревня знает, в приданое тебе, Ниловна, дадено, боле полвека им одевались.
Опасения старика были своевременными. Окровавленное одеяло Ниловна засунула в русскую печь, затолкав его кочережкой в самую глубину жаркого чрева. Трясущимися руками мы завернули капитана в его шинель, даже застегнули на ней две пуговицы.
Втроем вынесли капитана во двор. О ране, чтобы она не кровоточила, я побеспокоилась еще в горенке, чем вызвала восхищение Ниловны. Казалось, прошла целая вечность, пока мы добрались до старого заброшенного колодца, что был у них в конце огорода в зарослях лопухов и чертополоха. Ниловна то и дело крестилась и с каким-то приглушенным стоном молитвенно обращалась к богу. Евлампиевич надсадно пыхтел и все делал молча. Даже в этой жуткой ситуации Ниловна не забывала, на каком месяце я «хожу», и, когда я пыталась вместе с ними тащить труп, она грубо оттолкнула меня.
– Не твое это дело, девка… Ты ходишь на сносях, чего доброго, скинешь…
И я ее слушалась.
Сруб колодца, как мне показалось, уже давно сгнил, но черное дно его в высохших будыльях крапивы было видно. Судя по тому, что мы не услышали всплеска воды, когда труп ударился о дно колодца, мне подумалось, что воды в нем не было.
К хате возвращались, пошатываясь. Сдавали нервы. С солдатом все было проще. Я надежно заткнула бинтом его раны, чтобы кровь не оставляла следов на полу и на пути к колодцу.
Потом почти до самого рассвета старики топили печку. Сжигали в ней ватное одеяло, сапоги капитана, его китель, фуражку, кобуру пистолета, тряпки, которыми смывали с пола и с порога кровь. Одним словом, заметали следы. Я взглянула в зеркало и не узнала себя. Лицо мое пламенело. Такого выражения глаз я еще не видела.
В постель легла, когда уже начало светать. А северный ветер все сатанел. Свистел и гудел в телеграфных проводах, подвывал в трубе и глухо, жалобно стонал за окнами.
Для продолжения «спектакля» старик залез на печку, хотя ему было уже не до сна, как и мне. Ниловна, грохоча чугунами и стуча ухватами, топталась у печки.
А когда сжигали в печке вещи капитана и солдата, я обратила внимание, что старик никак не хочет засовывать в печку добротные, еще новенькие хромовые сапоги капитана. Евлампиевич незаметно отставил их в сторону, а потом, когда Ниловна вышла зачем-то в сенки, бросил их под стол, но его вовремя одернула Ниловна. Она увидела, как тщательно трет он тряпкой голенища сапог, приговаривая: «Шевро… Совсем еще новенькие», потом щелкает по подошве («спиртовая!»). Ниловна так посмотрела на старика, что тот сразу все понял.
– Ты что – белены объелся?
Нужно было видеть лицо старика, когда Ниловна швырнула их в печку.
Что делать с пистолетом, автоматом и планшетом капитана – старики не знали. Оба растерянно смотрели на меня. Я посоветовала старику все это надежно спрятать: со временем оружие может пригодиться. Он понял меня. Молча положил оружие и планшет в мешок и решительно вышел из дома. Когда вернулся – я спросила: хорошо ли спрятал? где спрятал?
– В сене… В стожке сена… Как мышь, прорыл нору аж до самой середины, у самого наста…
В десятом часу, когда уже совсем рассвело, раздался стук в дверь. В хату вошли четверо: три немца и староста. Уж куда только они ни заглядывали – даже под мою кровать и на печку!
Староста стал спрашивать, не заходили ли к нам вечером, а может, и ночью двое: капитан и солдат. Старуха сразу ответила, что никто не заходил.
– Вспомни хорошенько, Ниловна, а может, заходил кто? Комендант сказал, что они по бабам пошли.
– Тебе что – побожиться, что ли? – вскипела Ниловна. – А потом, где ты баб-то в моей хате увидел?! Нешто меня за бабу считаешь?
– А она?.. – Я видела через открытую дверь, как староста кивнул в сторону горенки.
– Побойся бога!.. Она не сегодня завтра должна разродиться.
Эти слова старухи, как мне показалось, убедили старосту.
Перед тем как всем четверым уйти, староста, пока немцы шарили зачем-то в сенках, снова обошел горенку и кухню и, к чему-то принюхиваясь, ехидно спросил:
– Что-то рано сегодня, Ниловна, протопила печку. Жарковато у вас.
– У меня сегодня хлебы. Думаю пораньше управиться, хочу до обеда сходить в Асенкритовку сестру навестить, что-то занедужила.
Благо, на столе уже стояла квашня и тесто подходило.
Когда все ушли, Ниловна сбила нагар с фитилька лампады, подлила в нее деревянного масла и опустилась на колени. Подняв голову и сложив на животе руки, она стояла, как скифские бабы, неподвижно, вперившись глазами в лик Христа-спасителя. Потом истово, с придыханием запричитала:
– Господи!.. Прости мою душу грешную!.. Господи, спаси и помилуй!.. Если грех наш велик – накажи меня одну, грешную. Готова нести лютую эпитимию, только сохрани рабу божью Галину и во чреве ее младенца безвинного…
Я слушала эту молитву, идущую из самых глубин сердца женского, сердца материнского, и плакала. И пожалела, что я неверующая. Я бы тоже вот так же, как Ниловна, стала рядом с ней на колени и всю боль своего сердца вложила бы в три этих магических слова:
– Господи!.. Спаси и помилуй!
Гриша, пишу и плачу. Галина».
Раскрывая последнее письмо, Григорий почувствовал, как по лицу его каплями стекает пот.
«Гриша! Милый!.. Радуйся!..
У нас сын!.. Родился вчера на рассвете в партизанской землянке. Это письмо пишу тебе лежа и карандашом. Если б ты знал, что пришлось мне пережить за последнюю неделю! После моей расправы над двумя фашистами, о чем я тебе писала, раненый капитан, которого я лечила, видя, что мне угрожает самое страшное, в тот же день организовал переправу меня в лес, в партизанский отряд. Это была страшная ночь. Меня вели и несли на носилках через леса и болота почти всю ночь. Это было три дня назад. А вчера утром… Обошлось все благополучно. Ребенка приняла опытная фельдшер. Сейчас мы с сыночком находимся в госпитальной землянке вместе с ранеными. Наш топчан в торце землянки отгородили занавеской из парашютного шелка – трофеи партизан.
И еще одна новость, которая, уверена, тебе будет интересна. В нашем походном лесном госпитале (вот видишь, я уже говорю «в нашем») находится на излечении сержант Богров Николай Егорович, с которым ты выносил из окружения знамя полка, но который был тяжело ранен при прорыве из вяземского котла. Когда он мне рассказывал, как он на поле боя прощался со своим сыном, который вместе с вами выходил из окружения и принял у отца знамя, мы оба плакали. Он, как и ты, москвич, откуда-то с Ордынки. Очень смешные названия этих ваших московских улиц. Сегодня Николай Егорович, сидя (ходить ему не позволяют раненые ноги), с самого утра вместе с другими ходячими ранеными мастерил нашему сыночку подвесную люльку из парусины. Получилась очень удобная и плавная в качке. В бревно наката они вбили обломанный штык винтовки, а за него зацепили четыре связанные в узел парашютные стропы, привязанные к углам деревянной, из пахнущей смолкой сосны, основы люльки. Она висит рядом с моим топчаном, так что мне удобно и качать наше чадо, и кормить его грудью. С молоком у меня хорошо, крохе хватает. Знаю, что ты улыбнешься, если скажу, что весь в тебя, такой же лобастенький и ушастенький, и взгляд серьезный.
Отряд наш растет с каждым днем. Если бы ты знал, какие это отчаянные и мужественные люди! Командир отряда сказал мне, что при первой же возможности, когда будет оказия, он сразу же отправит меня с сыном по воздуху на Большую землю.
Сына назвала Дмитрием в честь твоего знаменитого деда – как ты хотел. Думаю, что это будет тебе приятно. Выдали мне самодельное свидетельство о рождении Казаринова Дмитрия Григорьевича, подписанное командиром и начальником штаба отряда. И печатью заверили. Ношу его на груди.
Капитана, которого я врачевала в деревне, успели переправить в наш отряд. Он тоже помещен в нашу госпитальную землянку. Уже передвигается на костылях. Заявил мне, что почтет за честь, если я символически возьму его в крестные отцы Дмитрия Григорьевича.
Снишься ты мне почти каждую ночь, мой милый.
Да хранит тебя бог и мои молитвы, мой родной.
Твоя Галина.
Только что пришли из разведки наши ребята. Сообщили ужасную весть: половину деревни, в которой я нашла приют, фашисты спалили. Моих старичков, после того как в заброшенном колодце на их огороде обнаружили два немецких трупа, всенародно повесили на площади перед сельсоветом.
Отряд наш носит имя героя гражданской войны из четырех букв».
Из красного уголка Казаринов вышел, как пьяный. Перед глазами его, будто в хаотическом сновидении, плыли лица, белые халаты, коляска с безногим инвалидом…
Рассудок человека туманит не только горе, но и нежданно-негаданно пролившийся на него ослепительно яркий солнечный ноток радости.







