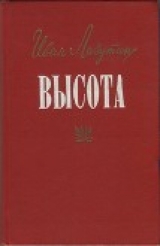
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вагоны, все реже и тише лязгая колесами на стыках рельсов, остановились у платформы «Москва-Товарная». Стояла непроглядная октябрьская ночь. Воинский эшелон из пятидесяти четырех вагонов-теплушек, именуемых в народе «телячьими», оказался набит солдатами так, что на верхних нарах («душегубках»), где воздух пропитали пот, табачный дым и испарения от портянок, сохнущих на вытянутых руках перед раскаленной буржуйкой, нечем было дышать. На нижних нарах – в «холодильнике» – вповалку лежали те, кто зазевался при посадке на станции Раздольное. Шинель-матушка, заменявшая солдату матрас, подушку и одеяло, не спасала людей от холода. Зато на средних нарах («палата лордов») была благодать. На них при посадке чаще всего попадали наиболее расторопные и нахрапистые. И уж если кто занял то или иное место при посадке, то это – закон: никто не тронет, никто не скажет: «Понежился на «палате лордов» – поднимайся в «душегубку» или спускайся в «холодильник». Меняться солдат любит: меняются мундштуками, складными ножичками, кисетами, ножами с наборной ручкой… Особый азарт вызывает мена «не глядя». Но вот чтобы меняться койками в казармах или нарами в вагонах – этого не бывает.
Последнюю ночь перед Москвой никто не сомкнул глаз. А кто и лежал калачиком с закрытыми глазами, все равно не спал. Одолевали думы. Колеса отстукивали последние километры до Москвы. Москва!.. А что за ней, матушкой-белокаменной?..
5 октября танковые колонны немцев вошли в Юхнов. Даже те из бойцов, кто изучал географию по учебнику шестого класса, знали, что город Калинин стоит в нескольких часах езды от Москвы. А немцы стоят под Калинином. Занят фашистами Орел, осаждена Тула. Москва уже почти в полукольце. Проверенная и утвердившая себя победами в Европе тактика фашистской стратегии «клинья и клещи», «клещи и клинья» приносила успехи немецкой армии на восточном фронте. Дальше шел… «мешок»… А уж потом, за «мешком», следовало страшное слово «окружение».
Ежедневно, утром и вечером, политинформаторы вагона читали сводки с фронтов, которые получали на крупных станциях.
За дни и ночи пути с Дальнего Востока эшелон прогрохотал мимо больших городов и маленьких полустанков. И везде, как только на землю опускались сумерки, на станциях горели огни. Даже крохотные разъезды, мимо которых эшелон проносился, не снижая скорости, и те как бы благословляли его на бой своими тусклыми, печальными огоньками фонарей дежурных. А что же здесь?.. По времени уже должна быть окраина Москвы, а через полураскрытую дверь еще не мигнул ни один огонек. Темная, притихшая столица, одетая первым, ранним по времени года снегом, словно погрузилась в тяжелый сон.
– Из вагонов не выходить!.. – понеслась вдоль эшелона команда, произносимая простуженно-осипшими голосами командиров, в обязанности которых входило строгое соблюдение порядка во время следования эшелона.
Не все знали, что в Москве за малейшее нарушение светомаскировки строго наказывали.
Увидев чернеющую в тусклом свете фонаря согбенную фигуру железнодорожника, обстукивающего молоточком колеса, дежурный по вагону высунул голову из дверной щели и простуженным голосом крикнул:
– Батя, не знаешь, куда нас везут?
Железнодорожник понял, что обращаются именно к нему. Медленно, опираясь руками на широко расставленные ноги, он распрямил спину, поднял на уровень головы фонарь, в свете которого было отчетливо видно лицо пожилого, усталого человека. Не видя того, кто обратился к нему с вопросом, спокойно ответил:
– Как же не знаю… Знаю.
– Куда?! – От нетерпения поскорее узнать, куда двинется эшелон дальше, дежурный почти до пояса высунулся из дверного проема.
– На фронт, – тем же спокойным голосом ответил железнодорожник.
– Это мы и сами знаем, – недовольно бросил дежурный. – Я ведь серьезно спрашиваю. Фронтов-то сейчас много.
– Что верно, то верно, – прокряхтел железнодорожник. – Фронтов много, а пуля для каждого отлита одна. Будешь ей кланяться – разыщет и лежачего, пойдешь на нее, дуру, грудью – она и смельчаками не брезгует.
– Кончай каркать!.. – послышался с «палаты лордов» чей-то тоненький голосок. – Лучше бы щепотку махры дал на пару заверток. Мы не порожняком едем, везем с собой пули. Да кроме пуль еще кое-что.
– Не серчайте, сынки. Это я к слову. А табачком обязательно поделюсь. – Железнодорожник снял брезентовые рукавицы, положил их на фонарь, стоявший у ног, неторопливо свернул самокрутку, закурил и лишь после этого протянул дежурному по вагону кисет и свернутую в величину игральной карты газету: – Только кисет смотрите не заиграйте.
– Будет сделано, батя! – Дежурный ловко подхватил кисет и скрылся в проеме двери, из которого через какую-то минуту-другую сразу же высунулось несколько голов в пилотках. Снизу лиц бойцов не было видно, виднелись лишь кроваво-рдяные огоньки самокруток.
– А все-таки как думаешь, батя, куда нас: под Калинин или на Ленинградский?
Железнодорожник откашлялся, принимая пустой кисет, поднял с земли фонарь.
– Ночку вас покатают по окружной, а потом сами поймете, куда повезут. Если с Курского – значит, на Орел, если с Ярославского – на Калининский фронт, а если с Ленинградского – значит, под Волхов.
– Но ведь есть еще и Западный фронт, – донесся из темноты вагона чей-то хрипловатый басок.
– Ну а если на Западный, то с Белорусского – на Можайск. А там сейчас – о-ох, ка-а-ша!.. Никакой ложкой не промешаешь. – С этими словами железнодорожник надел рукавицы и пошел обстукивать колеса вагонов.
На одном из перегонов окружной дороги эшелон, лязгая буферами, остановился около бесконечного ряда товарных складов, где, судя по доносившимся с погрузочных площадок голосам, шла своя напряженная жизнь: кто, споря с кем-то невидимым, что-то получал, кто, согнувшись, что-то тащил на плечах, кто, бранясь, давал отрывочные команды… И по-прежнему – нигде ни огонька. Лишь изредка тускло моргнет фонарь путевого обходчика или стрелочника и тут же погаснет.
Голос старшины роты каждый мог отличить из тысячи голосов. Его команды две недели с утра до позднего вечера звучали до самой Москвы: «Па-а ваго-о-нам!..», «Рота-а!.. Стройсь!..», «В столовую шаго-ом – а-арш!..», «Стоим три минуты!.. Никому из вагонов не выходить!..», «Дежурный!.. Выделить двух человек за сухарями!..». Самой милой была команда на построение в столовую. А их, столовых, от Хабаровска до Москвы было всего четыре. В Новосибирске эшелон водили в баню. Мылись чуть теплой водой, а потом, голые, два часа ждали из прожарки белье и обмундирование. Некоторые ухитрились с полчасика прикорнуть прямо на цементном полу, положив еще не просохшую голову на собственные кирзовые сапоги.
Чего только не было за дорогу!.. Домашнюю снедь на привокзальных базарчиках с лотков слизывали мгновенно, денег не жалели: ехали не к теще на блины, а на войну. За всю дорогу был один случай мародерства: боец из минометной роты, видя, что эшелон тронулся, подхватил у седобородого старика в ватнике мешок с самосадом и, не рассчитавшись, уже на ходу поезда кинул его в вагон. Кинул и не подумал, что безногий старик, ковыляя на березовой деревяшке, будет бежать по перрону до тех пор, пока не споткнется и не растянется у станционного забора. Бойцы эшелона видели, как, размазывая кулаками слезы обиды, старик плакал и посылал вслед удаляющемуся эшелону слова, которые никто в вагонах не слышал, но смысл их, выраженный вытянутыми вперед рунами со сжатыми кулаками, был всем ясен: «Что же вы делаете?!»
Мародер был наказан. Трое суток, до Челябинска, сидел он под замком в последнем вагоне эшелона. В нем сильно дуло в стенные щели и незастекленные окна с чугунными решетками под потолком, а сквозь щели исклеванного, разбитого пола просачивалась угольная пыль. Ни нар, ни лавки, ни печки-«буржуйки», ни даже охапки соломы или какой-нибудь брошенной мешковины или тряпья, на которое можно было бы положить голову или прилечь… Гремящая, подпрыгивающая на стыках рельсов, расшатанная, скрипящая на все голоса, насквозь продуваемая вагонная клеть. И так трое суток. Без щепотки самосада. Еда же предусмотрена уставом гарнизонной службы такая: полкотелка теплой баланды через сутки и на день два сухаря, которые арестованному приносил кто-нибудь из дневальных комендантского взвода.
На третьи сутки, когда эшелон подходил к Уралу, на одной из станций, где паровозы заправлялись водой (на что уходило полчаса, а то и больше), в вагон-гауптвахту к арестованному поднялся комиссар полка. Судя по седине на висках, человек он был уже немолодой.
– Ты знаешь, что по прибытии в Москву за мародерство будешь предан суду военного трибунала? – обратился комиссар к арестованному, который не шелохнувшись сидел в углу вагона. Длинные ноги его были вытянуты, глубоко запавшие глаза безучастно смотрели на сапоги комиссара.
Арестованный молчал.
– Что же ты молчишь?
– Мне нечего сказать… – как из могилы донесся до слуха комиссара голос арестованного.
– А ну встань!..
Басаргин встал с трудом, цепляясь посиневшими, грязными пальцами за стену. Принял стойку «смирно». Ростом он оказался почти на целую голову выше комиссара. Глаза его были полны непередаваемой тоски.
– Ты-то что! Приговорит трибунал к штрафной роте, пойдешь в атаку, и, если смоешь позор свой кровью или заплатишь за свою вину жизнью, Родина простит тебе. А вот каково родителям?! Ведь им военный трибунал сообщит, что их сын – преступник!.. Что их сын – мародер!.. – Комиссар широко расставив ноги, словно что-то решая, стоял посреди вагона, потом вдруг прошелся из угла в угол, достал папиросу, закурил. Он нервничал. – Ведь ты ограбил старика! Калеку!.. Вместо ноги у него деревяшка. Это видел весь эшелон. Ты хоть сейчас-то понял, что ты совершил?!
Комиссар жадно курил, прохаживаясь от стенки к стенке вагона. Арестованный стоял с вытянутыми по швам руками и низко опущенной головой. Молчал.
– Кто твои родители?! – вскипел в нарастающем гневе комиссар.
Арестованный, словно обращались не к нему, по-прежнему молчал. Это вывело комиссара из себя.
– Что молчишь?! Или язык отсох? Спрашиваю: кто твои родители?
– Их нет… – чуть шевельнул серыми, пересохшими губами арестованный.
– Где же они? – немного смягчившись, спросил комиссар.
– Не знаю…
– Что значит – не знаю?
– Очень просто…
– Отец-то где?
Басаргин, словно не расслышав вопроса, продолжал стоять с низко опущенной головой. Кулаки его были сильно сжаты.
– Я спрашиваю – где отец?!
– Арестован.
– Когда?
– В тридцать седьмом.
Нехорошая догадка пронеслась в голове комиссара: «Тридцать седьмой год… Известный недоброй славой год…»
– За что арестован?
Басаргин переступил с ноги на ногу и еле слышно ответил:
– Как враг народа.
– Кем он был до ареста?
– Военным…
– По званию кто?
– Командарм первого ранга.
«Басаргин… Басаргин… – Словно сама собой вспыхнула в памяти комиссара фамилия известного в Красной Армии военачальника. Его имя было освящено ореолом боевой славы еще со времен гражданской войны. – Перед арестом Басаргин был одним из заместителей наркома обороны… Вот она что делает, судьба…»
– А мать? Где мать?.. – упавшим голосом спросил комиссар.
– Мать была взята как ЧСИР.
– Что-что?.. Объясни.
– Как член семьи изменника Родины.
– Живы оба?
– Отец погиб, мать жива… – не поднимая головы, глухо ответил Басаргин.
– Где она?
– В Карлаге.
– Что за Карлаг? Где он находится?
– Карагандинский лагерь заключенных.
– Сколько тебе было лет, когда арестовали отца?
– Четырнадцать.
Подбородок арестованного упирался в грубое сукно шинели, взгляд его был устремлен в пол. Со стороны казалось, что он рассматривает свои не по размеру большие кирзовые сапоги, покрытые серой угольной пылью.
– Мать-то пишет? – с какой-то виной в голосе прозвучал вопрос комиссара.
– За четыре года – четыре письма. Соседям.
– А почему не тебе?
– После ареста отца и матери меня и младших брата и сестренку выселили из квартиры.
Комиссар протянул Басаргину распечатанную пачку «Беломора»:
– Закури… Да подними голову, что ты ее опустил?
Негнущимися грязными пальцами Басаргин, опираясь левой рукой о стенку, неуверенно вытащил из протянутой ему пачки папиросу.
– Где же ты воспитывался?
– Первый год в детдоме, потом…
Комиссар протянул к лицу Басаргина горящую папиросу, и тот, делая жадные затяжки, по-прежнему почти не поднимая головы, стал прикуривать, отчего бледные щеки его, покрытые мелкой угольной крошкой, при каждой затяжке глубоко прокаливались.
Комиссар заплевал окурок, швырнул его на пол, растер сапогом. Некоторое время он наблюдал, какие глубокие, судорожные затяжки делал арестованный.
– И беспризорничать, поди, приходилось? – в упор, словно ударив хлыстом, спросил комиссар и по тревожному, испуганному взгляду, исподлобья брошенному арестованным, понял, что угодил в больное место.
– Все приходилось…
– И на базарах в голодные тридцатые промышлять приходилось?
Только теперь Басаргин вскинул голову. Взгляд его больших серых глаз, под которыми залегли темные полукружия от бессонных ночей и тяжких дум в ожидании наказания, скрестился со взглядом комиссара.
– А откуда вам все это известно, товарищ комиссар?
– Я спрашиваю – приходилось?
– Приходилось… Но это… когда беспризорничал, – с трудом выдавил из себя арестованный.
– А тебе сейчас не жалко старика на деревяшке, у которого ты стянул полмешка самосада? Ведь он его рубил на коленках в долбленом корытце, чтобы продать и купить хлеб.
По щеке арестованного, как тяжелая ртутная капля, скатилась слеза. Сорвавшись с подбородка, она упала на пыльный носок сапога.
– Все получилось совсем не так, как вы думаете, товарищ комиссар. Я хотел заплатить ему за табак, но, когда бросил ребятам в вагон мешок с табаком и полез в голенище сапога за кошельком, эшелон тронулся. А старшина роты крикнул из вагона, что, если отстану, трибунал будет судить меня как дезертира.
– Ну и что же ты? – перебил Басаргина комиссар, который строго предупредил выстроившийся перед посадкой в эшелон батальон: «Отставание от эшелона будет рассматриваться как дезертирство! За малейшее мародерство во время пути следования на фронт будем сразу же предавать суду военного трибунала!..» – Что ты еще можешь сказать в свое оправдание?
Не поднимая взгляда от пола, Басаргин глухо проговорил:
– После окрика старшины я растерялся… Отставание – это дезертирство.
– И что же ты решил?
– На бегу я хотел вытащить из-за голенища кошелек, но он, как на грех, провалился очень низко. Рука не пролезала. А эшелон уже набирал скорость. Я еле успел вскочить на тормозную площадку предпоследнего вагона.
– Ты объяснил это командиру батальона? – спросил комиссар, в душе веря, что Басаргин говорит правду.
– Объяснил, но он не поверил. Передал меня начальнику особого отдела. А тот…
– Что тот?
– Мои объяснения слушать не стал. Оформил документы на суд военного трибунала.
– За мародерство?
Еще ниже опустив голову, Басаргин на этот вопрос не ответил.
Злость и гнев, с которыми комиссар поднялся в вагон, словно утонули в глубоком омуте души, и на смену им всплыла жалость. Он вскинул руку, посмотрел на часы и, что-то прикидывая в уме, спросил:
– Деньги-то есть?
– Есть.
– Сколько?
– Рублей триста…
– Хватит, чтобы заплатить за самосад, что ты взял у старика?
Басаргин ответил не сразу. Он, как понял комиссар по выражению его лица, подсчитывал: за стакан табака старик брал по два рубля. На триста рублей можно купить полторы сотни стаканов.
– Думаю, хватит, – еще не догадываясь, что задумал комиссар, ответил Басаргин.
– А ну, покажи деньги. Давай посчитаем.
Басаргин безуспешно пытался засунуть за голенище сапога свою большую, костистую кисть руки. Видя, что ничего не получается, он сел на пол и разулся. А когда из сапога вывалился кошелек, он протянул его комиссару. И тот, пока Басаргин наворачивал на ногу портянку и обувался, посчитал деньги.
– Здесь триста двадцать рублей. Думаю, хватит. – Он вытащил из планшета блокнот, вырвал из него чистый лист бумаги, положил его на планшет и протянул Басаргину: – Пиши!
– Что писать?.. – Арестованный поднял на комиссара взгляд, полный недоумения.
– Пиши, что буду диктовать. – Видя, что Басаргин, привалившись спиной к стене и прижав планшет к груди, ждет его дальнейших указаний, комиссар начал диктовать: – «Станция Убинская, Новосибирской области. Начальнику железнодорожной станции». Написал?
– Написал.
– А теперь пиши текст к денежному переводу. Его пишут на обратной стороне бланка почтового перевода. Пиши помельче, так, чтобы уместилось. – Комиссар прошелся по вагону, сосредоточенно что-то обдумывая и потирая пальцами лоб. – Диктую дальше, пиши. «Товарищ начальник! Прошу эти деньги передать хромому седобородому старику на деревяшке вместо правой ноги. Он ходит в серой заячьей шапке и черной фуфайке. Торгует табаком-самосадом на базарчике у вокзала. Найдите его, пожалуйста, и передайте ему эти деньги. Когда в конце сентября наш эшелон остановился у Вашей станции, я купил у старика полмешка самосада, а деньги не успел заплатить, так как эшелон тронулся. Очень прошу выполнить мою просьбу. С уважением – боец Басаргин». – Видя, с какой твердостью арестованный поставил свою фамилию, спросил: – Написал?
– Написал. – Голос Басаргина дрогнул, и комиссар увидел, как в глазах его вспыхнула надежда.
– Денег-то не жалко?
– Товарищ комиссар… – Дальнейшие слова Басаргина были оборваны перехватившими горло спазмами.
– В Уфе будем стоять часа два. Перевод отправишь с вокзальной почты. Пойдешь отсылать его с кем-нибудь из отделения, чтобы все в роте знали: деньги за табак ты старику отправил. Все ясно? – Комиссар резко дернул дверь вагона, и она с грохотом откатилась влево. – А сейчас – марш в вагон! Скажи ребятам, что арест с тебя комиссар снял и приказал отправить старику деньги за самосад.
…Деньги, как приказал комиссар, Басаргин старику отправил. Вся рота об этом знала, хотя почти до самой Москвы нет-нет да кто-нибудь из вагонной братвы подковырнет: «Ну и адресок же ты написал!.. На деревню дедушке!», «Чехов эту историю обстряпал бы по-новой!..», «Хорошо, если начальник станции не хапуга и не алкаш…», «Ничего, даст деду сотню – тот будет рад до смерти…».
Но все это было позади… А вот теперь – Москва, куда летом тридцать седьмого года Басаргин вернулся из пионерского лагеря «Артек», а квартира их была уже занята другими. От соседей он узнал, что отец и мать арестованы, а где находятся – неизвестно.
Железнодорожник оказался прав. Полночи два сцепленных паровоза таскали за собой полукилометровый эшелон по окружной дороге, пока наконец его не вывели на путь следования к фронту. У бесконечного ряда железнодорожных складов эшелон остановился, и бойцы из комендантского взвода, занимавшие вагон где-то в средине состава, бегали по запорошенной снегом платформе и выкрикивали одну и ту же команду:
– Выделить четыре человека из вагона для получения продуктов и НЗ!
Команду выполнили незамедлительно. И на этот раз: не успели бойцы навернуть на ноги подсушенные за ночь портянки, как в проем откатной двери в вагон бухнули четыре мешка. Табак, тушенку и сухари делили строго поровну: каждому по полторы пачки махорки и банку тушенки на двоих. Сухари при свете лучины разложили на сорок две кучки, после чего дневальный по вагону «комукал», а его напарник со списком в руках, стоя спиной к сухарям, выкрикивал фамилии бойцов взвода.
Вряд ли можно придумать более безобидный и более справедливый принцип солдатского дележа харча, рожденного войной.
В двух других мешках были байковые портянки и теплые рукавицы с двумя пальцами. Особой привилегии был удостоен указательный палец – для него была своя собственная ячейка, чтобы ловчее нажать курок винтовки и вырвать чеку гранаты.
Не прошло и десяти минут, как хлебный дух размоченных в котелках с водой сухарей смешался с облаками терпкого табачного дыма. На этот раз с махоркой повезло. Выдали не моршанскую, вонючую, что чуть-чуть покрепче мха из старого сруба, а бийскую – та продирает «аж до самого копчика».
«Душегубка» опустела. Кое-кому было невмоготу и на «палате лордов». Зато блаженствовали обитатели «холодильника». По доброте душевной они пускали «на постой» тех, кому не хватало места у «буржуйки».
Во втором часу ночи в вагон поднялся командир роты. На нем был новенький светлый полушубок и серая командирская шапка-ушанка. Его ладная, подтянутая фигура, туго подпоясанная ремнем и перехваченная с плеча до пояса новенькой портупеей, на которой висела кобура с наганом, выдавала в нем кадрового военного.
Бойцы любили своего ротного. В боях на озере Хасан, будучи командиром взвода, он был награжден орденом Красного Знамени. В музее дивизии хранится подшивка газеты, в одном из ее номеров описан подвиг, в то время еще старшего лейтенанта, Краморенко, который повел свой взвод в атаку против роты самураев, прочно засевшей в укрепленном пункте, и в рукопашной схватке выбил неприятеля из населенного пункта. Был ранен, но поля боя не оставил. За две недели до отправления на фронт Краморенко получил звание капитана.
– Ну как, орлы? – воскликнул капитан, окидывая взглядом еле видные в блеклом свете лучины лица бойцов.
– ПарИм, товарищ капитан!.. Вот уже две недели парим, – донесся откуда-то из глубины вагона, с «палаты лордов», устоявшийся басок.
– Так парим, что аж бока одеревенели, – поддакнул рослый детина, стоявший в накинутой на плечи шинели, делающей его еще внушительнее и могущественнее с виду.
– Могу вам доложить, мои соколы, что парим последнюю ночь. Рано утром почувствуете под ногами землю-матушку. Да такую землю, что дух захватывает!..
– Ленинград? – спросил боец, стоявший в шинели внакидку.
– Нет! – резво ответил капитан.
– Орел? – донеслось из «холодильника».
– Не угадал.
– Значит, Калининский, – заключил дневальный по вагону, лицо которого от топки «буржуйки» было вымазано угольной сажей.
– Берите выше! – Капитан дерзко-вызывающим взглядом окинул притихших бойцов. – Можайск!.. Бородинское поле! Слыхали про такое?
– Вот это да!.. – со вздохом донеслось с «палаты лордов».
– Линия обороны нашей дивизии будет проходить через Бородинское поле. Не исключаю, что боевые позиции нашего полка пройдут через Багратионовы флеши, Шевардинский редут и батарею Раевского. Впечатляет?!
В вагоне наступила такая напряженная тишина, какая бывает, как говорят бывалые, не раз ходившие в атаку солдаты, перед командой: «За мной!.. За Родину!.. Вперед!..»
– Больные есть? – спросил командир роты.
Ответом была все та же скрученная, как пружина, тишина.
– Вопросы есть?
– Не мешало бы к сухарям да махорке подбросить побольше патронов. С ними как-то веселей на душе, товарищ капитан, – сказал немолодой уже сержант-сверхсрочник, участник боев у озера Хасан. На его груди тускло поблескивала медаль «За отвагу».
Этого разговора капитан ждал. И знал, что кадровые сержанты-командиры, понюхавшие пороха у озера Хасан, его обязательно поднимут.
– Полный боекомплект патронов и гранат получите в Можайске! А сейчас – всем проверить готовность к бою личного оружия!.. Через два-три часа будем разгружаться в Можайске! На боевые позиции будем следовать походным маршем. А потому всем как следует навернуть портянки. Чтобы ни у кого не было потертостей! Есть вопросы?
– А сколько километров от Можайска до Бородинского поля? – спросил сержант-сверхсрочник с медалью на груди.
– Девять километров. Предупреждаю… – Голос капитана потонул в лязге буферов вагона и чугунном скрипе колес. – Задача ясна?! – стараясь перекрыть грохот, прокричал капитан.
– Ясна!.. – хором ответили бойцы.
– Встретимся в Можайске! Я буду в вагоне первого взвода. – С этими словами капитан легко выпрыгнул из вагона, не пользуясь стремянкой, и скрылся в ночной темноте.
– Да, братцы!.. Бородинское поле – это не Хасан!.. – выдохнул боец в шинели внакидку. – Но ничего, посмотрим!.. Если не выручит пуля-дура, поможет штык-молодец. Думаю, все в школе проходили Лермонтова. – Сделав паузу, боец оглядел всех, кто толпился у «буржуйки», потом медленно как заклинание произнес: «…недаром помнит вся Россия про день Бородина…»
Будоражащие сердце названия селений, мимо которых грохотал эшелон, оставались позади: Одинцово, Голицыно, Кубинка, Тучково, Дорохово…
Можайский рубеж обороны был центральным участком Западного фронта. Сердцем этого рубежа было Бородинское поле.







