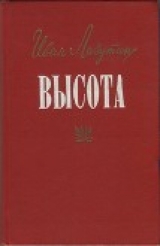
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Григорий Казаринов прибыл на командный пункт комдива Полосухина, где должна была состояться встреча с дедом. Огромный диск луны, повисшей над темной полоской леса, лил свою мертвецкую голубизну на заснеженное, изрытое окопами и блиндажами поле. Григория била нервная дрожь. Заслышав шаги идущего по траншее Казаринова, часовой окрикнул его простуженным голосом:
– Стой, кто идет?
– «Владивосток».
– «Варшава»! – прозвучал ответный пароль часового.
Кроме Полосухина в блиндаже штаба дивизии у стола, на котором лежала карта оборонительного рубежа дивизии, стояли командир и начальник штаба только что прибывшего на огневые позиции стрелкового полка и комиссар дивизии Мартынов.
По лицам Полосухина и бригадного комиссара Мартынова Казаринов понял, что случилось что-то недоброе. Деда нигде не было видно. Лица начальника штаба и командира только что прибывшего полка, которого Казаринов видел впервые, были каменно-неподвижными. В глаза Казаринову они смотрели с невысказанной печалью соболезнования.
Казаринов доложил о своем прибытии.
Еще утром, дорогой из Можайска, оглядывая из машины окрестности Бородинского поля, Полосухин подумал: «Как тяжело в войну работать почтальоном. В своих сумках кроме долгожданных солдатских писем они каждый день носят похоронки… Трудно по ночам спать при такой работе… А вот теперь самому придется сообщить лейтенанту Казаринову о гибели его деда». Три дня назад он за вынос из окружения знамени полка подписывал наградные документы на Казаринова и возглавляемую им группу знаменосцев, а сейчас нужно находить другие слова. Но где найти эти слова утешения, да и помогут ли теперь слова?
– Мужайтесь, лейтенант. – Полосухин обошел стол и, нахмурившись, не глядя Казаринову в глаза, пожал ему руку. – Недобрую весть придется сообщить вам.
Казаринов медленно обвел взглядом лица командиров. Ни на одном из них он не прочитал равнодушия. С такими лицами стоят у гроба, в котором лежит, смежив веки, близкий или родной человек.
Минута молчания была такой же тягостно-напряженной, какой она висит над окопами перед сигналом в атаку.
– Ваш дед, академик Дмитрий Александрович Казаринов… – Полосухин почувствовал, что ему не хватает воздуха. Сделав глубокий вдох, он выдавил из себя: – Погиб при бомбежке. В ста пятидесяти метрах от памятника Кутузову. – Видя, как в какие-то секунды кровь отхлынула от лица лейтенанта, полковник, переведя взгляд на карту, лежавшую на столе, сказал: – Вчера он выступал в Можайске перед бойцами и командирами вашего полка. После выступления решил навестить вас. Он ехал ко мне на командный пункт. Для безопасности ему предложили подождать вас в Можайске, в штабе укрепрайона, куда должны были подъехать вы для встречи, но он отказался. Он настоял, чтобы его провезли на огневые позиции, где находится внук. И по дороге ко мне, в километре от Горок, машина попала под бомбежку. Вместе с ним погибли адъютант командира вашего полка, медсестра Калязина и водитель машины. При нем были партбилет, удостоверения депутата Верховного Совета и академика, а также связка ключей, деньги. Я должен их передать вам. – С этими словами полковник достал из сейфа партбилет, документы, связку ключей, деньги в конверте и вдвое свернутую, отпечатанную в типографии похоронку.
Сразу два удара. Гибель деда и похоронка на Галину.
– Кем вам приходится Казаринова Галина Петровна?.. Сестра, родственница?.. – тихо проговорил Полосухин.
– Жена.
Еще больше помрачневший полковник Полосухин окинул взглядом подчиненных, словно ища у них поддержку в эту трудную для него минуту. И те пришли на помощь.
– Примите наше соболезнование, лейтенант. Война… – Комиссар дивизии подошел к Казаринову, положил ему на плечо руку, обнял.
Начальник штаба и командир полка молча пожала Казаринову руку. Комиссар, чтобы только не молчать, сказал торжественно-строго:
– Мужайтесь, лейтенант… Ваш дед, знаменитый академик Казаринов, погиб как воин. Погиб на Бородинском поле!.. Хоронить будут на Новодевичьем кладбище со всеми почестями.
– Какие будут приказания? – еле слышно дрогнувшим голосом произнес Казаринов.
– На похороны деда командарм дает вам отпуск на четверо суток. Если не уложитесь – можете пробыть в Москве пятеро суток. Документы готовы. Получите их в соседнем отсеке. – Полковник кивнул на грубую дверь, сбитую из сосновых досок, в торце блиндажа. А это… – Полосухин бросил взгляд на стол, где лежала связка ключей и конверт с деньгами, – не забудьте. Ключи, очевидно, от квартиры. К машине вас проводит мой связной. Доставит до Можайска. Тело деда – в штабе укрепрайона, – Полосухин пожал Григорию руку: – Лейтенант, прошу вас – примите этот удар стойко. Впереди у нас – тяжелые бои.
Как во сне прошел Казаринов в боковой отсек, получил у дежурного по штабу отпускное удостоверение и вместе с связным командира дивизии вышел из блиндажа командного пункта.
Над полоской темнеющего по кромке Бородинского поля Кукаринского леса кроваво-огненным диском вставало солнце, обволакивая розовой дымкой пелену выпавшего за ночь снега.
– Не только у вас горе, товарищ лейтенант, у меня тоже… – Связной что-то еще хотел сказать в утешение, но оставил фразу незаконченной.
– Что – тоже? – чтобы не молчать, спросил Казаринов, которому в эту минуту хотелось остаться одному, упасть на землю и, чтоб никто его не видел и не слышал, разрыдаться.
– Батьку – под Киевом, старшего брата – на Березине… Мать осталась одна, как былинка в поле. Я не боюсь смерти, вот только мать жалко. Да и самому пожить охота.
Слева, в полутора километрах от КП командира дивизии, на вершине пологого холма, четко вырисовывались контуры памятника фельдмаршалу Кутузову.
«Где-то там… – глотая слезы, подумал Казаринов, взглядом отыскав шоссе, на обочине которого темнели на снегу разбитые машины. – Вчера вечером этих машин и воронок не было. Ночная работа».
Перед тем как сесть в эмку, заляпанную для маскировки блеклыми цветами и стоявшую под маскировочным тентом недалеко от опушки леса, Григорий остановился и с минуту стоял молча, оглядывая Бородинское поле, на котором выпавший снег, словно саваном, закрыл глиняные валы, обрамляющие противотанковые рвы и надолбы.
В эмке, склонившись над баранкой, – дремал шофер. Новенький полушубок с серым бараньим воротником, новенькие валенки и шапка с опущенными ушами надежно защищали его от ранних морозов. Стоило связному коснуться рукой дверцы машины, как сон водителя словно рукой сняло.
– Куда? – обратился он сразу к Казаринову и связному, у которого вчера выменял на наборный мундштук две осьмушки крепкой махорки. Пачка обещанного «Беломора» осталась за связным.
– В Можайск. В штаб укрепрайона, – бросил связной и протянул шоферу пачку «Беломорканала».
– А ты, паря, молоток!.. Умеешь держать слово, – сказал шофер, выезжая из-под тента. Кондовый сибиряк, в пятом колене кузнец, он считал и утверждал, что все самое хорошее и самое падежное в мире может быть только в Сибири. – Скажи начпроду дивизии, что, если он еще раз привезет нам вонючую махорку, бойцы голым задом посадят его на холодную наковальню и заставят зубами качать мехи горна.
– Скажи ему сам, ты к начальству ближе, возишь их…
Перед выездом на шоссе Казаринов попросил шофера:
– Когда будем проезжать мимо памятника Кутузову – сбавь скорость. Где-то там, на обочине шоссе, воронка есть…
– Будет сделано, лейтенант, – сказал шофер, разминая в пальцах папиросу.
Разговор-подначки между связным и шофером продолжался до Можайска. Слуха Казаринова он касался механически, как далекие пустые звуки, и не вливался в русло его горестных мыслей, связанных с гибелью деда. Даже официальная похоронка на Галину, упавшую в пучину холодного и глубокого Днепра в полном обмундировании, легла на его душу не таким тяжким грузом, как смерть деда. Галину он похоронил в душе давно. Не похоронил только память о ней, сердечной раной ноющей с тех пор, как на его глазах его же руками был взорван мост через Днепр.
Саперы с грузовых машин заваливали щебнем, песком и битым кирпичом бомбовые воронки, между которыми на малой скорости, виляя, чтоб не угодить в кювет, ползли со стороны Можайска груженные снарядами и бочками с горючим грузовые машины. Вперемежку с ними трактора-тягачи волокли тяжелые орудия и противотанковые пушки, на лафетах которых, вцепившись руками в щиты и заиндевелые железные скобы, сидели бойцы орудийных расчетов.
Только теперь, достав из кармана конверт, Казаринов прочел похоронное извещение на Галину. Оно было адресовано деду. Черные типографские буквы зловещей вязью, струясь, переливались на пожелтевшем листке бумаги: «…жена вашего сына Казаринова Галина Петровна погибла смертью храбрых в боях за Родину при переправе через Днепр. Место захоронения – Днепр в районе…» Этот район, этот мост через Днепр, как наяву, представали Григорию в сновидениях, отчего он не раз просыпался в холодном поту.
Страшно было увидеть деда мертвым.
В штабе укрепрайона, расположенном в толстостенном приземистом доме, по фигурной кирпичной кладке которого можно было судить, что стоит он уже не один век, дежурный оперативного отдела, капитан с красной повязкой на рукаве, встретил Казаринова в коридоре и сразу же повел его к крытой машине, стоявшей у подъезда.
– С президиумом Академии наук связались. Тело академика нужно вначале отвезти в морг Первого медицинского института. Адрес и сопроводительные документы – у водителя машины. А дальше все пойдет по ритуалу государственных похорон. Занимается похоронами президиум Академии наук… – Все это капитан говорил на ходу, поддерживая Григория за локоть, пока они шли к крытой машине с дверцей сзади. – Примите, лейтенант, мои соболезнования.
Сноп света, падающий через дверной проем, тускло освещал лицо покойного, лежавшего на носилках у борта машины.
Григорий быстро поднялся в машину. Было что-то торжественно-печальное в выражении лица деда, даже какая-то виноватая затаенная улыбка. Будто уснул крепким сном и во сне увидел что-то хоть и грустное, но приятное. Рядом с носилками стояла грубая, окрашенная охрой скамейка, на которую Григорий опустился, когда услышал шум включенного двигателя.
Только теперь, уронив в ладони голову, он до конца осознал, какое горе постигло его. Плечи его заколыхались в беззвучных рыданиях.
– Где поедете, товарищ лейтенант: в кузове или в кабине? – донесся до слуха Григория откуда-то справа через брезент крытого кузова голос шофера.
– В кузове… – не поворачивая головы ответил Григорий.
Дверца громко захлопнулась, металлически цокнула защелка. Лицо академика Казаринова погрузилось в темноту.
Безысходное чувство круглого сиротства испытывают не только дети…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В пятом часу утра командарма Лещенко разбудил начальник штаба, войдя в его отсек без стука. В голосе полковника генерал почувствовал тревогу.
– Товарищ генерал, дело совершенно срочное и неотложное.
Генерал открыл глаза и поднес руку с часами к лицу.
– Москва?
– Нет.
– Командующий фронтом?
Начальник штаба потряс перед собой папкой:
– Документ переведен и перепечатан на машинке. Необходимо срочно с офицером связи доставить его командующему фронтом.
При упоминании командующего фронтом сон как рукой сняло. Пока генерал, поднявшись с кровати, надевал носки и натягивал сапоги, адъютант был уже на ногах – спал не разуваясь. Ремень и портупею генерал затягивал уже на ходу, идя в главный отсек блиндажа. Следом за ним шли начальник штаба и адъютант. В отсеке тускло горела электрическая лампочка.
– Усильте свет!
Адъютант включил вторую лампочку, и в отсеке сразу стало светлее.
– Где перевод? – возбужденно спросил командарм.
Начальник штаба достал из папки два листа машинописного текста и передал их генералу:
– Директива Гитлера.
Перевод документа командарм читал, стоя посреди отсека, где желтый свет от лампочек падал ярче. Чтобы не маячить перед глазами генерала, начальник штаба присел к столу, а адъютант, переступая с ноги на ногу, молча стоял за спиной командарма.
«ДИРЕКТИВА ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ О РАЗРУШЕНИИ ЛЕНИНГРАДА, МОСКВЫ И ДРУГИХ ГОРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ставка верховного главнокомандующего
7 октября 1941 г.
Секретно
Фюрер вновь принял решение не принимать капитуляции Ленинграда или позднее Москвы даже в том случае, если таковая была бы предложена противником.
Моральное оправдание этого решения ясно для всего мира. Точно так же, как в Киеве, закладкой бомб и мин с часовыми механизмами был создан ряд тяжелых угроз для наших войск – в еще более широком масштабе – в Москве и Ленинграде. Советское радио сообщило, что Ленинград заминирован и будет обороняться до последнего солдата.
Следует ожидать также сильного распространения эпидемий.
Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Все лица, пытающиеся покинуть город в направлении наших линий, должны быть отогнаны огнем. По тем же соображениям следует приветствовать оставление небольших незащищенных брешей, через которые жители города могут просачиваться во внутренние районы страны. Это относится и ко всем остальным городам: перед их захватом они должны быть уничтожены огнем артиллерии и воздушными налетами, с тем чтобы побудить их жителей к бегству.
Не допускается, чтобы немецкие солдаты рисковали своей жизнью для спасения русских городов от огня или чтобы они кормили жителей этих городов за счет средств своей родины.
Хаос в России будет тем больше, паше управление и эксплуатация оккупированных областей будет тем легче, чем больше жителей советских русских городов уйдет во внутренние районы России.
Об этой воле фюрера необходимо сообщить всем нашим командирам.
По поручению начальника штаба верховного командования вермахта
Иодль».
Директиву штаба немецкого верховного главнокомандования командарм не сходя с места, стоя, прочитал дважды. Второй раз читал медленнее, время от времени закрывая глаза, о чем-то размышляя, что-то решая. Потом резко повернулся к начальнику штаба и строго приказал:
– Срочно свяжите меня по ВЧ с Генеральным штабом!
– Товарищ генерал, мы нарушаем субординацию… Перешагиваем штаб командующего фронтом…
– Полковник!.. – раздраженно бросил командарм. – Вы вдумались в суть директивы?! – И, не дожидаясь ответа начальника штаба, с нарастающим раздражением отрезал: – В данной ситуации дело не в субординации, не в амбиции. Если мы сейчас будем искать по всему фронту местонахождение командующего фронтом, который, как вам известно, в штабе не сидит, у этой гитлеровской директивы отрастет борода! А потом, еще раз напоминаю: наша армия на сегодняшний день подчиняется непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования! Вам это известно?
– Известно, товарищ генерал! Это я так, на всякий случай.
Командарм так посмотрел на полковника, что тот поежился.
– Срочно свяжите меня по ВЧ с дежурным Генштаба и подготовьте двух офицеров связи для доставки этого документа в Генштаб.
– Копии себе оставляем?
– Обязательно! Хранить в сейфе особо секретных документов!
Командарм по ВЧ связался с маршалом Шапошниковым, с которым его по убедительной и настойчивой просьбе соединил дежурный по Генштабу. При докладе генерал прямым текстом сообщил маршалу, что его разведчики сегодня ночью взяли важного «языка» – офицера связи генерального штаба германской армии, у которого изъяли секретную директиву Гитлера.
В шестом часу утра пленного немецкого майора под конвоем усиленной охраны отправили в Москву. Следом за машиной с пленным шла видавшая виды штабная эмка с двумя офицерами связи.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Домой из морга Григорий приехал на той же машине, что привезла тело деда в Москву. Никогда он с таким чувством смятения и боязнью перешагнуть родной порог не возвращался домой. С ужасом представлял себе, какой удар он нанесет бедной Фросе, посвятившей всю свою жизнь верному служению одинокому старому человеку и его внуку. Григория Фрося не видела больше года. Представлял, какой радостью засветится ее лицо, когда она откроет ему дверь. О том, что деда уже нет в живых, она еще не знает. Григорий это понял час назад, когда говорил с ней по телефону. Сказать о смерти деда не хватило духу. Задыхаясь от радости, что она слышит голос Григория, Фрося удивлялась: как же так получается – дед уехал к нему в Можайск еще вчера рано утром и они до сих пор не увиделись. «Неужто разминулись?» – тревожно прозвучал ее вопрос. Григорий ответил что-то невразумительное. Разговор кончился тем, что Григорий сказал старушке: через полчаса он приедет домой, и просил ее не выходить из дома.
Мучительные полчаса, которые он ехал по словно вымершей Москве, подходили к концу. Вот и дом с каменным цоколем, в котором Григорий сделал первые шаги, откуда дед и Фрося провожали его в военное училище.
– Приехали, – сказал Григорий шоферу, когда машина поравнялась с аркой, ведущей во двор. – Дорогу назад запомнил? Не заблудишься?
Шофер воспринял вопрос Григория как невеселую шутку, ухмыльнулся:
– Туда, откуда мы приехали, товарищ лейтенант, можно вернуться даже с завязанными глазами.
– Что верно, то верно, – согласился Григорий, снял с машины узел с одеждой деда, завернутой в плащ-палатку и перевязанной серой солдатской обмоткой.
В углу двора, рядом с птичником покойного профессора-орнитолога Белопольского, старик со старухой на козлах пилили дрова. Когда Григорий проходил мимо них, старик бросил пилить и долго с какой-то подозрительностью смотрел вслед незнакомому военному: облик высокого статного командира совсем не вязался с узлом, который он нес, прижимая к бедру.
Григорий почувствовал пристальный взгляд старика, обернулся.
– Извиняйте, вы к кому? – поинтересовался старик, приподнимая сползшую на глаза старую баранью шапку.
– Я к Казариновым, – ответил Григорий и, видя, что старик хочет спросить что-то еще, стал ждать вопроса.
– Вы, случайно, не внук Дмитрия Александровича?
– Угадали.
Старик сразу оживился, стараясь разглядеть в молодом военном черты сходства с академиком Казариновым. И как видно, нашел их.
– Похожи!.. Очень даже похожи!.. Вылитый дедушка, и ростом с него, и походка дедова. А вы что – разминулись, одни без деда возвращаетесь?
– Разминулись, – глухо проговорил Григорий и, повернувшись, решительно зашагал к подъезду.
Слова сожаления, произносимые стариком, летели вдогонку Григорию до тех пор, пока он не скрылся в подъезде.
Лифт не работал.
Тяжело печатая шаг по лестничным ступеням, поднимался Григорий на пятый этаж. С минуту постоял у двери, не решаясь протянуть руку к кнопке звонка. Сердце сильно стучало. Что он скажет Фросе, когда она спросит: «А где деда?..» А этот вопрос она обязательно задаст. Спросит об этом с испугом в глазах. По одному виду Григория поймет, что случилось непоправимое.
Григорий дважды нажал кнопку, дав один длинный звонок и второй короткий, как точку. По этому звонку Фрося раньше, не спрашивая, открывала дверь, когда Гриша возвращался из школы. «Интересно, узнает звонок или нет», – подумал Григорий и почувствовал, как сердце в груди сделало зыбистый бархатно-ласковый перебой.
Фрося отворила дверь не спрашивая. Подсказало сердце, что это он. Старуха даже не дала Григорию перешагнуть порога, бросилась ему на грудь, обвив своими натруженными руками его шею.
– Господи!.. Господи!.. Соколик ты мой ясный!.. Родненький ты мой!.. Да как же тебя отпустили-то? Нагнись, я тебя поцелую… – Фрося целовала Григория в лоб, в щеки, а у самой из глаз катились слезы.
Мягко отстранив Фросю, Григорий перешагнул порог, положил узел в прихожей, снял с плеч вещмешок.
Как только за Григорием захлопнулась дверь, Фрося почувствовала: чего-то в этой встрече не хватает. И по лицу его поняла: случилось неладное.
– А деда?.. Где же деда?.. Наверное, внизу, в машине замешкался?.. – Появившуюся было на лице Фроси радость словно ветром сдуло. – Ты чего стоишь-то, как чужой?.. Поди, отвык от дома-то родительского? Я спрашиваю – где деда-то?
Не раздеваясь, Григорий нерешительно прошел в гостиную, оставляя на натертом паркете грязные следы. И в этой не свойственной Григорию неряшливости Фрося почувствовала тревогу, знак пока еще неясной беды. Бросив взгляд на лежавший в прихожей узел, Фрося оторопела, увидев торчавший из него уголок серого каракулевого воротника. Что-что, а воротник зимнего пальто Дмитрия Александровича Фрося помнила до малейшего завитка. Когда она, посерев в лице, внесла узел в гостиную и положила его посреди комнаты на ковер, Григорий снова почувствовал, как сердце у него сделало мягкий перебой. Это ощущение он испытывал и раньше, когда ему снилась Галина, и всякий раз она приходила к нему в сновидениях в моменты крайней для ее жизни опасности.
Яркий квадрат солнца, лежавший на светло-палевом персидском ковре, казался золотым сверкающим блюдом, на котором, свернувшись в кольцо, лежала затаившаяся темно-серая змея. Никогда раньше Григорий в рисунке ковра не видел такой символики.
Тяжело было смотреть ему, как Фрося, стоя на коленях, трясущимися руками развязывала узел. А когда она откинула в стороны углы брезентовой плащ-палатки и перед ее глазами предстало залитое кровью и разорванное в нескольких местах пальто Дмитрия Александровича, Григорий закрыл глаза. Он не видел лица Фроси, но по звукам мог догадаться, что она, глухо охнув, со стоном всплеснула руками и тяжело, натруженно и сипло задышала. Зубы ее выбивали мелкую дробь.
– Чт-то… эт-то?.. – донеслись до слуха Григория нечленораздельные обрывки слов, и, судя по голосу, можно было подумать, что произносила их не Фрося, а кто-то посторонний.
Григорий открыл глаза и не узнал Фросю. Ее всегда гладко причесанные на пробор седые волосы были взлохмачены, в широко раскрытых и ничего не выражающих глазах застыл дикий испуг животного, которое загнали в тупик и оно не видит пути к спасению.
– Кузьминична, встаньте… – Григорий подскочил к няне, склонился над ней, пытаясь помочь подняться, но расслабленное тело ей уже не повиновалось. А когда Григорий поднял руки няни в расчете, что она обнимет его за шею и он поможет ей встать, руки ее, словно плети, скатились с плеч Григория. «Удар», – пронеслось в голове Григория. Обняв няню, он осторожно поднял ее и, видя, что ноги не держат ее, на руках перенес на диван. Дышала она тяжело, с хрипом, взгляд затуманенных глаз остановился на одной точке. Впервые в жизни Григорий видел лицо-маску. Слова «инсульт» и «инфаркт» он слышал и знал, что это тяжелые недуги, но как они протекают и как ведет себя человек при этих болезнях, он не имел ни малейшего представления. И вот теперь, когда несчастье случилось у него на глазах, он был твердо уверен, что у няни инсульт.
– Няня, ты меня узнаешь? – почти кричал Григорий, склонившись над Фросей и глядя в ее затуманенные глаза. – Ну, скажи что-нибудь, милая, или хотя бы кивни.
Фрося, слегка приоткрыв рот, что-то промычала в ответ, но слов Григорий разобрать не мог.
«Скорая помощь» приехала быстро. Уже немолодая женщина-врач, осмотрев больную, кивнула двум пришедшим с ней санитарам:
– Носилки.
А когда за санитарами закрылась дверь, врач спросила:
– Когда это случилось?
– Двадцать минут назад. Что с ней, доктор?
– Глубокий инсульт. С параличом конечностей и речи.
– Отойдет?
– Вряд ли. К тому же возраст…
– Куда вы ее положите?
Врач куда-то позвонила и согласовала с дежурной службой «Скорой помощи» место госпитализации больной.
– В Первую градскую. Это на Большой Калужской.
– А какое отделение?
– Пока неизвестно, там все забито. Справитесь в приемном покое. – Пока санитары укладывали Фросю на носилки, врач на клочке бумаги написала номер телефона приемного покоя Первой градской больницы и протянула его Григорию: – Какие-либо контакты с больной сейчас бесполезны: глубокое поражение центров головного мозга.
Григорий склонился над няней и, глядя ей в глаза, в которых навсегда поселилось равнодушие к жизни и безразличие ко всему, что когда-то волновало, радовало и огорчало ее, произнес:
– Прощай, няня… Может быть, больше не увидимся. Послезавтра я хороню деда и возвращаюсь на фронт. Ты меня слышишь, няня?
Ни одна морщинка не шевельнулась на лице Фроси.
– Не терзайте себя, товарищ лейтенант. Ей теперь уже все равно.
Вслед за санитарами, вынесшими на носилках больную во двор, спустился и Григорий. И когда «скорая» скрылась из виду, он еще долго стоял посреди двора, глядя в темный проем арки. На плечи его, он был в одной гимнастерке, на обнаженную голову падали большие мохнатые снежинки.
К нему подошел старик, который с полчаса назад пилил со старухой дрова. Покашливая в согнутую ладонь, несмело спросил:
– Что с Кузьминичной-то?
Григорий стоял неподвижно, словно не слышал вопроса.
– Вчера вечером заходила к нам, ребятишкам пряники принесла. Такая шустрая была… Про вас все рассказывала. А тут вдруг вон что…
Чтобы не обидеть старика и что-то ответить ему на его сочувствие, Григорий повернулся к нему:
– Заболела Кузьминична. Тяжело заболела. Удар с ней. Увезли в Первую градскую больницу.
Старик хотел сказать что-то еще, но слова его были оборваны надрывной сиреной со стороны Арбата. Вслед за сиреной, разнесшейся по переулкам, послышались берущие за душу тревожные слова из рупоров: «Воздушная тревога!.. Воздушная тревога!..» Эти слова гнали москвичей в подвалы, в подземелье станций метро, в места, где опасность от воздушных налетов немецких бомбардировщиков была наименьшей. А снег, уже сильный, все падал и падал на голову и плечи Григория.
Первое, что сделал Григорий, поднявшись в квартиру, – это дозвонился в президиум Академии наук и узнал фамилию председателя комиссии по организации похорон академика Казаринова. «Саркисов… Саркисов… Кажется, этого ученого я знаю, он бывал у нас… Эта фамилия в нашем доме когда-то звучала». Григорий пытался восстановить в памяти образ ученого, тоже, как и дед, физика, но ему это не удавалось. И когда он наконец с трудом дозвонился до Саркисова и сообщил ему, что на похороны прибыл с передовой внук академика Казаринова лейтенант Григорий Казаринов, из трубки понеслись старческие всхлипы:
– Гриша, это ты?.. Ты меня помнишь, милый?.. Помнишь, лет пятнадцать назад я был у вас на даче в Абрамцеве?.. Помнишь, как мы стреляли в цель из самодельных луков, которые смастерил твой дедушка?.. – Дальше Саркисов говорить не мог.
С минуту в трубке царило молчание. Григорий хотел уже было положить ее на рычажки, как вдруг в ней послышался немолодой женский голос:
– Григорий Илларионович, вы извините, пожалуйста, у Дамира Саркисовича плохо с сердцем. С вами говорит его жена. Меня зовут Эльвира Петровна. Весть о гибели вашего деда его буквально подкосила, а ваш звонок… вы сами понимаете… Приезжайте к нам. Пожалуйста, если можете, приезжайте прямо сейчас. Вам непременно нужно поговорить с Дамиром Саркисовичем. Запишите наш адрес.
Григорий записал адрес и, поблагодарив супругу Саркисова, положил трубку.
Через открытую форточку доносился нудный вой сирены, и время от времени со стороны Арбата слышались два повергающих в смятение слова: «Воздушная тревога!.. Воздушная тревога!..»







