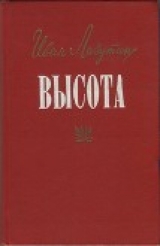
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Живет у приморских народов поверье: если за кораблем день, второй, третий плывет акула, значит, быть на корабле покойнику, хотя вся команда, начиная от капитана и кончая самым молодым матросом, пребывает в добром здравии. Сквозь толщу веков чабаны горных пастбищ донесли до наших дней примету, тайна которой до сих пор не разгадана наукой: за несколько дней до землетрясения змеи выползают из расщелин гор на равнины.
Вот и теперь… Беснующееся воронье!.. Третий день оно со зловещим надрывным карканьем кружит над Бородинским полем, словно в предвкушении кровавого пиршества. Даже дремучие старики и старухи Горок, Бородина, села Семеновского, Шевардино и близлежащих к Бородинскому полю деревень не помнят, чтобы на их веку белые, гонимые с запада легким ветром невесомые облака застилались черным листопадом каркающего воронья.
Но только спустя годы после войны люди узнают, как недалеко от Можайска, под Вязьмой, четыре попавшие в окружение армии Резервного и Западного фронтов две недели дрались не на жизнь, а на смерть, чтобы вырваться из вражеского окружения. Дрались сотни тысяч, а из кольца вышли лишь мелкие разрозненные группы израненных, измученных бойцов и командиров. А те, что сложили свои головы на поле боя под Вязьмой, остались лежать навсегда в древней земле смоленской. А ветер… ему, ветру, все равно что нести на своих легких и быстрых крыльях: тонкие запахи полевых незабудок и ландышей или смердящее зловоние разлагающихся трупов…
То, что на оперативных штабных картах Верховного Главнокомандования было обозначено топографически как Можайский рубеж обороны, на изрытой лопатами и кирками живой земле выглядело по-другому: противотанковые рвы и надолбы, извилистые окопы и траншеи, трехнакатные блиндажи и бетонированные доты, командные и наблюдательные пункты, огневые и запасные позиции, землянки медсанбатов… Никогда еще со времен сражений с наполеоновской армией Минское шоссе и Старая Смоленская дорога не испытывали такого круглосуточного напряжения, как в октябре сорок первого года. Казалось: сумей заговорить в эти тяжкие дни дорога, она взмолилась бы: «Люди!.. Что вы делаете?! Ведь и у дороги есть мера сил и предел терпения. Умирает не только человек, умирает и дорога…» Но Старая Смоленская дорога жила, не умирала. Она, как и россиянин «во дни торжеств и бед народных», напрягалась до последней своей силушки и молча благословляла на праведный бой всех, кто двигался по ее натруженной спине и полуразбитым обочинам.
Еще в далеком детстве Лещенко знал, что у православных считалось великим грехом пройти мимо церкви или часовенки и не перекреститься. А некоторые, особо религиозные, при этом снимали шапки и неистово сгибались в земных поклонах. Но это была набожность безграмотного люда. Там были своего рода первородный фанатизм и страх согрешить перед богом, вбитые в душу христианина с младенческих лет, когда глаза Христа или божьей матери, изображенных на висевшей в углу избы иконе, следили за ребенком всюду, где бы он ни находился. Но сейчас… Какая неведомая сила, какой душевный призыв заставляли замедлять шаг усталых солдатских колонн, двигающихся мимо памятника Кутузову?.. И словно по чьей-то суровой команде головы бойцов, вскинувшись и освободившись от тягучей дорожной дремоты, поворачивались направо, и взгляды всех – пеших, конных и двигающихся на машинах и бронетранспортерах – скрещивались на освещенном лучами закатного солнца памятнике. Не пройдет и месяца, как с гранитного Мавзолея Ленина имя великого русского полководца прозвучит как напутствие и как отцовское благословение из уст Верховного Главнокомандующего. Это имя прозвучит над молчаливо идущими мимо Мавзолея колоннами вооруженных бойцов и командиров как призыв отстоять Москву. И они, осененные этим великим именем, ставшим гордостью и славой России, сойдя с брусчатки Красной площади, миновав собор Василия Блаженного, молча сядут в грузовики и маршевой колонной двинутся туда, где будет решаться судьба Москвы и судьба России.
Но до этого Великого Парада, который войдет в историю войны и в мировую историю государств, было еще двадцать с лишним дней.
Слова полководца, высеченные на гранитном постаменте, читались сердцем и вызывали в душе неизъяснимое волнение не потому, что судьба распорядилась бросить на карту жизнь каждого, кто вступал на легендарное Бородинское поле, а потому, что слишком жгуче разгоралось в душе каждого солдата и командира чувство преданности Родине и безмерности своего долга перед ней. Подобное чувство с такой силой захватывает человека не часто. Оно как молния перед грозой освещает всю прожитую жизнь и подсознательно дает понять, что вся прожитая жизнь была лишь подготовкой к великому часу, уготованному судьбой для великого дела. И час этот, а может быть, даже и минута станут бессмертными в памяти народа.
Это чувство смятения в душе генерала Лещенко вспыхнуло вчера в кабинете маршала Шапошникова, который сообщил ему, что решением Ставки Верховного Главнокомандования ему предстоит сдать командование гвардейским механизированным корпусом другому генералу и срочно принять на себя командование создаваемой 5-й армией, дислокация которой полностью займет можайский рубеж обороны с центром оперативного построения на Бородинском поле. Два этих слова: Бородинское поле – в первую минуту взволновали душу генерала, но уже через несколько минут беседы с маршалом насторожили и словно наполнили особым, доселе не испытанным зарядом напряжения. Стараясь впитать смысл и значение каждого слова, сказанного маршалом, генерал никак не мог освободиться от канувших в историю имен, фамилий и событий, которые как бы сами собой непрошенно врывались в его память и будоражили то, что кропотливо заучивалось за годы пребывания в военной академии, где опытные преподаватели на лекциях по тактике крупных сражений давали глубокий анализ великих баталий, в том числе и знаменитого Бородинского сражения. В те годы, будучи капитаном, Лещенко штудировал роман Льва Толстого «Война и мир» уже не как читатель, а как человек военный. И вот теперь Бородинское поле лежит перед ним как предстоящий рубеж обороны. Багратионовы флеши, батарея Раевского, Шевардинский редут, речка Колочь… Как четко видны они с колокольни в бинокль, и как безропотно-понуро и молчаливо ждут они нового сражения. Изрытое противотанковыми рвами, окопами, блиндажами, овитое колючей проволокой, бугрящееся свежими земляными валами и бетонированными колпаками долговременных огневых точек, распростертое до горизонта, поле вдруг на какую-то минуту показалось генералу вымершим городом, из которого по знаку большой беды ушли люди.
Был и другой повод для душевного волнения командарма. Разве мог он предполагать, что ему, советскому генералу, придется принять сражение на том самом, освещенном историей месте, где покоится прах его прадеда Ивана Егоровича Истомина, гренадера дивизии Воронцова, в честь павших воинов которой на Бородинском поле воздвигнут гранитный памятник. К этому памятнику еще в 1913 году в знойный летний день привозила его, десятилетнего мальчишку, бабушка и рассказывала любимому внуку, каким добрым и бесстрашным был его прадед. Генерал Лещенко до сих пор помнил, как бабушка положила к подножию памятника гренадерам цветы и долго стояла на коленях, уйдя мысленно в те далекие времена, которые были недосягаемы для понимания мальчугана. В тот же день она в Преображенской церкви отслужила молебен по убиенному воину Ивану. Сейчас все это в памяти генерала всплыло отчетливо и как-то особенно ярко. Он даже помнил, в чем одета была бабушка Варвара Константиновна: длинная, до земли, черная юбка со сборками, на плечах – темно-вишневая шаль с кистями, голова покрыта белым, в горошек, платком.
Напряжением воли Лещенко отогнал неожиданно нахлынувшие воспоминания о далеком детстве и вновь вернулся мыслями в кабинет маршала. Покинув кабинет Шапошникова, генерал еще долго не мог прийти в себя от волнения, связанного с новым, неожиданным для него назначением, которое было не только служебным повышением на лестнице военной иерархии. Рок судьбы бросал его на рубежи, навечно вошедшие в историю войн как легенда, более того – туда, где сражался и пал смертью храбрых его прадед. Не выходя из здания Генштаба, Лещенко позвонил от дежурного пропускного пункта жене и попросил ее, чтобы она к его приезду, не откладывая, нашла в его небольшом архиве академических конспектов толстую тетрадь с надписью «Бородино».
По дороге домой, сидя в машине, генерал пытался зримо представить Бородинское поле, на котором последний раз был три года назад. Только теперь он скорее почувствовал сердцем, чем понял разумом, почему каждый год в конце лета какие-то непонятные потаенные душевные силы тянули его на Бородинское поле, к памятнику гренадерам дивизии Воронцова. И почему-то всегда – то ли он не хотел нарушать душевного священнодействия, то ли потому, что у жены в этот день, как назло, были свои неожиданные заботы и дела, – к памятнику прадеда он ездил один.
Не больше часа пробыл генерал дома. За обедом, думая о чем-то важном и самом главном – это было видно по его рассеянному взгляду, – он рассказал жене о своем новом назначении, о разговоре со Сталиным и с маршалом Шапошниковым и о том, что скоро вновь загрохочут бои на Бородинском поле.
При упоминании о Бородинском поле Надежда Николаевна как-то сразу опечалилась и опустила глаза.
– Почти к Москве уже подошли… Когда ж конец этому?
– Скоро… – рассеянно, чтобы не оставить слов жены без ответа, проговорил генерал и, вскинув на нее беспокойный взгляд, спросил: – Тетрадь с записями о Бородино нашла?
– Нашла. И даже кое-что прочитала.
– И что же ты вычитала, милая? – с улыбкой, чтобы снять напряжение перед расставанием, спросил генерал.
– Зловещее поле. На нем убито и ранено свыше пятидесяти восьми тысяч французов. Да и наших-то… Наших полегло тьма-тьмущая, – сказала Надежда Николаевна и, видя, что муж заканчивает обед, протянула ему накрахмаленную салфетку.
– Сейчас, Наденька, война идет по-другому. Об условиях победы в войне, которую мы ведем, когда-то хорошо сказал Энгельс. – Зная, что любознательная жена, для которой военные дела мужа никогда не были безразличными, как для многих гарнизонных жен, нетерпеливо ждущих от своих мужей повышений в должностях и званиях, обязательно спросит, что же сказал Энгельс о будущих войнах, он не стал испытывать ее терпения и поэтому продолжил свою мысль: – Мудрый Энгельс, теоретик военного искусства, сказал: в будущих морских баталиях исход сражений будет решать не капитан корабля, а инженер корабля.
– В морских баталиях?! – Надежда Николаевна подняла на мужа недоуменный взгляд.
– А в земных баталиях – тем более! – Генерал вытер салфеткой рот и встал. – Против русского штыка не устоит ни один штык мира. А вот то, что с конвейеров заводов Крупна и заводов Мессершмитта и Юнкерса сходит во много раз больше танков, самолетов и самоходных орудий, – это уже другой вопрос. Вопрос важный и требует срочного решения. И чем раньше он будет решен, тем меньше русской крови прольется на русской земле.
– Почему только русской? Ты забыл, что жена твоя белоруска, – с упреком сказала Надежда Николаевна, твердо зная, что муж наверняка незамедлительно найдет ход, чтобы доказать свою правоту. – Ты, наверное, оговорился?
– Нет, не оговорился. Когда выражают мысль образно, категориями, нет нужды в анатомическом расчленении понятий. На нашу страну вместе с чистокровными немцами идут с огнем и мечом армии и соединения нескольких государств, оккупированных германским фашизмом. В этих армиях и соединениях – десятки национальностей. А когда мы что-то хотим сказать о враге, то говорим «немцы». Мы же для врага в союзе всех наших национальностей и народностей сливаемся в единое понятие – русские. Удовлетворена ответом?
Надежда Николаевна вздохнула, подошла к мужу, обняла его за плечи, прильнула щекой к груди.
– Ты можешь вспомнить хоть один случай, когда я была бы не удовлетворена твоим ответом? – В этом искреннем признании жены выразилось все, что наполняло ее в эту минуту: любовь, нежность, преданность, готовность пойти за мужем по любым дорогам войны. И если для выполнения воинского долга потребовалось бы вместе с ним отдать жизнь – она отдала бы ее не задумываясь.
Этот грустный, прощальный обед был вчера. А сегодня генерал несколько часов объезжал на своей видавшей виды эмке Бородинское поле. Уже в Можайске, куда он прибыл поздно вечером вместе с начальником штаба полковником Садовским и членом Военного совета бригадным комиссаром Гордеевым, а также с командирами, перешедшими по распоряжению Ставки вместе с ним из моторизованного корпуса в 5-ю армию, – полковниками Фесенко и Ермолаевым, – перед тем как лечь спать, командарм решил заглянуть в свои академические записи о Бородинском сражении 1812 года.
Над фразой Ф. Энгельса «отход с замечательным искусством», будучи слушателем военной академии, Лещенко глубоко не задумывался. Воспитанный на стратегической формуле «Если воевать, то на чужой земле», господствующей в советской военной доктрине в двадцатые и тридцатые годы, он впервые только сейчас вдумался в глубокий смысл высокой оценки Энгельса отвода двух русских армий под натиском армады Наполеона, покорившей многие государства Европы.
Лещенко читал свои старые конспекты о войне 1812 года, и в голове его рождались тревожные сомнения, которые – выскажи их открыто – наверняка оценят как крамольные и за которые, чего доброго, вместо повышения на должность командарма понизят до командира полка, а то и вовсе… При мысли об этом генерал почувствовал, как на лбу у него выступила испарина.
«В тридцать седьмом и тридцать восьмом годах с палубы военного корабля были смыты не такие рыцари битв, как я… Да что там с палубы! Полетели головы и тех, кто стоял на капитанских мостиках… Тухачевский, Блюхер, Егоров… Маршалы… А Якир?.. А Уборевич?..» Чтобы прогнать непрошенно вскипающие опасные мысли, генерал вернулся к конспекту. Из головы не выходили слова Энгельса, которые повели его разгоряченную мысль дальше и глубже: «Царь недолюбливал Кутузова, во многих вопросах ведения войны не доверял ему, по, когда пробил суровый час спасения России, он 20 августа 1812 года назначает полуопального полководца главнокомандующим и централизует в его руках всю полноту командной власти в русской армии». И снова, как по цепной реакции, крамольная мысль обожгла Лещенко: «Не поторопился ли Верховный, сняв Жукова с поста начальника Генерального штаба? В военной стратегии, говоря словами Энгельса, Жуков признает не «авторитет власти, а власть авторитета». Когда-нибудь эта формула Энгельса будет доминантой и в военном деле».
Когда командарм дошел в своих конспектах до донесения Кутузова императору Александру I о том, что после тщательной рекогносцировки местом генерального сражения с Наполеоном он выбрал огромное поле вблизи села Бородино, он перечитал это короткое послание дважды. И, глядя на карту можайского рубежа обороны, стал вдумываться в преимущества этой позиции, одновременно связывая боевые задачи своей, пока еще не сформированной, армии с равнинной местностью, на которой ему предстоит принять бой с наступающими на можайский рубеж обороны мотострелковыми дивизиями и корпусами 4-й полевой армии фельдмаршала фон Клюге, а также с 10-й танковой дивизией и механизированной дивизией СС «Рейх». Эти добытые фронтовой разведкой сведения двухдневной давности завтра же могут обрасти, как катящийся с горы снежный ком, прибавлением новых дивизий и танковых соединений. За три с лишним месяца войны командарм на своем опыте убедился, насколько искусны и опытны немцы в оперативном перестроении и в использовании в решающий критический момент наступления своих скрытых резервов.
Остановив свой выбор места для генерального сражения с Наполеоном на Бородинском поле, Кутузов писал Александру I в Петербург: «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду в победе».
«Искусство… – тоскливо подумал Лещенко, окидывая пространство левого фланга Бородинского поля в сторону темной полосы Утицкого леса и деревни Утицы, из крыш избушек которой курились белесые столбы дымов, схваченные зорким глазом командарма. – Кутузов знал секрет этого искусства. А я вот не знаю. Сражаться с наполеоновской армией старому фельдмаршалу предстояло на местности, площадь которой была всего 56 квадратных верст: 8 верст по линии фронта, с севера на юг, и 7 верст в глубину, с запада на восток, от деревни Валуево до деревни Татариново. Там, на пятачке земли, предстояло сойтись двум великим армиям, и исход боя должны были решать штык, сабля и картечь. В рукопашном бою русскому солдату испокон веков не было и не будет равных. А здесь… – Командарм навел бинокль на деревню Шевардино. – Здесь фронт только одной моей, пока еще не сформированной, армии протянулся на 107 километров. Это не восемь верст по линии фронта для дислокации двух русских армий Кутузова численностью 126 тысяч человек и 640 орудий. Задача оперативного искусства Кутузова состояла в том, чтобы разбить численно превосходящую армию Наполеона, насчитывающую в своем составе 185 тысяч человек и около тысячи орудий. – Командарм отрешенно смотрел вдаль, занимаясь в уме арифметическим подсчетом. – Да, цифра внушительная!.. Треть миллиона воинов на линии фронта в 8 верст и в глубину – семь верст… И тысяча шестьсот сорок орудий! 205 орудий на линейную версту! А сколько лошадей, если учесть русскую и французскую конницу!..»
«К какому искусству нужно прибегнуть мне, чтобы весь этот, пока еще пустынный, оборонительный рубеж с десятками и сотнями блиндажей, траншей, окопов заполнить полками и батальонами, готовыми если не сегодня, то завтра принять бой. Где эти полки и дивизии?.. Где они?..» Ответ на этот вопрос вскинулся, как подбитая птица, пытающаяся взлететь: «Эти полки и батальоны были… Были… Но они остались лежать там, на земле Украины, Белоруссии, Смоленщины… А те, что двигаются с Дальнего Востока, из Сибири, с Урала… они еще в пути, они еще далеко. Успеют ли? Вон что делает воронье. Чует, что прольется здесь немало крови. И наверное, скоро. Очень скоро… Что я имею на сегодняшний день? Пока еще не полный состав 32-й дивизии Полосухина. В Можайск пока прибыли два стрелковых полка, запасной учебный полк из двух батальонов и батальон курсантов Московского Военно-политического училища. А ведь ей, 32-й Саратовской дивизии, предстоит занять рубеж в 42 километра. И это – на дивизию!.. От одних названий деревень дух захватывает: Бородино, Ельня, Семеновское, Утицы, Артемки, Шевардино, Авдотьино, Логиново… Когда-то Лев Толстой вдоль и поперек исходил эти деревни, редуты, батареи, флеши, чтобы проникнуться духом Бородина».
Много дум и тревог навеяли на командарма записи в общей тетради, на светлом переплете которой было выведено черной тушью: «Бородино».
Неожиданно вспомнился вчерашний разговор с начальником особого отдела армии полковником Жмыховым. Узнав, что вышедший из вяземского котла бывший начальник штаба дивизии полковник Реутов назначен помощником начальника штаба армии, Жмыхов по долгу службы поставил в известность командарма, что Реутовым, по рапорту капитана Дольникова, занимается следователь военного трибунала. Когда командарм спросил о причине расследования, начальник особого отдела был конкретен и категоричен: на совести начальника штаба московской дивизии народного ополчения, которая в конце июля была преобразована в кадровую дивизию Западного фронта, лежит не вызванный тактической необходимостью взрыв моста через Днепр и гибель санитарных машин с ранеными и медицинским персоналом. Свое сообщение полковник Жмыхов заключил кратко и жестко:
– Потопил в Днепре более тридцати человек… Из-за трусости. Спасал свою шкуру. Я читал рапорт Дольникова. Он аргументирован и убедителен.
Командарм поблагодарил полковника за информацию и распорядился, чтобы завтра к двадцати ноль-ноль к нему вызвали следователя трибунала, который занимается делом Реутова. Сплеча рубить не хотел: по своему опыту знал, что на войне бывают такие стечения обстоятельств, когда праведное дело со стороны может показаться стоящим на грани преступления.
Этот вчерашний разговор с начальником особого отдела сегодня, при объезде можайского рубежа обороны, нет-нет да вспоминался. Несколько раз Лещенко пытался встретиться с полковником Реутовым взглядом, чтобы хоть как-то почувствовать: лежит ли действительно на его совести груз вины, – но Реутов всякий раз отводил взгляд в сторону или опускал глаза в землю.
У Шевардинского редута, перед которым проходил глубокий противотанковый ров, возведенный рабочими завода «Серп и молот», генерал дал знак шоферу, чтобы тот остановил машину.
– Выйдем!.. – сухо бросил он в сторону сидевших сзади Реутова и адъютанта. – А ты… – Генерал повернулся к шоферу и положил руку ему на плечо. – Ты, Николай Иванович, можешь минут пятнадцать – двадцать вздремнуть. Прошедшая ночь была у тебя беспокойная.
В боях за Мценск Николай Иванович спас генералу жизнь.
– Вы бы сами нашли часок-другой прикорнуть, – сочувственно ответил немолодой уже шофер, которого Лещенко забрал с собой из корпуса, сданного им три дня назад новому командиру, назначенному Ставкой.
– Ничего, Никола, война кончится – выспимся, – как бы сам себе сказал генерал, выходя из машины.
Генерал поднялся на насыпь, вслед за ним молча поднялись полковник Реутов и адъютант. Отсюда, с высоты Багратионовых флешей, панорама Бородинского поля просматривалась до самого горизонта.
– Да, – Лещенко поднес к глазам полевой бинокль, – не думал и не гадал, что придется испытать судьбу на этом поле.
– Законы войны коварны, товарищ генерал, – сказал Реутов. – Сейчас не предугадаешь, что день грядущий нам готовит.
Командарму явно не понравился тон, каким полковник почти пропел пушкинские слова.
– Предугадывать не обязательно, а вот бриться по утрам и следить за своим внешним видом командиру Красной Армии надо обязательно. – Во взгляде генерала, косо брошенном сверху вниз на заросшие рыжей щетиной подбородок и щеки Реутова, просквозила нескрываемая неприязнь.
– Раздражение кожи, товарищ генерал, – оправдываясь, сказал Реутов и провел ладонью по щеке и подбородку.
– Не нравится мне это ваше раздражение. – И тут же, чтобы погасить в душе нарастающий гнев, Лещенко, опустив бинокль, повернулся к адъютанту: – Лейтенант, запиши дислокацию.
Адъютант, четко усвоивший свои обязанности с первых дней службы при генерале, когда тот командовал механизированным корпусом, быстро выхватил из планшета блокнот и приготовился записывать.
Реутов тоже достал из своего планшета оперативную карту можайского рубежа обороны и, сложив ее вчетверо так, чтобы перед глазами был рельеф Бородинского поля и прилегающих к нему деревень, приготовился наносить на ней отметки простым карандашом.
Генерал, указывая рукой на воздвигнутые укрепления, четко начал:
– Рубеж Авдотьино, Мордвиново будет центром бородинской обороны. Его займет тридцать вторая дивизия полковника Полосухина. Соседом Полосухина слева будут батальоны Военно-политического училища имени Ленина… – Пауза была длинной, тягучей, адъютанту, знающему характер генерала, показалось, что в душе командарма зародились какие-то сомнения и он в следующую минуту примет другое решение, отменив первое. Но адъютант ошибся. Генерал, вглядываясь в даль, поднес к глазам ладонь, загораживаясь от встречных лучей солнца, продолжил, словно над решением о дислокации дальневосточной стрелковой дивизии и батальонов Военно-политического училища он уже думал не один день. – Впереди тридцать второй дивизии займут рубеж обороны восемнадцатая и девятнадцатая танковые бригады. Район их сосредоточения – по обе стороны железнодорожной станции Уваровка. Им предстоит трудная задача. Они первыми примут на себя удар десятой танковой дивизии немцев и мотодивизии СС «Рейх». Вон там, правее памятника Кутузову, в кустарнике у реки Колочи, займет позицию двадцатая танковая бригада. Она сейчас где-то на подходе.
Чтобы не молчать, полковник Реутов откашлялся и проговорил:
– Говорят, Московская окружная дорога забита эшелонами, идущими с востока.
– Это хорошо, что восток шлет пополнение. Маршал Шапошников сказал, что железная дорога от Владивостока до Москвы гудит от эшелонов. К Москве двигаются кадровые части и соединения.
– А эта, тридцать вторая, случайно, не та дивизия, что дралась на озере Хасан? – спросил адъютант.
– Та! – ответил командарм. – Краснознаменная. Основной костяк ее – сибиряки. Народ надежный. Проверенный в боях и крепкий на корню.
– А когда она прибудет, товарищ генерал?
– Из Ставки сообщили, что сегодня утром первые эшелоны дивизии прибыли на Москву-Товарную.
Видя, что генерал охотно поддерживает беседу, Реутов осмелился задать командарму вопрос, на который ответить было пока трудно:
– И это пока все, чем располагает армия?
– К сожалению, на сегодня пока все, если не считать соединений, которые идут с Урала. Несколько эшелонов уже вышли из Владивостока. Моряки-тихоокеанцы. Многие из них служат по пятому и четвертому году. Кадровые.
– Кто будет правым соседом дивизии Полосухина?
На этот вопрос Реутова генерал ответил не сразу. Словно что-то заметив вдали, он поднес к глазам бинокль и некоторое время стоял не шелохнувшись, во что-то пристально всматриваясь. Реутову показалось, что генерал или не расслышал его вопроса, или не пожелал на него отвечать. Но Реутов ошибся. Генерал спустя минуту ответил на его вопрос:
– Это, пожалуй, один из самых ответственных участков правого фланга нашей армии – стык с армией Рокоссовского. Туда в подкрепление дальневосточникам мы бросим отряд москвичей-ополченцев. Я был у них сегодня утром. На их долю выпал ответственный рубеж. Они будут драться на месте, где в 1812 году стояла батарея Раевского. Рабочие-ополченцы с «Серпа и молота» так и заявили в своем письме в Ставку: «Или умрем на Бородинском поле, как умирали наши предки, или победим врага. Москву не сдадим!» – Командарм вытащил из планшета письмо, отпечатанное на машинке, протянул его Реутову: – Прочитайте.
Пока Реутов читал письмо, генерал поспешно поднялся на гребень глинистой насыпи противотанкового вала, за которым зиял ров, и жестом руки подозвал адъютанта. Быстрому на ногу щеголеватому лейтенанту жест этот был необязателен, тот четко зарубил себе на носу, что адъютант – это тень командарма, а поэтому через несколько секунд был уже рядом с генералом.
– Слушаю вас, товарищ генерал! – отчеканил лейтенант.
– Не забудь, когда вернемся на КП, связать меня с полковником Жмыховым.
– Понял вас, товарищ генерал!
Когда Реутов, прочитав письмо рабочих завода «Серп и молот», поднялся на гребень вала и трясущимися руками протянул вчетверо сложенный лист командарму, тот, не глядя на полковника, спросил:
– Впечатляет?
– Мороз идет по коже, когда читаешь! – взволнованно произнес Реутов. Глядя на командарма снизу вверх, всем своим видом он как бы показывал, что ждет обязательных в эту минуту приказаний. И Реутов не ошибся.
Генерал достал из планшета вчетверо сложенную многотиражку.
– А вот наказ рабочих Красной Пресни. Прочитайте. Размножьте оба эти документа и познакомьте с ними каждого бойца и командира нашей армии.
– Но это же функции… – При виде мгновенно посуровевшего лица командарма Реутов, словно поперхнувшись, закашлялся, не договорив фразы.
– Вы хотите сказать, что это функции не оперативного отдела, а комиссаров и политработников?! – И, не дожидаясь слов оправдания со стороны полковника, в мозгу которого уже созрел вариант для исправления ошибки, резко бросил: – Считайте это моим приказом!
– Ваше приказание будет выполнено, товарищ генерал!
– И не позже чем завтра! В Можайске еще работает типография. В ней печатается районная газета. Поторопитесь, пока печатники не эвакуировались. Отпечатайте этот наказ как листовку.
– Ясно! Слушаюсь, товарищ генерал! – с готовностью ответил Реутов и положил письмо и многотиражку с наказом краснопресненских рабочих в планшет.
– А сейчас проедем к работницам Красной Пресни. – Командарм легко спустился с заградительного вала и направился к машине.
За ним еле успевали адъютант и полковник Реутов.
Шофер, как и было приказано командармом, обняв руль и положив голову на руки, крепко спал.
– Никола!.. Кончай ночевать! – громко проговорил генерал, открыв дверцу машины и положив руку на плечо шофера, с которого сон мгновенно сдуло как ветром. – Вон туда, к тому реденькому леску, где темнеет вал. Проведаем краснопресненских тружениц.
Не прошло и пяти минут, как генеральская эмка, печатавшая за собой темный след по первому, еще не слежавшемуся снежку, остановилась у земляной насыпи противотанкового рва, из которого виднелись головы и плечи работающих женщин.
– Девоньки!.. Пятиминутный перекур без дремоты! К нам едет ревизор! – скомандовала высокая осанистая женщина лет тридцати, одетая в мужскую фуфайку и подпоясанная широким солдатским ремнем. Воткнув в землю лопату, она поправила выбившуюся из-под платка русую прядь волос, упавшую ей на глаза, окинула взглядом всех, кто вместе с ней рыл противотанковый ров. – Всем наверх!
Не прошло и нескольких минут, как по опущенным в ров дощатым сходням, словно по команде, на вал поднялось столько женщин, одетых в фуфайки и грубые спецовки, из-под которых выглядывали цветные шерстяные кофты, что генерал даже смутился. Глядя в усталые лица женщин, молча идущих в его сторону, он почувствовал, что ему предстоит нелегкий разговор. В глазах каждой застыл вопрос, не раз заданный пожилыми крестьянками деревень Белоруссии и Смоленщины, которые с боями пришлось оставлять врагу. В эти глаза тяжело было смотреть. Все скопилось во взглядах этих глаз: упрек, горечь, жалоба и мольба… И вера – этот спасительный островок, который придает человеку силы даже тогда, когда начинает колебаться надежда.
Первой подошла к командарму та высокая и статная, что подала команду на отдых. Было по всему видно, что она здесь старшая. На ее резиновые сапоги налипли ошметки красной глины. В ее суровом и мужественном облике и осанке угадывался характер непреклонный и решительный.
– Здравствуйте, дорогие женщины! – поприветствовал генерал обтекающих его полукружием женщин. Многие из них были совсем еще молоденькие, лет семнадцати – двадцати.







