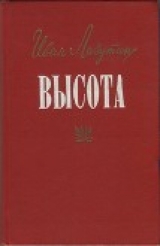
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Пошла вторая неделя, как Григорий Казаринов находился дома. Для полного выздоровления, как сказал выписавший его лечащий врач-хирург, потребуется не меньше двух-трех месяцев. Так что уже начавшуюся звонкую мартовскую капель и первые апрельские лужи ему предстояло наблюдать из окна дедовского кабинета или сидя на лавочке в тихом дворике, чисто убранном Захаром Даниловичем. А дальше – что скажет медицинская комиссия. Левая нога с перебитой костью стала заметно короче правой. Из санитарной госпитальной машины, доставившей Григория домой, он, гремя костылями, вылез с трудом. Перед тем как покинуть госпиталь, Григорий позвонил Данилычу и сказал, что приедет домой где-то между двенадцатью и часом. Нужно было видеть лица стариков и их внучат (Василек по этому случаю отпросился с последних уроков), чтобы понять, каким счастьем и радостью переполнены их сердца. Сержант-шофер открыл дверцу санитарной машины и подал Григорию руку.
Лукинична ради такого случая из сэкономленной, полученной по карточкам муки напекла пирожков с морковью и капустой. У Кузьмы Даниловича нашлась ради этого светлого дня четвертинка водки.
Первые три дня Григорий расхаживал по квартире на костылях, чем вызывал на лицах Тарасика и Василька жалостливое выражение. Потом они пообвыкли и стали лихо играть с Григорием в домино.
После школы Василек прибегал запыхавшийся, с пунцовыми щеками. Григорий проверял его тетради, заглядывал в дневник и всякий раз находил слова похвалы, от которых у ребенка от радости замирало сердце. Поиграв часа два на улице с Тарасиком, он садился за уроки.
Лукинична в Григории души не чаяла. Питались сообща, за одним столом. Сухой паек, который Казаринов получал по лейтенантскому аттестату как находящийся на излечении, был не просто подспорьем для общего семейного котла. Он сделался, по словам Захара Даниловича, «коренником», а продукты, получаемые по карточкам стариками и их внучатами, он окрестил «пристяжными».
На четвертый день пребывания дома Григорий поставил своих «деревянных коней» за высокий книжный шкаф в дедовском кабинете. Кабинет стал его гнездом, откуда он выходил поразмяться на кухню. Попросил Василька достать с антресолей трость, подаренную деду кем-то из его кавказских друзей, к которым он последние годы ездил почти каждую осень. Переход с костылей на трость радовал и Григория, и стариков, и внучат.
Письма от Галины были перечитаны десятки раз. Как-то вечером, разбирая коллекцию картин деда, упакованную, очевидно, на случай эвакуации в кованый сундук, он наткнулся на копию «Сикстинской мадонны» Рафаэля. При первом же взгляде на картину она словно обожгла его. Все, что скопилось в сердце Григория и в его воображении, соединившись в образах Галины и сына, которого он еще не видел, вдруг мгновенно осветилось каким-то новым, незнакомым светом. Эту копию академик Казаринов привез из Дрездена, когда Гриша пошел в первый класс. Дедушка не раз показывал копию картины друзьям и знакомым, и у всех она вызывала непонятный ему восторг.
Теперь же Григорий как завороженный смотрел на творение Рафаэля. А в голове билась мысль: «Галина жива… Она здорова… у нас родился сын, названный в честь прадеда Дмитрием». Иногда наступали минуты, когда Григорию вдруг начинало казаться, что с картины на него смотрит не мадонна Мария, во взгляде которой затаилось предчувствие неизбежной трагедии ее сына, а Галина. И ему становилось страшно. Он закрывал глаза и, стараясь прогнать галлюцинации, порывисто вставал с дивана и, опираясь на тяжелую самшитовую трость, ходил по кабинету. Какими-то чужеродными казались Григорию коленопреклоненные у ног Марии фигуры римского папы Сикста и святой Варвары. Не видел он лиц задумчиво смотревших вверх двух ангелочков. Он видел только загадочный в своем недобром предчувствии лик Марии и ее сына Христа, в недетском выражении глаз которого уже таилась предначертанная судьбой трагедия. В эти минуты Григорию становилось страшно, и он задергивал картину широкой оконной портьерой.
Все телефонные звонки Григория в управление кадров наркомата обороны с целью каким-то образом связаться со штабом руководства партизанским движением на оккупированной территории страны оказались безрезультатными. Ответы были короткие: по телефону таких справок не даем. А неделю назад в записной книжке деда Григорий обнаружил домашний телефон начальника Военно-воздушных сил Московского военного округа генерала Сбоева, с покойным отцом которого академик Казаринов дружил еще в молодости. Потом эта дружба перешла на следующее поколение двух семейств. В тридцатые годы дед не раз ездил с майором, а потом уже подполковником и полковником Сбоевым на рыбалку и на охоту. Оба были заядлыми охотниками и рыбаками, и эта страсть, несмотря на большую разницу в летах, сближала их настолько, что иногда Григорий даже удивлялся. Совершенно разные по положению и возрасту люди: академик-физик и первоклассный летчик-истребитель, в котором жили три страсти: небо, охота и рыбалка.
Три дня подряд по нескольку раз набирал Григории телефон генерала Сбоева, но из трубки по-прежнему неслись ровные длинные гудки зуммера. Пробовал дозвониться до штаба ВВС Московского военного округа, но и эти звонки оказались безрезультатными: «Таких справок не даем». Григорий уже начал терять надежду дозвониться до генерала. А временами в голове возникала тревожная мысль: «Ведь он летчик… А сколько их уже погибло…» И все-таки Григорий упорно звонил. Звонил рано утром, звонил днем, звонил вечером. Несколько раз звонил даже ночью. Но трубку никто не поднимал.
И вот как-то под вечер в телефонной трубке послышался бархатный басок:
– Я вас слушаю.
Задыхаясь от волнения, Григорий представился генералу и, сбивчиво отвечая на его вопросы, стал рассказывать о письмах Галины, о том, что она жива и что партизанский отряд, в котором она находится, дислоцируется в смоленских лесах и носит имя героя гражданской войны с фамилией из четырех букв…
– Отряд имени Щорса? Чем я могу помочь, Гриша?
От этого сердечно сказанного «Гриша» Григорий разволновался.
– Владимир Николаевич! – Перехватившие горло спазмы душили Григория. – Ведь она не одна… У нас родился сын…
– Я знал об этом еще в октябре… Мы с твоим покойным дедом об этом узнали первые… Она еще там? Ее с сыном еще не перебросили на Большую землю? Как ты-то?.. Где сейчас?
– Владимир Николаевич!.. Я сейчас дома… Два месяца лежал в госпитале в Лефортово, а сейчас нахожусь на долечивании дома.
– Куда тебя?..
– В ногу, ниже колена… Думаю, все обойдется. Сейчас все мои мысли о жене и сыне. Помогите их вырвать оттуда.
– Хорошо, дружище, что-нибудь придумаю. Постараюсь, Сейчас ты меня застал случайно, буквально на пороге. У подъезда ждет машина. Больше говорить не могу. На следующей неделе, если все будет нормально, навещу тебя. Поговорим по душам. Вспомним деда. А сейчас до свидания, дружище, поправляйся. У тебя в жизни все впереди. Поздравляю с сыном. Обнимаю…
После разговора с генералом Григорий не находил себе места. Стуча тяжелой самшитовой палкой о паркет, он, высоко подняв голову, ходил из комнаты в комнату, и это его волнение остро чувствовали не только Захар Данилович и Лукинична, но и Тараска с Васильком. Все чувствовали, что в жизни Григория произошло что-то очень важное. Лукинична, когда Григорий, войдя на кухню, замер на месте с туманной улыбкой на лице, не удержалась и спросила:
– Что-то у вас, Григорий Ларионыч, на душе тревожно, может, помочь чем?
– Вы угадали, Лукинична. Я говорил по телефону с одним генералом, другом деда. Он большой начальник, командует летчиками всей Москвы. Обещал помочь вывезти из смоленских лесов жену и сына. Вот и жжет меня эта новость.
Лукинична перекрестилась перед образами, повернулась к Григорию и как-то отчужденно сказала:
– Завтра утром пойду к обедне, помолюсь господу богу, чтобы помог он соединиться тебе с твоей супругой и младенцем.
А сегодня, вернувшись из Елоховского собора, Лукинична протянула Григорию треугольник письма со штемпелями полевой почты и военной цензуры.
По размашистому почерку и росписи с буквами-загогулинами Григорий сразу понял, что письмо от Иванникова. А вот город Новосибирск, обозначенный в обратном адресе, насторожил. «Наверное, в госпитале», – шевельнулась в голове Григория тревожная мысль.
Иванников писал:
«Дорогой Григорий Илларионович!
Это письмо пишет Вам Ваш верный солдат Петр Иванников. Во-первых, сообщаю, что война для меня и «Одессы» закончилась в боях за деревню Акулово Нарофоминского района. Четверо суток подряд, днем и ночью, шли за эту деревеньку такие бои, что сравниться с ними могут только бои за деревни Шевардино, Семеновское, Бородино, Утицы и Артемки, где наш 12-й разведбатальон бросался в самое пекло. И вот сейчас мы с «Одессой» находимся на излечении в госпитале в Новосибирске. Я, потомственный в пятом колене кузнец, потерял левую руку выше локтя. Известный всей Одессе футболист и чечеточник Витарский лишился правой ноги выше колена. Так что задумке нашей поднять флаг прославленной хасановской дивизии над имперской канцелярией Гитлера помешал разорвавшийся между нами снаряд, когда наша разведрота с остатками батальона 17-го стрелкового полка пошла в контратаку за деревню Акулово, которая нам и немцам стоила большой крови.
Когда прощались с Вакулой и остальными ребятами, они поклялись, что знамя дивизии донесут до Берлина.
Мы с «Одессой» ходим друг у друга в ординарцах. Он мне сворачивает самокрутки, я у него на побегушках.
Врачи говорят, что месяца полтора нас здесь еще пролечат. «Одесса» не торопится по двум причинам: во-первых, в Одессе немцы, а во-вторых, вспыхнул тут у него такой роман с одной артисточкой, что засыпает он только после двух таблеток снотворного. А все дело в том, что в Новосибирск эвакуирован ленинградский Драматический театр. Спектакли дают в местном областном театре «Красный факел». Артисты театра шефствуют над нашим госпиталем. Часто бывают у нас в гостях, выступают, рассказывают о Ленинграде, прямо в палате разыгрывают сценки из своих спектаклей. А неделю назад в клубе госпиталя выступал сам Николай Черкасов. В зале не только сидели в креслах и в колясках. Некоторые, точно воробьи, устроились даже на подоконниках. После выступления Черкасов прошелся по палатам тяжелораненых.
В «Одессу» втюрилась молоденькая двадцатилетняя артистка из ленинградского театра, еще студентка, но уже играет в спектаклях небольшие роли. Ему, дьяволу, с его греческим лицом и кудрями Аполлона везет. Да и язык у него подвешен так, что может переговорить любого… А мне по этой линии явно не везет. Мои желтые конопатины на щеках и на носу скоро расцветут, как подсолнухи в огороде. А девки рыжих и конопатых не любят. Но ничего, как-нибудь проживем. «Одессе» после госпиталя ехать некуда. Зову его к себе в Рязань – не хочет. Артисточка хочет пристроить его в театре – на первый случай кассиром, потом в гримерную, ведь он, сатана, на все руки мастер и рисует здорово. Вот сейчас пишу Вам письмо, а он со своей Ларисой сидит в укромном уголке. Воркуют, как голуби.
Если разрешите, когда буду проезжать домой через Москву, на пару часов заеду к Вам.
Я уже писал Вам в госпиталь, что Егорушку Богрова немцы или убили, или взяли в плен. Из двенадцати человек во время крайне неудачного выхода за «языком» (немцы рано застукали нас и взяли в плотное кольцо огня на их полосе обороны) вырвалось только шестеро… Трое были тяжело ранены. Остальные ребята или полегли, или попали в плен. Меня хоть и задело в ногу, в икру, но я все-таки доковылял до наших окопов своим ходом. «Одессу» вынес на себе Вакула, которому здорово посекло лицо мелкими осколками. Спасибо, что глаза остались целы. От медсанбата Вакула отказался. Поклялся, что отомстит за тех, кто не вернулся с вылазки. Вы когда-нибудь видели Вакулу плачущим? Наверняка нет.
Желаю Вам, дорогой Григорий Илларионович, скорее полностью выздоравливать и вместе с нашей родной дивизией двигаться к логову врага – к Берлину.
Ваш Петр Иванников.»
Сунув письмо под подушку, Григорий откинул тяжелую бархатную портьеру, взял с подоконника копию «Сикстинской мадонны» и поставил ее в мягкое кресло, стоявшее рядом с диваном. Взгляд Марии завораживал. От страдальческого, беззащитного лика младенца Христа нельзя было оторвать глаз…
Сильно уставший от впечатлений прожитого дня, Григорий уснул быстро. Мозг его окутала липкая паутина сновидений. Снились атаки, бомбежки, гибель друзей-однополчан, не раз попадал к немцам в плен, отчего сразу просыпался с учащенно бьющимся сердцем, в холодном поту. И часто, очень часто снилась Галина.
Сегодняшний сон был соткан из тяжелейших эпизодов войны и дум, навеянных теми минутами и часами, когда он, словно забыв про все, сердцем врывался в мир страданий святой Марии и ее младенца-сына Христа.
Как это часто бывает во сне, мертвые не только оживают, они продолжают жить в новых ситуациях и неожиданных поступках. Альмень Хусаинов… Ведь он погиб еще 3 октября, заслонив Григория своим телом от автоматной очереди, когда вырывались из окружения. А сейчас Альмень улыбается своему командиру ослепительно светлой улыбкой и на слова Казаринова: «Альмень, ты же убит?» – отвечает: «А с кем же вы будете брать высоту, товарищ лейтенант?»
– Какую высоту? – удивился Казаринов.
– Как – какую?! Командарм Говоров приказал нашему двенадцатому разведбату взять высоту 73,15. Майор Корепанов погиб… Батальоном приказано командовать вам… Вон смотрите – даже Солдаткин пришел из-за Днепра. Оглянитесь… Посмотрите, сколько нас поднялось из могил, чтобы под вашей командой взять высоту!..
По спине Казаринова пробежал озноб. Он оглянулся назад, посмотрел по сторонам и увидел огромную рать. И все спешили к нему. В лицах некоторых он узнавал однополчан из своего полка, который погиб почти полностью, когда выходил из первого окружения. И вдруг откуда ни возьмись, словно из-под земли, перед ним выросли Иванников, Вакуленко и «Одесса». Казаринову стало не по себе. С развернутым знаменем полка к нему со стороны облетевшей рощицы, тяжело припадая на правую ногу, бежал сержант Николай Егорович Богров. Его поддерживал за руку его сын Егор и что-то говорил ему, в чем-то убеждал. Но слов Егора Григорий не слышал. Он никак не мог понять, какую высоту он должен брать в атаке и по чьему приказу он назначен командовать батальоном. В голове Казаринова все перемешалось. Он видел вокруг себя толпы вооруженных винтовками, автоматами и гранатами бойцов и сержантов, слышал их выкрики: «Лейтенант!.. Веди нас на высоту!.. Мы возьмем высоту!.. Веди нас!..» И вдруг… Что случилось?.. Почему он лежит на носилках и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, хотя в теле не чувствует никакой боли. И Григорий что есть мочи крикнул:
– Вакула!.. Иванников!.. Снимите меня с носилок!..
– Лежите, товарищ лейтенант! Вы смертельно ранены. Мы понесем вас под знаменем полка и похороним со всеми почестями на занятой высоте. Вы командуйте нами, и мы пойдем за вами на смерть!..
Эти слова сказал Иванников, а Вакуленко, видя, что Казаринов хочет приподняться, стал удерживать его:
– Лежите спокойно, лейтенант!.. Вам нельзя шевелиться, у вас навылет пробито сердце…
Только теперь, слегка приподняв голову, Казаринов увидел огромный поднимающийся к небу холм, на котором виднелись темные силуэты немецких танков и артиллерийских орудий. Пологие скаты холма были запружены немецкой пехотой и самоходками.
И Казаринову стало страшно. Страшно не за жизнь свою, которая вот-вот отлетит от него, а за то, что он еще никогда не командовал батальоном… А тут предстояла такая битва!.. Он выискивал глазами кого-нибудь из старших офицеров, чтобы посоветоваться, как лучше, правильнее начать атаку высоты, но поблизости никого из средних и старших командиров не видел.
И вдруг голос… До боли знакомый голос:
– Лейтенант Казаринов!.. Приказываю вам и вашему батальону взять высоту!..
«Неужели командарм?! Это его голос!.. Но где же он сам?»
И Казаринов крикнул в пространство:
– Я не вижу вас, товарищ генерал!.. Повторите свой приказ. Я не вижу вашего лица… Где вы?
И тут, словно чудо, рядом с носилками, на которых лежал Казаринов, будто сотканная из воздуха, появилась фигура генерала Говорова. Он молча опустился рядом с носилками на колени, снял с головы серую каракулевую шапку и поцеловал Казаринова в лоб. Потом командарм встал, надел шапку и, показав рукой в сторону огромного холма, запруженного немецкой пехотой и танками, громко и отчетливо, так, чтобы слышал весь батальон, скомандовал:
– Лейтенант Казаринов!.. Приказываю взять высоту! В атаку батальон поведут ваше простреленное сердце, знамя полка и святая Мария с младенцем на руках!..
Казаринова обуял страх, и он что было силы крикнул в сторону, откуда только что прозвучал голос командарма:
– Но зачем же Мария и ее сын-младенец?.. Они погибнут в огне атаки!
– Мария и ее сын не погибнут ни в каком огне! Они вечны! – послышался откуда-то сверху, точно с неба, голос командарма. – Выполняйте мой приказ!
И тут… О чудо!.. Рядом с развернутым знаменем полка Казаринов увидел на легком светлом облачке мадонну Марию с сыном на руках.
– Лейтенант Казаринов, ведите батальон в атаку!.. Вы смертельно ранены… Вам нужно успеть взять высоту! – твердо прозвучал голос генерала Говорова.
Казаринов почувствовал на своих щеках горячие слезы, приподнялся на носилках и крикнул что есть мочи:
– Батальон!.. За Родину!.. Вперед!..
И тут все двинулось, все заходило, все закружилось… Казаринов видел силуэты бегущих на высоту людей с автоматами, стреляющих на ходу, видел лицо Иванникова, который нес носилки и что-то кричал, а что – разобрать было трудно. А когда Григорий поворачивал голову туда, куда двигался атакующий батальон, в сторону высоты, то видел только вспышки орудийных выстрелов немцев, видел знамя полка которое нес Егор Богров, а рядом со знаменем на светлом невесомом облачке стояла с младенцем на руках Мария.
Атакующие цени батальона, теряя на бегу бойцов, поднимались все ближе и ближе к вершине высоты, на которой возвышалась огромная стела. Григорий даже не заметил, как и когда она появилась. Минуту назад ее на вершине не было. А склонившийся над изголовьем Григория Альмень Хусаинов сказал громко, так, чтоб слышали Иванников и Вакуленко, несущие носилки с Казариновым:
– Это памятник вам, товарищ лейтенант!.. Командарм приказал похоронить вас под этой стелой.
– Зачем же меня хоронить, ведь я еще жив, – проговорил Казаринов. – Я хочу жить!.. У меня родился сын!.. Мне нужно вырастить его… Скажите генералу, чтобы он не торопился хоронить меня…
– Но у вас же навылет прострелено сердце, – шептал Казаринову Альмень. – Об этом знает весь батальон. С простреленным сердцем люди не живут.
Григорий хотел что-то сказать Альменю, но не успел. От видения крови на голеньком плечике младенца Марии он содрогнулся и тут впервые почувствовал, что сердце в груди его еще стучит. Если оно и навылет прострелено, но оно все-таки работает, оно гонит кровь.
И Григорий что есть силы закричал, обращаясь к святой Марии:
– Мария, твой сын ранен!.. Опустись на землю, перевяжи ему плечо, он истекает кровью!..
Но Мария не расслышала слов лежащего на носилках Казаринова и все тем же тревожно-скорбным взглядом смотрела на него.
…А вершина высоты была все ближе и ближе. Кругом почему-то беззвучно рвались снаряды, поднимая в небо огненно-черные фонтаны. Развеваясь на ветру, во многих местах пробитое знамя полка касалось босых ног Марии. Вот уже новая струйка крови показалась на голеньком тельце младенца. В груди Григория простреленное навылет сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот совсем разорвется. И он опять закричал что было мочи:
– Мария!.. Если ты мать и тебе дорог твой сын, опустись на землю!.. Иначе твой сын погибнет!..
Услышав мольбу Казаринова о его спасении, сын Марии громко заплакал. Заплакал так, как плачут дети, когда им что-то причиняет боль. И этот крик младенца перевернул душу Григория.
– Я умоляю тебя, мадонна, спаси сына!..
И вдруг… Что бы это значило? В жалобный крик ребенка вмешался бой старинных часов, стоявших в кабинете деда. «Как они попали сюда, в цепи атакующего батальона? – вспыхнула в голове Григория мысль. – Ведь эти часы, сколько я себя помню, стоят в кабинете деда…» Но тут он почувствовал, что чьи-то сильные руки трясут его плечи. И голос Галины: «Гриша!.. Гриша, проснись…» И снова тугие удары сердца… И снова цепляющаяся за жизнь мысль: «Нет, мое сердце пробито не навылет… Оно работает… Командарм ошибся. Я должен жить!.. У меня есть сын, у меня есть любимая жена!.. Под этой стелой на вершине высоты меня не похоронят. Под ней похоронят тех, кто погибнет в атаке…»
Паутинка, которая соединяет явь и сновидение, рвется всегда неожиданно. С ее разрывом вспыхивающая реальная явь жизни как бы постепенно тушит отлетающие картины сновидений, вначале погружая их в туманную дымку, потом окончательно заволакивая и оставляя в памяти человека только мертвую схему образов.
Первое, что услышал Григорий, когда проснулся, но еще не открыл глаза и в зрительной памяти его еще не погас образ раненого младенца на руках Марии, – все тот же детский крик. Звонкий, пронзительный крик… Он открыл глаза, повернул голову в сторону детского плача и в первую минуту ничего не мог понять… Подумал: «Уж не схожу ли с ума?!»
Перед Григорием на коленях стояла Галина. Лицо ее было мокрым от слез. Она целовала руки мужа, лицо, глаза… И содрогалась в беззвучных рыданиях.
На письменном столе деда, завернутый в ватное одеяло, лежал Дмитрий Казаринов. Заходясь в звонком плаче, он заявлял о своем нраве на жизнь.
– Галя! Это ты?! – Поднявшись с дивана, Григорий испуганно смотрел в глаза жены. – Значит, плакал он, Дмитрий, а не Христос на руках Марин?!
– Гриша, ты, видимо, болен, – забеспокоилась Галина. – О каком Христе и о какой Марии ты говоришь?
Вместо ответа Григорий притянул к себе жену и с силой прижал к своей груди ее голову.
И, словно почувствовав прилив большого человеческого счастья, что жизнь посылает людям очень редко, ребенок затих.
– Я покормлю его, он голоден. – Вытирая рукой слезы, Галина поднялась с пола, подошла к столу, развернула ребенка и, опустившись в кресло перед Григорием, расстегнула две верхние пуговицы кофты.
Увидев, как сын его, хватаясь пальчиками за грудь матери, жадно припал ртом к соску, Григорий встал и, опираясь на тяжелую трость, замер перед Галиной и сыном.
– Ты о чем задумался, Гриша? – спросила Галина, не спуская счастливых глаз с мужа.
– Если бы Рафаэль дожил до наших дней, то быть бы тебе увековеченной в образе мадонны с сыном на руках.
– Ты видел сон, Гриша? Ты так метался.
– Да, я видел странный и вещий сон. С простреленным навылет сердцем я вел в атаку батальон на высоту, где мне уже была уготована стела, под которой меня должны были похоронить как героя. Но я так хотел жить!.. Ради тебя и ради сына.
– Но ведь тебя не похоронили? – пытаясь шуткой разрядить напряжение, еще живущее в душе Григория, спросила Галина.
– Меня не похоронили. Меня спас раненый младенец святой Марии. – И тут же добавил: – Нет, меня спас не раненый сын Марии, меня спас наш проголодавшийся сын Дмитрий.
Опустившись на колени перед сидящей в кресле Галиной, Григорий бережно отнял от ее груди пухлую розовую ручку сына и поднес ее к вздрагивающим губам.
– Мы с тобой, сынок, возьмем еще не одну высоту! Мы ведь из рода Казариновых!..
Москва, 1984–1987 гг.








