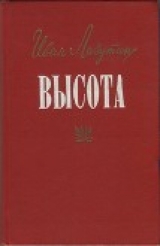
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Замоскворечье утонуло в кипенно-белых нетронутых сугробах. Редко можно было увидеть следы от санных полозьев там, где раньше, всего лишь прошлой зимой, с гиком проносились на взмыленных от лихой скачки рысаках извозчики, подвозившие к Третьяковской галерее любителей искусства и тех, кто, шикуя, нет-нет да и давал простор для разгула русской душе, рвущейся к цыганскому хору в ресторане «Балчуг» или к знаменитому «Гранд-отелю», под расписными старинными сводами которого прошумело столько веселых и драматических пиршеств. И казалось, что суровая военная зима 1941 года расплачивалась за вековое веселье рождественских и крещенских гульбищ старого Замоскворечья.
Много веселого и печального хранит в своей памяти старая Ордынка, по которой в семнадцатом году отряды красногвардейцев с разномастным оружием, а кто просто с каменьями шли от проходных завода Михельсона к Большому Каменному мосту, где, сливаясь с отрядами, идущими с Остоженки и Якиманки, короткими перебежками бросались мелкими группками навстречу картечным залпам юнкеров, засевших в Московском Кремле. Много светлых голов и горячих сердец полегло при этом штурме.
Хорошо помнит этот день и Анна Богрова. Давно это было, но память хранит самые мелкие подробности тех, теперь уже далеких дней ее молодости той осени семнадцатого года, с которой начался новый отсчет времени в судьбе России. Она, пятнадцатилетняя девчонка, тоже рвалась из дома к Каменному мосту посмотреть, как пойдут вооруженные отряды рабочих с Михельсона на штурм Кремля, но отец, по пути забежавший домой на всякий случай проститься с матерью, так посмотрел на нее, сказал несколько таких слов, что мать побожилась: «Вот те крест – не выпущу за порог». И мать сдержала обещание, не выпустила Аннушку за порог. В этот день она и сама не пошла на работу – кондитерская фабрика Эйнема, где она вместе с дочерью работала в шоколадном цехе, последнюю неделю бастовала.
С Николаем Богровым, рабочим гранатного цеха завода Михельсона, Анна познакомилась случайно, как, впрочем, случайными бывают почти все знакомства, одни из которых, как далекий просверк молнии в небе, не оставляют в человеческих душах даже малого следа, другие нежданно-негаданно завязывают две судьбы в такой мертвый узел, который развязывает своими костистыми руками только смерть.
Первый раз Анна встретилась взглядом со своим будущим благоверным в церкви, перед началом пасхального богослужения. Купив у прислуживающей в храме старушки две тоненькие свечки, Анна подошла к напольному бронзовому подсвечнику, прижгла свечку, поставила ее, а когда прижигала вторую, то что-то заставило ее поднять глаза. С этого мгновения, как она потом не раз вспоминала, сердце ее познало томящую сладкую тревогу. Большие, слегка удивленные серые глаза смотрели на нее в упор. Они словно восклицали: «Господи!.. Откуда ты взялась, такая хорошая?..» Он тоже ставил свечку, только его свечка была побольше и на копейку дороже. Потом Аннушка долго помнила, что ей в тот миг, когда они встретились взглядами, было стыдно за то, что она ставила самую дешевую свечку, какие покупали только нищие и бездомные.
Все богослужение она чувствовала на себе его взгляд и поэтому молилась без полной душевной отдачи, механически, про себя читая молитву. А когда заутреня кончилась, Анна, как всегда чувствуя душевное облегчение, вышла из церкви и, подав по копейке двум нищенкам, старалась подавить в душе своей смутную и доселе неведомую ей сладкую душевную истому. Вышла на Ордынку. Вдруг на пути ее, у дома купца Фетисова, неожиданно выросла высокая плечистая фигура. В церкви он был без фуражки, и в полумраке слабого освещения она не обратила внимания, во что он был одет: до того мимолетным оказался ее взгляд. Но это был он. Она узнала его по большим серым глазам и по улыбке, в которой теперь трепетало не удивление, а смущенная виноватость. И снова глаза их встретились.
– Христос воскрес, – мягко поклонившись, произнес он.
– Воистину воскрес, – еле слышно прошептала Анна и, опустив глаза, торопливо прошла мимо. Почти до самого дома, ускоряя шаг, она спиной чувствовала на себе его взгляд. И не ошиблась. Войдя в дом, кинулась к окну и тут же, чувствуя, как к щекам ее горячей волной прихлынула кровь, отпрянула от него. Он стоял на деревянном тротуаре с другой стороны Ордынки и взглядом скользил по окнам второго этажа. На первом этаже дома была керосиновая лавка и шорная мастерская.
А потом… Потом, уже после венчания, Николай признался, что вечерами, после работы, он часами подкарауливал ее, когда она вдвоем с матерью возвращалась с кондитерской фабрики. И очень досадовал, что они с матерью работают в одну смену.
И все-таки подкараулил. И снова была встреча в престольный праздник, в троицын день, когда сорок сороков церквей матушки-белокаменной с раннего утра, перед заутреней, затапливая столицу веселым праздничным перезвоном, бухали во все малые и большие колокола, и во всех соборах и храмах Москвы шла большая служба.
Как и в первый раз, в пасхальную службу, Анна молилась перед иконой богородицы. Он стоял в трех шагах от нее чуть сзади и справа. Она не видела его лица, не видела его больших рук, плавающих в молитвенных крестах перед лицом и грудью, но она сердцем чувствовала, что он не столько смотрит на образ богородицы, сколько на нее.
В тот же день в Нескучном саду, куда она с подружкой пошла кататься на карусели, он подошел к ней и поздравил с праздником. Домой, в Замоскворечье, они уже возвращались вдвоем. Смышленая подружка, сразу смекнув, что она – третья лишняя, после катания на карусели пожаловалась, что у нее кружится голова, и тут же незаметно, что-то шепнув на прощание Анне, растворилась в праздничной людской толчее.
Венчались перед рождеством, в той самой церкви, где впервые встретились их взгляды. Отец Анны не поскупился: зажгли большую двухсотсвечовую люстру, висевшую под центральным куполом храма, церковный хор пел в полном составе. От церкви до дома жениха ходу было не больше пяти минут, но нарушать свадебный обряд не посмели.
Серые орловские рысаки, впряженные в расписные сани, лихо прозвенели бубенцами по Ордынке. Завернутые в медвежьи полости молодые даже не успели прочувствовать всей прелести быстрой езды – осаженные извозчиком кони, всхрапывая, вскоре остановились у подъезда дома жениха.
Свадьба гремела до утра. Не умолкала гармонь, плясали чуть ли не до упаду гости, щедро кололись об пол горшки, со звоном разлетались по сторонам горсти лихо брошенных на пол серебряных монет, пьяно горланили в застолье «горько!». Потом молодых оставили одних… Сковали робость и страх перед первой брачной ночью…
Не заметила Анна, как вырос сын, как грянула проклятая война, которая в утробу свою втянула сразу обоих: мужа и сына. Но успела налюбоваться, когда они вместе возвращались с работы: оба рослые, у обоих плечи – косая сажень, оба сероглазые… А чуть позже заметила Анна, что и походка у обоих одинаковая, хоть и вразвалку, но твердая, даже каблуки ботинок стаптывают одинаково. Отцовская родинка на левой щеке, похожая на обожженную чечевицу, и та каким-то чудом, как бы расколовшись надвое, повторилась на левой щеке Егора.
Последнюю неделю Анна работала в ночную смену, домой возвращалась еще затемно, когда только начинали ходить первые трамваи. Взбежав на второй этаж, сразу же бросалась к почтовому ящику. Припадая лицом к прорези над донышком, жадно всматривалась в темень ящика – нет ли письма от сына или от самого, последняя весточка от которого была в августе. Ходили по Москве слухи, что все двенадцать дивизий народного ополчения, сформированные в первых числах июля, полегли где-то на Днепре. От Егора Анна получила треугольничек в середине октября. Почти половина строк была замалевана черной непроглядной тушью. Уж как ни вертела она его перед лампой и на дневном свету – ничего не было видно: чернила военной цензуры сработали надежно. Пришли два солдатских треугольника и в ноябре. Сколько раз перечитала их Анна – уже и счет потеряла. Все три письма хранила за створкой иконы богородицы, до того потемневшей от времени, что лик богородицы почти сливался с фоном.
Вот и сегодня: чуть ли не носом ткнувшись в почтовый ящик, Анна расслабленно, с протяжным вздохом отшатнулась от него и, прислушиваясь к учащенному биению сердца (почти бежала аж от Каменного моста), с минуту постояла. Комната за ночь настыла. Первый раз Анна не заклеила с осени окна. Раздевшись, прошла на кухню, где ее уже поджидала выплакавшая все свои слезы соседка Луша. Еще в августе получила она в один день сразу две похоронки: на мужа и на сына. Соседи думали, что тронулась умом Луща. Никого не узнавала, сама с собой разговаривала, открыв окно, часами, не шелохнувшись, сжавшись в напряженный комок, смотрела куда-то в одну точку, словно вот-вот кого-то должна была непременно увидеть. На кухне появлялась лишь затем, чтобы набрать в кастрюлю или в чайник воды, и, стараясь ни с кем не заговорить, не встретиться взглядом, бесшумно исчезала в своей комнате. В декабре Луша стала отвечать на приветствия соседей по квартире, а последнюю неделю как-то болезненно привязалась к Анне. Каждое утро, сидя на кухне, она ждала ее с работы. А сегодня даже вскипятила чайник и заварила кипятком терпко пахнущую душицу.
– Я тебе, Аннушка, чаечек сообразила, рязанской душицей заварила. Вот жду тебя, чтобы вместе почаевничать. У тебя или у меня будем?
– Да уж лучше у меня. Моя комната потеплее, твою-то, угловую, продувает с двух сторон. – Анна взяла с примуса кипящий чайник и направилась с ним в сторону узкого коридора, но вдруг ни с того ни с сего дорогу ей преградила Луша. На лице ее плавала глупая, бессмысленная улыбка. – Ты что-то хочешь мне сказать, Лушенька? – обращаясь словно к малолетнему дитяти, спросила Анна, всматриваясь в лицо соседки, на котором проступали признаки не то тихого помешательства, не то следы такой душевной депрессии, при которой люди иногда, вместо того чтобы плакать, бессмысленно нервно смеются.
– Пляши! – Луша достала из-за пазухи конверт и, поспешно отступив на шаг, завела руки за спину.
– Мне? – вопрос Анны прозвучал вздохом.
– А то кому же? По почерку догадалась – от Егорушки.
Анна, как слепая, протянула к соседке руки, но Луша, глупо хохотнув, отступила еще на два шага.
– Не спляшешь – не прочтешь, – продолжала паясничать Луша.
На щеках Анны выступили малиновые пятна. Почти бросив на лавку горячий чайник, она подступила к соседке:
– Да ты что, Луша? Разве такими вещами шутят?.. А ну, дай сейчас же, а то пущу в ход руки! – Эти слова и тон, каким они были сказаны, подействовали на Лушу.
– Да на, возьми… Тебе что… тебе хорошо, твой Егорушка пишет тебе, а мой Никитка теперь уже никогда мне не напишет… – И письмо не в руки дала, а как-то злобно бросила на лавку, на которой, сизовато паря носиком, стоял чайник.
Что-то нехорошее, зловеще-недоброе было на лице Луши, когда она, то и дело оглядываясь, уходила.
С замиранием сердца Анна прошла в свою комнату и, не садясь, как чужая, стоя у порожка, осторожно, чтобы нечаянно не порвать треугольник на сгибах, распечатала его.
Из тысячи почерков она узнала бы почерк сына. Не спутала бы его даже с почерком мужа, у которого угловатые закорючки на буквах «д», «з» и «у» перекочевали в почерк сына. Мировая криминалистика давно доказала, что всемогущие гены протаскивают через рубежи многих поколений не только признаки физиологической наследственности организма – к примеру, цвет волос, глаз, строение фигуры, а также очертания рта, рисунок ушной раковины, – но и такие повторы, как походка, улыбка, голос, почерк, привычки…
Сквозь мутную пелену неудержимо катящихся счастливых слез буквы строк струились и плыли перед глазами Анны.
«Здравствуй, дорогая мама! Я уже писал тебе, что я жив и здоров, что за шесть месяцев войны пришлось побывать в таких переделках, под таким огнем и в таких атаках, что иногда удивляюсь – уж не заговоренный ли я? Иванников (первый балагур и никогда не унывающий боец нашего взвода) объясняет все очень просто – за нас молятся наши матери и бабки.
Окопы наши на сегодняшний день проходят по окраине той деревни, где жила твоя двоюродная сестра тетя Груня. Я говорю «жила», а не «живет», потому что деревни этой уже нет, она сожжена немцами дотла, на ее месте стоят теперь закопченные русские печи с высокими трубами. Временами нет-нет да пробежит от печи к печи какая-нибудь ошалелая кошка. Не видно даже собак.
Как ты уже знаешь по газетам и сводкам Информбюро, мы сейчас перешли в наступление. Наш полк освободил за последние две недели около тридцати населенных пунктов. Правда, населенными их уже не назовешь, но земля под головешками – наша, родная.
Я уже писал тебе, мама, как мы расстались с отцом. Но написал очень кратко. Сейчас опишу подробнее. Это было шестого октября под Вязьмой. Наша часть (а с ней еще много других частей) попала в окружение. Командир части включил нас в группу выноса из окружения знамени полка. Нас в группе было десять человек. Из огненного мешка мы выходили лунной ночью. Стреляли в нас со всех сторон, а у нас было только личное оружие. Отца ранило в обе ноги, оба ранения оказались тяжелыми. Ранило его в тот самый момент, когда знамя полка было у меня на груди, под бортом шинели. Я попытался взять отца на руки, но у меня не хватило сил. За последний месяц в окружении все мы очень отощали и обессилели. Ты хорошо знаешь, мама, характер нашего отца. Не зря же в прошлую мировую войну он за храбрость и отвагу в боях с немцами получил из рук генерала Брусилова и самого царя два Георгиевских креста! Отец к тому же был моим командиром отделения. Он видел, что после того, как четверо из нашей десятки знаменосцев уже упали, сраженные пулями или осколками рвущихся вокруг нас снарядов, знамя находится у меня.
Последними его словами были: «Прощай, сынок… Выноси знамя к своим… Обо всем расскажи матери…»
Эти его слова преследуют меня. Стоит только прилечь и закрыть глаза, я вижу лицо отца, слышу его голос.
Знамя полка мы вынесли из ада, хотя меня неглубоко задела в левое бедро немецкая нуля. Но я обошелся без медсанбата. Недели две пришлось похромать. Сейчас от немецкого «поцелуя» остался небольшой шрам. Пока это первая отметина войны.
Поле, на котором мы простились с отцом, было усеяно телами наших убитых и раненых бойцов и командиров. Мы выходили из окружения. Партийный билет отец всегда носил в левом нагрудном кармане. Думаю, ты знаешь из газет, как относятся немцы к попавшим в плен комиссарам и коммунистам. А поэтому прошу тебя, мама, прими это скорбное мое письмо мужественно. Сохрани силы для того, чтобы дождаться в добром здравии меня в День Победы.
Если у тебя есть связь с тетей Груней и ее семейством – передай им, что за освобождение ее деревни полегло много наших ребят. Мы похоронили их в братской могиле в центре села, на площади, где, судя по фундаментам, была школа или сельсовет.
Целую твои морщинки у глаз, некоторые из них, как мне кажется, залегли из-за шалостей и проказ твоего неслуха и голубятника.
Говорят, сейчас в Москве очень плохо с дровами, а на улице стоят такие холода. Прошу тебя, мама, если дровяная клеть в нашей сараюшке стоит пустая – разбери мою голубятню. Начни с пола, он выложен из толстых досок, а потом переходи к стенам, они из сухих горбылей, должны гореть хорошо.
Мне пиши по адресу: на полевую почту, что обозначена на конверте.
Привет всем, кто меня помнит.
Еще раз целую и обнимаю – твой Егор».
Буквы в строчках расплывались, затуманивались. Душили, как нахлынувшая из-подо льда талая весенняя вода, беззвучные рыдания. Казалось, что после похоронки на мужа, полученной в конце октября, выплаканы были все слезы. Но нет… Слез у скорбящей матери хватит, чтобы затопить ими Вселенную.
Как и два предыдущих, Анна положила письмо в икону, одиноко висевшую почти под самым потолком в углу.
В комнате Егора все оставалось так же, как было в ней в начале июля, когда они, все трое, отдавая дань поверью, присели, с минуту помолчали и вышли из дома. Анна проводила Николая Егоровича и сына до пункта сбора ополченцев, где формирование дивизии шло уже больше двух дней. Егор даже не разобрал штангу и не стал задвигать под кровать двухпудовую гирю, с которой по утрам выходил во двор и на глазах у соседей, уже давно привыкших к его «утренней зарядке», до пота «играл» с гирей и штангой. После завтрака принимал холодный душ, до пылающей розовости растирал махровым полотенцем грудь, шею и руки, неторопливо надевал боксерские перчатки и подходил к подвешенной в углу комнаты груше. Николай Егорович и Анна знали, что сын уже третий год занимается в секции бокса в спортивном обществе «Спартак», не раз пытался отец отговорить его от «мордобойного» спорта, когда Егор приходил с тренировки с опухшим лицом и заплывшими глазами, по, видя, что слова его отскакивают как от стенки горох, плюнул на упрямство сына, а потом и вовсе угомонился. Жену успокоил очень просто: бокс убережет Егора от водки и от карт, чем начали баловаться некоторые его ровесники, живущие по соседству.
Первое время Анна никак не могла привыкнуть к глухим бухающим звукам, доносившимся из комнаты Егора. Ей все казалось, что сын колотит не свисающую с потолка набитую опилками грушу, а бьет живого человека. Воображение ее при этом дорисовывало картины, когда не только сын ее наносит сильные удары по груди и голове своего противника, но и вышедший с ним на поединок человек отвечает ему сильными ударами.
Однако все эти переживания за сына у нее улеглись, когда в прошлом году осенью она вместе с мужем была на финале розыгрыша первенства Москвы по боксу среди юниоров, где Егор занял первое место в тяжелом весе. Появление первых седых волос она объясняла одним – переживанием за сына в те пятнадцать минут, когда на ринге решался вопрос первенства Москвы. Она была готова вскочить с места, закричать во весь голос и броситься на канаты, когда противник Егора во втором раунде на последней минуте послал ее сына в нокдаун. Может, и кинулась бы, если бы не сидел рядом Николай Егорович, который так крепко сжал ей руку и так властно прижал ее к сиденью, что она даже тихонько вскрикнула. С ковра Егор поднялся, пошатываясь, на восьмой секунде. Последние минуты боя Анна не могла смотреть на ринг. Уронив голову в ладони, она сидела неподвижно до тех пор, пока ее не привели в чувство гром аплодисментов и летящие в сторону ринга возгласы: «Давай, Егор, давай!», «Прямой, правый!», «Переходи в ближний!..». Анна открыла глаза и в первые секунды ничего не могла понять: на ринге, почти у ног Егора, с трудом пытаясь подняться с коленей, стоял на четвереньках его противник. Взмахнув десять раз руками, судья свистком объявил об окончании боя и помог поверженному противнику Егора встать на ноги.
Болельщики «Спартака» неистово аплодировали и надрывно кричали, приветствуя победу Егора.
Потом сам Градополов, фамилия которого уже не раз слетала с языка Егора, вручил ему медаль чемпиона Москвы. Юркий фотокорреспондент какой-то газеты исщелкал чуть ли ни полпленки, снимая победителя чемпионата. Он даже попросил знаменитого тяжеловеса абсолютного чемпиона страны Николая Королева пройти на ринг и поздравить чемпиона-юниора с победой. Этот Снимок был особенно дорог Егору. Потом он висел над его письменным столом. Фотокорреспондент выбрал удачный ракурс: он щелкнул затвором в тот момент, когда Королев, пожимая руку чемпиона, левой по-братски обнял его и, широко улыбаясь, стал что-то говорить ему. И вот это «что-то» Николай Королев, которому корреспондент через три дня показал фотографию, выразил в дружеском автографе на обратной стороне: «Егор!.. Наши встречи с тобой не за горами. Готовься. Н. Королев».
Егор очень гордился этим автографом и в душе верил, что года через три-четыре будет удостоен чести встретиться с Николаем Королевым на ринге. Но от одной только этой дерзкой мысли им овладевал страх: под молниеносными прямыми ударами абсолютного чемпиона страны, получившего это звание в бою с тяжеловесом Виктором Михайловым, к ногам его в нокауте падали такие прославленные мастера кожаной перчатки, имена которых последнее десятилетие не сходили с уст болельщиков бокса. Чего стоили только победные встречи Королева со знаменитым тбилисцем Новосардовым.
Не могла Анна забыть и тот морозный январский вечер – это было почти два года назад, – когда раскрасневшийся Егорушка прибежал с очередного занятия в спортивной секции, не раздеваясь, почти у порога развернул газету «Красный спорт» и торопливо принялся читать статью мастеров спорта Николая Королева, Брауна и Ганыкина, в которой они обращались к мастерам спорта Советского Союза с призывом овладеть оборонными профессиями. Королев для Егора был кумиром. Потом отец спросил: кем же хочет стать Королев? Егор словно ждал этого вопроса.
– Королев?! Королев пошел в парашютисты! Ганыкин и Браун – тоже. Случись война – Королев, Браун и Ганыкин будут воздушными десантниками. Михайлов учится на танкиста. Щербаков пошел в подрывники. Да все, все они, папа, мастера и чемпионы! Все готовят себя для боев не только на ринге.
Анна достала из иконки письмо Егора, еще раз перечитала его, аккуратно сложила и подошла к письменному столу. Взгляд ее упал на фотографию в застекленной латунной рамочке, на которой Николай Королев поздравлял Егора с победой в чемпионате Москвы.
С фотографии, что висела правее фотографии сына, смотрел муж. Это фото, увеличенное до большого портрета, вот уже третий год висело на Доске почета завода. В волнении Анна потянулась к фотографии. «Коленька, неужели не увидимся?.. Неужели… Не верю, родной, но верю… Да как же это так?.. Зачем мне без тебя жить-то на этом свете? Для кого мне жить-то?..» Анна села на резной дубовый стул, стоявший рядом со столом. Этот кем-то выброшенный во двор стул с высокой спинкой Егор реставрировал сам, он приглянулся ему старинной резьбой. И вдруг Анне вспомнилась последняя ночь, перед тем как мужу и сыну уйти на пункт формирования дивизии народного ополчения. Николай Егорович тогда долго ворочался, вздыхал, нервно гладил рукой волосатую грудь.
– Спи, милый, – прошептала Анна, прижимаясь лицом к плечу мужа.
– Не спится, Яснушка, думы точат. Как ты тут будешь одна, без нас… – Чувствуя, что Анна беззвучно плачет, Николай Егорович на ощупь провел по ее мокрому от слез лицу шершавой ладонью: – Ты вот что, Анна, слезы лучше прибереги. А сейчас слушай, что буду говорить. – С минуту он помолчал, гладя волосы жены, потом каким-то чужим голосом заговорил: – На войну иду, всяко может быть, кому – орел, а кому – решка. – И замолк.
– Ты про чо это?
– А про то, что кресты мои Георгиевские не вздумай выбрасывать, если не вернусь. Хоть время сейчас смутное и нет никакой уверенности, что не прокатится еще раз чугунный каток тридцать седьмого и тридцать восьмого годов, награды мои царские все равно сохрани. Если, бог даст, будут у тебя внуки и правнуки, расскажи им, что кресты эти дед заслужил в сражениях за Россию. Один крест повесил на грудь генерал Брусилов, другой – сам царь. Так и скажи. А они пусть об этом расскажут своим детям и внукам. Не хочу уходить, как вода в песок. Я за Россию и за кресты эти три раза кровушку пролил. Поняла?
– Поняла, милый, – сотрясаясь в беззвучных рыданиях, прошептала Анна.
– Ну а теперь давай спать. Завтра проводишь нас.
Этот тяжелый ночной разговор, после которого Анна долго не могла уснуть, ни с того ни с сего вспомнился ей, когда она, сняв со стены портрет мужа, смахнула с него байковой тряпицей еле заметную туманную пленку пыли. И зачем-то полезла в старый, еще времен покойной бабушки, кованый сундук, задвинутый под кровать. В этом сундуке на самом дне, под кипами слежавшегося с годами приданого Анны, лежали Георгиевские кресты мужа и документы на них с царскими гербами. Первый раз видела она награды мужа на груди его в день свадьбы. И потом еще как-то раз, когда Егорушка уже пошел в школу. Она сушила и пересыпала нафталином свое приданое. Повертела тогда в руках Георгиевские кресты мужа, так и не поняв, почему он прячет их в сундук и просит, чтобы забыла про его военные награды. На вопрос Анны: «Что в них особенного?» – Николай Егорович долго смотрел жене в глаза и, видя, что многого она в жизни еще не понимает и еще долго не поймет при своей светлой воре в доброту и совестливость людей, холодно ответил:
– Когда на висках блеснет седина – объясню. А сейчас – положи их на место и забудь, что они там лежат. Егорке о них – ни слова.
Анна положила кресты на подушку и, рассеянно глядя на них, задумалась. На фоне белого сатина наволочки черно-желтые полоски муаровой ленты колодок крестов являли собой печальную церковную торжественность.
Стук в дверь заставил Анну вздрогнуть. «Кому бы это?» – подумала она, пряча письмо и кресты за пазуху.
– Войдите!.. – крикнула Анна.
В дверном проеме показалось бледное лицо Луши. Под большими черными глазами ее залегли темные тени. Бесцветные тонкие губы ее вздрагивали.
– Аннушка! Ты слышала, что муж Серафимы Петровны прислал из госпиталя письмо? Пишет, что при выходе из окружения был тяжело ранен, но свои вынесли его и отправили в госпиталь. Сейчас на излечении в Новосибирске. Сулится через месяц приехать. В это можно поверить?
– А почему же нельзя, Лушенька?
– Так ведь на него еще в августе пришла похоронка. В августе.
Анна поняла, каких слов ждет от нее Луша. И слова эти нашлись у нее.
– Эх, Лушенька! Война-то идет вон какая великая. Аж от Белого моря и до Черного. Сколько в ней всего перепутано. Думаешь, у одной Серафимы Петровны похоронили живого мужа?
– Ну а ты-то как думаешь? – тянула за душу Луша.
– Что – как?
– У тебя-то есть хоть маленькая надежда, что Николай Егорович жив, что не мог такой человек, как он, пропасть без вести? Может быть, как у Серафимы Петровны, что-нибудь напутали, ошиблись?
Анна вздохнула и теперь уже не как ложь в утешение, а по зову сердца, глядя Луше в глаза, проговорила:
– Ты меня хоть убей, а я верю, что мой Николай Егорович жив! Сердце мое чует, сны мне снятся вещие. Жив он. Трудно ему, но он жив.
Щеки Луши обдало жаром, в глазах вспыхнул нездоровый блеск, ноздри до белизны напряглись. С тонких, вытянутых в одну полоску губ слова слетали, как заклинания:
– Я тоже, Аннушка!.. Я тоже верю, что мои живы… – Луша говорила торопливо, оглядываясь по сторонам. – И мне… Мне тоже сны вещают, что мои живы. За что же нам такое наказание? Чем мы с тобой согрешили?.. Господи!.. Да за какие такие грехи я заслужила такую кару?..
На глазах Луши блестели слезы.
– Иди, Лушенька, отдохни. Ведь ты сегодня тоже в ночной работала. Да и я с ног валюсь.
Луша, не спуская широко раскрытых глаз с Анны, медленно закрыла за собой дверь. Анна долго еще прислушивалась к ее затихающим в гулком коридоре шагам, потом, закрыв дверь на крючок, опустилась на колени перед старым кованым сундуком, аккуратно положила на самое дно холщовый сверток с Георгиевскими крестами и документами на них.
Подошла к столу и, глядя на портрет мужа, про себя, как молитву, как заклинание, твердила: «Никому не верю!.. Ни бумажке военкомата, ни письму сына… Ты живой, я обязательно дождусь тебя…»







