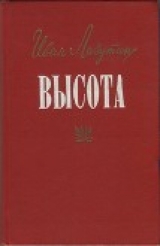
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Последним могилу академика Казаринова покидал Григорий. Новодевичье кладбище, где он не раз бывал и раньше, было неузнаваемо под пеленой рано выпавшего в этом году снега. Рядом с могилой деда темнели еще два свежих холмика, на которых лежали скромные венки из искусственных цветов. В одной из могил, судя по надписи на ленте, был похоронен генерал. Хотя духовой оркестр вместе со взводом солдат, давших над могилой троекратный залп, давно уже оставил кладбище, в ушах Григория еще долго звучала надрывающая душу траурная мелодия Шопена. А когда академик Воронов произносил над гробом покойного прощальную речь, Григорий почувствовал, что по щекам его потекли слезы. С академиком Вороновым дед дружил с молодости, когда они были еще студентами Московского университета. Давно это было, в царские времена. И дружбу эту пронесли через всю жизнь. Точно сквозь сон доносились до слуха Григория горькие прощальные слова выступавших на траурной панихиде. Выступали ученые, выступал представитель от Президиума Верховного Совета СССР, взволнованные слова прощания произнес секретарь парткома завода, где академик Казаринов выдвигался кандидатом в депутаты Верховного Совета…
Взволнованный, Григорий ехал в Первую градскую больницу, куда «скорая» увезла Фросю. «Надежд на восстановление речи и двигательных функций почти никаких…» – вспомнились слова уже немолодого, но как чувствовалось по категоричности его диагноза, опытного врача со «скорой».
До Большой Калужской с кладбища добирался больше часа. Москву не узнавал. Не такой она была, когда он видел ее последний раз, проезжая после окончания военного училища транзитным пассажиром к месту назначения в Белорусский военный округ. Не такой была Москва с того самого времени, как он помнит себя. Куда только делись ее ярмарочно-веселая суета и неугомонная толкотня, придававшие древней столице неповторимую атмосферу какой-то предпраздничной приподнятости. Снег на булыжной мостовой Большой Калужской был превращен колесами машин и телег в грязное жидкое месиво, бумажные кресты на стеклах окон наводили уныние. И где пестрота женской одежды, пожалуй свойственная только Москве, в которую, сколько она стоит, как в океан впадают реки и ручейки, текут разноплеменные и разноязыкие народы, внося свой национальный колорит? Теперь на всем лежал неистребимый пепельно-серый налет: шинели, бушлаты, фуфайки, грязные кирзовые сапоги, солдатские обмотки, потертые плисовые жакеты на женщинах, глухо, до самых бровей, кутающих головы в старые, выцветшие платки… Холодно, сыро, серо, зябко…
Во дворе Первой градской больницы стояло несколько военных санитарных машин с крестами на боках: нетрудно было догадаться, кого они и откуда привезли. Линия фронта приближалась к Москве.
Палата, где лежала Фрося, была забита такими же, как и она, несчастными, тяжело больными женщинами. Лавируя между рядами коек, Григорий протиснулся к Фросе. Хотя дежурный врач и предупредил его в ординаторской, что изменений никаких нет и вряд ли можно ожидать, все-таки он не предполагал, что посещение это произведет на него такое угнетающее впечатление. Фрося его не узнала. Взгляд широко открытых глаз, удивленно смотревших на него в упор, не подавал никаких надежд.
– Няня, вы меня узнаете? – осторожно спросил Григорий, склонившись над изголовьем больной.
На лице Фроси – по-прежнему маска. Попытка что-то произнести в ответ на вопрос Григория вылилась в нечленораздельный горловой клёкот. Подошедший врач присел на соседней койке. Видя тщетные старания Григория, безнадежно махнул рукой:
– Все напрасно. Степень поражения мозговых центров необратима, так что век свой ей придется доживать в таком состоянии. Больную смотрел профессор Коровин. Ему сказали, что это родственница академика Казаринова. Профессор хорошо знал вашего деда, бывал в вашем доме. Однако сделать ничего нельзя.
Из больницы Григорий вышел в таком состоянии, словно на плечи ему взвалили тяжеленные мешки с песком. Предчувствовал, что видел Фросю последний раз. На больничном дворе уже стояли новые машины, из которых санитары выносили на носилках новых раненых. Григорий пошел узкой аллейкой и присел в глубине двора на скамью. Закурил. Никогда у него не было такого тяжелого чувства: никто не ждал его дома, никому не было до него дела во всей Москве. И каким-то вторым планом наплывало: он непременно должен сделать что-то очень важное. В его распоряжении оставался всего-навсего один завтрашний день. Послезавтра рано утром он должен прибыть в полк. В квартире деда остались его архив, огромная библиотека, ценности, документы… Все это нужно кому-то передать на хранение, а то, что представляет чисто научную ценность, сдать в архив Академии наук. Но кто этим будет заниматься? Успеет ли он все это сделать за один день? Что касается библиотеки и ценных вещей, то этот вопрос волновал Григория меньше всего. Было только обидно, что все это могут растащить. Но кому?.. Кому все это передать на хранение? В Москве у Казариновых родственников нет. Вчера попытался созвониться с генералом Сбоевым, но какой-то незнакомый надломленный женский голос ответил, что генерала в Москве нет, а где он и когда будет – неизвестно. И какое надо иметь сердце, чтобы в один день выдержать три таких удара: известие о смерти жены, ужасная безвременная смерть деда и безнадежное состояние Фроси, которая с пеленок вынянчила Григория на своих руках и отдала семье Казариновых все свои душевные и физические силы.
У выезда со двора Григорий дал знак шоферу проезжавшей мимо санитарной машины, чтобы тот остановился.
– Дружок, куда путь держишь? – спросил Григорий, отбросив уставные формальности военного человека.
– Можайск, – с улыбкой ответил сержант.
– Подбрось до Сивцева Вражка, это недалеко. И даже по пути.
– А где он, этот Сивцев Вражек? Я Москву знаю плохо. – Шофер распахнул дверцу кабины.
– Я покажу. – Григорий мигом залез в кабину. – А ты что, без командира?
– Почему без командира? – Шофер кивнул назад. – Мой командир трое суток глаз не смыкал. Пусть вздремнет чуток. Говорят, сон для здоровья, что масло коровье.
– А ты, сержант, шутник. Откуда родом-то? – Григорий протянул шоферу начатую пачку «Беломора»: – Кури. Московские, фабрики «Ява».
– Да я из-под Новосибирска. Служить же начал на Дальнем Востоке. А сейчас вот прибыли под Москву, на горячее дело.
– Когда прибыли-то?
– Да всего три дня назад, а уже делаю десятый рейс по госпиталям.
– Случайно, не из дивизии полковника Полосухина?
– Что, разве на лбу написано? – с подозрением спросил сержант, которому этот вопрос сразу не понравился. Еще в поезде личный состав полков хасановской дивизии был строго предупрежден, что при разговоре с незнакомыми лицами следует держать язык за зубами.
– Насчет лба я тебе ничего не скажу, ну а если ты из нашей тридцать второй, хасановской, то мы с тобой однополчане.
– Из какого полка? – сразу оживился шофер, искоса метнув взгляд на лейтенанта.
– Я из разведроты дивизии.
– А кто у нас начальник штаба дивизии? Фамилию знаете? – Шофер снова как бы перечеркнул взглядом Казаринова: хотел убедиться – свой ли?
– Полковник Васильев. Успокоился?
– Иначе нельзя, товарищ лейтенант. Сами же велите нам держать язык за зубами, а ушки на макушке.
– Молодец, ничего не скажешь.
Когда, обогнав колонну военных грузовиков, выехали с Якиманки и въехали на Каменный мост, у Григория защемило сердце. Еще недавно предзакатное солнце оранжево-золотистыми слитками полыхало на куполах Кремлевских соборов. А сейчас… На всем лежала печать маскировки…
– Кремль!.. – У шофера при виде этой картины аж дух захватило. – Вон он какой!.. Когда сюда ехал – не разглядел.
– Что, первый раз видишь?
– Первый.
– А говоришь, уже дал десять рейсов с ранеными?
– Другой дорогой ездили, и все больше ночью. Что, и мимо Мавзолея поедем?
– Мимо Мавзолея нельзя, да и не по пути нам, поедем по Арбату. А после того как высадишь меня – по Бородинскому мосту прямо на Большую Дорогомиловскую.
– Эту улицу я знаю. Мне бы только на нее выбраться. – Шофер, чтобы не молчать, говорил, а сам время от времени все поглядывал на Кремль.
– Это тот самый Арбат, по которому Наполеон в Кремль входил? – никак не мог успокоиться шофер.
– Тот самый.
– Скажите мне, когда по нему поедем.
– Обязательно.
До Арбата ехали молча.
– Вот и Арбат, – вздохнул Григорий, махнув рукой перед собой.
– Узенький.
Перед театром Вахтангова Григорий попросил шофера остановиться.
– Как твоя фамилия? – спросил Григорий, стоя на крыле машины. – Из какого полка?
– Я из медсанбата. Оладушкин моя фамилия.
– С курса сбивать тебя не буду, а то, чего доброго, запутаешься в этих московских переулках. Дойду пешком. – Перед тем как захлопнуть дверцу кабины, Казаринов достал из кармана полупустую пачку «Беломора» и протянул ее сержанту: – Возьми, пригодится. – И уже стоя на земле попросил: – Прошу тебя, Оладушкин, передай командиру своего батальона, что видел лейтенанта Казаринова из разведроты дивизии. Запомни – лейтенанта Казаринова.
– А что ему сказать?
– Скажи, что деда своего, академика Казаринова, я похоронил сегодня утром. Завтра поздно вечером или послезавтра прибуду в дивизию. Нужно сделать кое-какие неотложные дела, связанные со смертью деда. Какие – они сами догадаются. – С этими словами Казаринов захлопнул дверцу кабины и свернул в тихий безлюдный переулок.
Когда-то, в дни далекого детства, за которым легла непроходимая пропасть войны, этот чистенький переулок с утра до вечера звенел детскими голосами, в тихих двориках после первого же снега дыбились ледяные горки, усыпанные вездесущей детворой. Теперь жизнь словно замерла. По своему внутреннему напряжению она чем-то напоминала могучий волчий капкан, легкое прикосновение к которому грозило смертельным защелком стальных зубчатых полуобручей.
У арки дома, ведущей в тихий арбатский дворик, Григорий остановился. Стал разглядывать старинную лепнину фасада, на которую раньше не обращал внимания. Горельефы львиных морд показались ему таящими в себе выражение усталости и одновременно какой-то отрешенности.
Григорий вошел во двор, где сделал первые робкие шаги и где под старыми липами Фрося возила его в коляске. Покойная бабушка ревностно следила из окна, чтобы Фрося не перегрела внука на солнце. А вот теперь нет давно бабушки, нет хлопотуньи няни, души не чаявшей в своем питомце.
В глаза Григорию бросилась трогательная картина: бородатый старик, которого он видел, возвращаясь из морга, лепил снегурочку. Около него, шмыгая носом, крутился мальчуган лет пяти-шести. На старике была залатанная на локтях и на спине старая стеганка, подпоясанная брезентовым солдатским ремнем. Головки кирзовых сапог были жирно смазаны дегтем. Туловище снегурочки уже слепили, старик катал комок для головы. На снегу лежали угольки и морковка. «Для носа, для глаз и для рта», – подумал Григорий.
Григорий подошел к старику, поздоровался. Мальчуган, робея, прижался к деду и исподлобья волчонком глядел на подошедшего незнакомого человека в шинели.
– Мое почтение. – Старик тронул шапку и слегка поклонился.
– Новый жилец в нашем доме? Или гость? – начал разговор Григорий.
– Считайте жильцом, если можно назвать мой котух домом. – Старик махнул рукой на сарай, в котором лет семь назад профессор-орнитолог, живший в одном доме с Казариновыми, держал редкие породы птиц.
После смерти профессора птицы были переданы в московский зоопарк, а утепленный птичник домоуправление использовало как подсобное помещение, где хранились пожарный инвентарь, метлы, лопаты, резиновые шланги и ведра.
– И он в сарае живет? – Григорий кивнул на мальчугана.
– После тех мытарств, что он хлебнул по дороге в Москву, этот сарай кажется ему курортом. Утеплили, есть печка, люди добрые рухлядь кое-какую подарили, так что перебиваемся.
– Вы-то как трудоустроены?
– Дворником я в вашем доме. – И чтобы не молчать, как-то извинительно спросил: – Похоронили деда?
– Похоронил, – вздохнул Григорий. – Только с кладбища.
Старик снял шапку и, вздохнув, перекрестился:
– Царство ему небесное. Хороший был человек. Жалел меня со старухой и сирот моих.
– Вы знали моего деда?
– Кто же его не знал? Э-эх, горе-то какое… Поехал вас повидать, а оно вон как повернулось. Весь дом горюет, по радио передавали, в «Правде» портрет напечатали.
– Как вас зовут?
– Меня зовут Захаром Данилы чем, из Белоруссии мы, беженцы.
Григорий смел со скамьи снег и присел.
– Меня зовут Григорием Илларионовичем. Присаживайтесь, Захар Данилович, поговорим. – Григорий кивнул на скамью.
Старик присел на корточки, поправил на мальчугане сползающую ему на глаза солдатскую шапку, застегнул верхний крючок шубейки и опустился на лавку.
– Поиграй один, Тарасик, мы с дяденькой поговорим.
Потекла неторопливая беседа. Старик время от времени вздыхал, рассказывал про свою тяжелую долю. Григорий смотрел себе под ноги, слушал. По некоторым из дорог, по которым Данилычу с женой и внуками пришлось уходить от лютого врага, сжигающего на своем пути все, что горело, пришлось пройти и Григорию, когда он с остатками своей поредевшей батареи отступал от самой границы.
– Я сызмальства в пастухах. Когда немцы подходили к нашим местам, по приказу районного начальства погнал колхозное стадо к Смоленску: думали, что немцы не дойдут до этого города. А оно вишь как получилось? Не токмо до Смоленска, аж до Москвы докатился. – Старик погладил седую бороду, протяжно вздохнул: – И сейчас по ночам снится этот гон. Жара, пыль, дороги забиты, а он то и дело бомбит, а то еще и из пулеметов косит. А беженцев!.. Тьма… Не приведи господь такое еще раз пережить. Гнал стадо обочиной.
– А как же внуки? Тоже за стадом шли?
Старик долго смотрел на свои пахнущие дегтем сапоги, потом провел ребром ладони по глазам, словно их чем-то запорошило.
– Дочка ехала на телеге. Бычок-трехлетка тянул. Хорош был бычок. А уж под самым Смоленском немец так налетел, что… – Горло старика перехватили спазмы. – Хорошо еще, что внуки со старухой шли со мной за стадом, а то бы и их вместе с дочкой…
– У вас двое внуков?
– Двое. Первенький во второй класс ходит, а этот еще несмышленыш. – Старик достал из кармана стеганки леденец и протянул его подбежавшему внуку: – Играй, Тарасик, играй.
Старик рассказал, что дочку похоронил у дороги, а телегу и бычка прямым попаданием бомбы разметало так, что из всех вещей осталось только два узелка.
– Хорошо, что добрые люди не дали сгибнуть, подвезли на машине до Вязьмы, а потом и до Москвы. Трое суток ютились на Белорусском вокзале. Но мир не без добрых людей. Милиция пригрела, дай бог ей здоровья, дали на время, пока тепло было, вот этот птичник, но я в нем сложил печку, утеплил как мог, сейчас обходимся. На жалованье поставили. Правда, вот с пропиской пока никак не выходит. У нас в белорусских деревнях люди живут безо всяких прописок и обходятся, а здесь, говорят, без прописки нельзя.
– Да-а… – протянул Григорий, – теперь в городах требуется прописка. – И, словно осененный какой-то невесть откуда пришедшей мыслью, повернулся к старику: – Можно посмотреть, как вы устроились?
Старик грустно улыбнулся:
– Дак что ж, можно. Только совестно показывать-то, Живем как цыгане, но ничего не сделаешь. А в наших местах, сказывают, люди разбежались по лесам, в землянках ютятся. А у нас свет в окне, на потолке висит электричество, и хлеб каждый день получаем такой выпечки, какой в землянке не выпекешь. – Дворник встал и показал рукой на лачугу с маленьким окном: – Прошу к нашему шалашу хлебать лапшу. Не найдется лапши – будем с бульбой хороши.
– Складно вы говорите, Захар Данилович.
– Вы уж извиняйте, вам сейчас не до складу, такое горе обрушилось на вас.
Крохотные, тускло освещенные сенцы были заставлены ведрами, широкими деревянными лопатами для чистки снега, резиновыми шлангами, в углу громоздилась до самого потолка поленница дров.
Лачуга дворника пахнула на Григория неистребимым запахом птичьего помета и керосина. У раскаленной до розовых кругов плиты хлопотала старуха. При виде незнакомого человека в военной форме она бросила тревожный взгляд на мужа, торопливо вытерла о фартук свои натруженные руки и, пересилив тревогу, улыбнулась. За столом, сбитым из досок и облицованным наполовину столешницы куском фанеры, сидел мальчишка лет девяти. Засунув в керамическую чернильницу-непроливашку ручку с пером, он тряс ее перед собой.
«Даже чернил нет», – подумал Григорий, окинув взглядом убогую обстановку лачуги. По стенам стояли два топчана, застланных выцветшими ватными одеялами, которые были сшиты из разноцветных лоскутов. Приход незнакомого военного насторожил и мальчишку.
Григорий поздоровался. Старуха ответила низким, суетливым поклоном.
– Сидайте. – Старуха смахнула с табуретки картофельные очистки, протерла ее тряпицей и пододвинула к столу.
– Привечай гостя, Лукинична. Внук Дмитрия Александровича, Григорий Ларионыч, только что похоронил деда. На кладбище, где лежат великие люди.
Лукинична затрясла головой, завздыхала, запричитала, стала вспоминать, каким хорошим человеком был академик Казаринов.
– Помогал нам, горемыкам, сироток наших жалел, денег на одежку давал, царство ему небесное… А уж Ефросинья Кузьминична – так вовсе святой человек, а вот как ее сразу сломало… – На вбитых в стену гвоздях висела детская одежда, старая серая шаль, солдатская шапка. Подо всем этим рядком выстроились на полу валенки, кирзовые сапоги. Тут же в фанерном ящике хранилась картошка, перемешанная со свеклой. На низенькой табуретке в углу стояло ведро с водой.
– Чайку не хотите? Правда, заварка у нас морковная, со смородиновым листочком, но душистая… – Лукинична подхватила с плиты оловянный чайник, из которого валил пар, поставила на стол.
– Нет, спасибо, мне сейчас не до чаев. – Григорий подошел к столу и запустил пятерню в волосы мальчугана: – Как зовут?
Мальчуган вскочил и, шмыгнув носом, ответил:
– Вася…
– Как отметки, Васек?
– Усякие.
– Что значит – усякие?
– Есть «хОры», есть «очхОры», бывают и «посы», но редко.
Как тонущий хватается за соломинку, так и Григорий в общении с мальчишкой-сиротой пытался облегчить свою душу. Смотрел на Васька и думал: «Неужели и у меня в эти годы на лице лежала такая же горькая печать круглого сиротства? Он и улыбается-то как-то не так, как улыбаются беззаботные, избалованные материнской лаской дети».
Пока Григорий занимался со старшим братом, младший, с леденцом за щекой, стоял за спиной деда и наблюдал за незнакомым человеком. Щеки его горели румянцем.
– Одевайся, Васек, пойдем ко мне в гости, подарю тебе ручку и, может быть, найдем чернила.
Мальчишка собрался быстро. Между ним и Григорием мгновенно возникла душевная близость. Большие синие глаза Васька светились радостью.
Когда шли по двору, Григорий заметил, что валенки на ногах Васька – разные по цвету и по размеру. Из пятки правого торчала солома.
– Васек, ты валенки-то разные надел… – Слабая улыбка пробежала по лицу Григория.
– Это бабушка виновата, поставила сушить и правый совсем сожгла.
Только теперь Григорий увидел, что следом за ними, посапывая, торопился младший братишка Васька Тарасик. Григорий остановился перед подъездом и присел на корточки:
– А тебя как звать, солдат?
Не ожидая такого вопроса, мальчуган, потупившись, боязливо отступил на шаг:
– Я не солдат… Солдаты немцы.
Григорий понял свою оплошность. «Кроха, а уже знает, кто такие немцы и что такое солдат».
– А кто же ты?
– Я Тарас.
– О, вон оно что!.. Тарас!.. Вырастешь большой – будешь атаманом Тарасом Бульбой!..
И это не поправилось мальчугану.
– Я бульбой не буду. Я буду летчиком!..
– Это хорошо, что будешь летчиком, тогда пойдем ко мне в гости.
Еще вчера Григорий узнал в домоуправлении, что все жильцы пятого подъезда, кроме его деда, выехали из Москвы еще в начале октября, а кое-кто покинул столицу в сентябре.
Лифт не работал. Поднимались на пятый этаж медленно, с двумя остановками на лестничных площадках. Пока поднимались, Григорий успел задать несколько вопросов Тарасику, на которые тот бойко отвечал. Однако даже общение с детьми не приносило облегчения. Мысль работала в одном направлении: по этой лестнице уже никогда больше не пройдет самый близкий и самый родной для него в целом мире человек – его дед академик Казаринов. Никогда не раздастся в гулком колодце подъезда звонкий голос его няни Фроси. Уже в коридоре квартиры, куда он впервые в жизни вошел с какой-то опаской, на Григория сразу же повеяло чем-то нежилым. А ведь всего четыре дня назад этим воздухом с легким запахом паркетной мастики и еле уловимым, с детства знакомым ароматом герани, плывущим в коридор из комнаты Фроси (сколько Григорий помнит себя, Фрося и горшки с вечноцветущей геранью на подоконнике составляли нечто единое, каждое из которых живет только потому, что рядом живет и цветет другое), дышал его дед.
Григорий включил свет в прихожей, и первое, что бросилось ему в глаза, – это были настороженно-испуганные лица братьев, которые, застыв у двери, с замиранием сердца рассматривали интерьер прихожей. Все, как понял Григорий, было им в диковинку: свисающая с потолка хрустальная люстра, бронзовые с белыми фарфоровыми свечами бра на стенах, которые, отражаясь в большом зеркале напротив, создавали иллюзию необыкновенного, сверкающего всеми цветами радуги простора прихожей. Одна из стен от пола до потолка была заставлена застекленными книжными стеллажами. Взгляд Тараса остановился на вырезанной из дерева рогатой бычьей голове, которая была закреплена в узкой нише. Через ноздри было продето деревянное кольцо. Откуда могли знать малыши, что эта оригинальная вещь, преподнесенная академику Казаринову к юбилею руководителем мастерской резчиков по дереву, представляла собой бар для вина, куда вмещались три бутылки шампанского.
– Ну что застыли у порога, как суслики? – Григорий распахнул стеклянную дверь в гостиную: – Проходите!
Братья по-прежнему стояли посреди прихожей и боязливо смотрели в гостиную.
Есть в человеческой памяти удивительное свойство. Она может годами дремать под наслоением бесчисленных впечатлений, но стоит пробиться в ее бездонный ларец горячему лучу родственной или даже просто физически сходной ситуации, как она тут же озаряется вспышкой воспоминаний. Вряд ли когда-нибудь вспомнил бы Григорий, что где-то на антресолях лежит мешок с детскими игрушками. И сразу же вспомнился Григорию разговор деда и Фроси. Это было очень давно, перед отправкой Гриши в пионерский лагерь в Анапу. На предложение деда отдать все игрушки («Ты только посмотри на него, как вырос-то: осенью уже в комсомол будет вступать!») внуку дворника Фрося посмотрела на него с таким укором, что Дмитрий Александрович только махнул рукой и ушел в свой кабинет.
А Фрося послала ему вдогонку:
– Раздавать добро нехитрое дело. Время-то вон как летит. Не успеешь оглянуться, как станете прадедом. Нынче молодежь не засиживается.
– Убедила, убедила!.. – донесся из кабинета голос академика.
Гриша, клеивший в своей комнате модель реечного планера, все слышал.
Этот разговор всплыл в памяти Григория до мельчайших подробностей.
Он быстро разделся, повесил шинель во встроенный в стену шкаф и подошел к зеркалу. С трудом узнал себя. Серое лицо. Впалые, небритые щеки. В волосах серебристой паутиной проблескивала седина. Виски были совсем седые. А глаза… Казалось, они стали больше и запали.
Взяв детей за руки, Григорий провел их на кухню, усадил за стол и, найдя в шкафу зачерствелые пряники, высыпал их на стол.
– Давайте уплетайте, а я сейчас сделаю вам такой сюрприз, что ахнете!.. – С этими словами Григорий приставил к стене стремянку и поднялся к антресолям, дверями выходящим на кухню.
«Сюрприз». Мальчишкам, родившимся в деревенской глуши, трудно было представить, что скрывается за этим впервые услышанным словом. А подействовало оно гипнотически, поэтому Васек и Тарас не спускали глаз с Григория и жадно следили за каждым его движением. А когда из глубины антресолей Григорий вытянул лыжной палкой чем-то до краев наполненный вещевой мешок, завязанный старым галстуком, Тарас и Васек даже привстали со стульев. Интуиция их не подвела.
Вряд ли Григорий видел когда-нибудь в жизни такие озаренные восторженным сиянием детские лица, когда содержимое мешка он высыпал на пол посреди просторной кухни.
– Берите!.. Все ваше!.. Я уже ими наигрался.
Первая минута для детей была психологически тяжела. Словно онемев, они стояли и не знали, что делать. Тогда Григорий присел на корточки, вставил в пугач пробку и выстрелил.
– Этот пугач дедушка привез мне когда-то из Бельгии. К нему есть целая пачка пробок, вот они. – Григорий протянул пугач старшему братишке: – Это тебе. Васек. Ты, Тарасик, еще не дорос до огнестрельного оружия. Поэтому тебе дарю вот эту заводную легковую машину, играй с ней, вот к ней заводной ключ. – Григорий завел машину, пустил ее по полу, ключ отдал онемевшему от счастья Тарасу.
И чего только не было в ворохе рассыпанных по полу игрушек: два карманных разных цветов и размеров фонарика, около дюжины автомобилей различных марок, детские пистолеты и ружья, три пугача, железная дорога с паровозом и вагончиками!..
– Все это ваше!.. – Григорий сложил игрушки обратно в вещмешок, завязал его дедовским галстуком, который тот перестал носить после того, как посадил на него жирное пятно. И это запомнилось Григорию. – Играйте дружно, не спорьте из-за игрушек, – уже в коридоре напутствовал Григорий братьев, засовывая пряники им в карманы. А когда, убавив лямки вещмешка, он взвалил его на плечи старшему брату и открыл дверь, чтобы проводить детей до лестницы, увидел вопросительно-тревожный взгляд Васька. – Ты что, Васек, чем-то недоволен?
– Вы же обещали чернила и ручку, – нерешительно проговорил мальчик.
– А-а-а! – Григорий метнулся в кабинет деда и тотчас же вернулся оттуда с пузырьком чернил и авторучкой. – Пиши, Васек, этого надолго хватит. А авторучку в школу не бери, потеряешь, а то еще, чего доброго, отберут большие ребята. Она с золотым пером. Так и скажи деду.
– С золотым?..
– С золотым. Так что береги эту ручку.
Проводив братьев до лестницы, Григорий вернулся в квартиру и сразу почувствовал адскую усталость. Нахлынули воспоминания. Всего четыре дня назад по этому паркету ступал дед, он сидел вот в этом кресле, за своим любимым письменным столом. На подлокотнике мягкого кресла висела его ночная пижама. И вот деда уже нет… В памяти тех, кто знал академика, останется лишь его образ, его по-волжски раскатистый сочный басок, его неповторимый смех, которым он часто заражал окружающих. В простенке между окнами висели два одинаковых размеров фотопортрета в латунных рамках – Григория и Галины. А над ними в такой же, только продолговатой, рамке, висела их общая фотография, сделанная в день подачи заявления в загс. «При своей огромной занятости дед нашел время переснять и увеличить фотографии, вставить их в рамочки… И наверное, долго думал, где их лучше повесить. И вешал сам». Старик не любил по мелочам прибегать к чужим услугам.
Григорий сел за письменный стол. Взгляд его упал на старинный письменный бронзовый прибор с двумя массивными хрустальными чернильницами, стоявшими в бронзовых ячейках на малахитовой плите. Бронзовая подставка для ручек, возвышавшаяся над малахитом, изображала лиру. Григорий помнил, что этот чернильный прибор Дмитрий Александрович вместе с хрустальной люстрой купил в антикварном магазине. Была у деда эта слабость: он любил антикварные вещи. И когда при выходе из магазина Гриша спросил у него, зачем он купил сразу две дорогие вещи, дед оглянулся по сторонам и, словно боясь, чтоб его никто не услышал, пробурчал в седеющие усы:
– Хочу оставить память о последней книге. Я ведь над ней работал двадцать лет.
– А что же ты ничего не купил на память о своей большой премии?
– Как «ничего»?.. А автомобиль?
– Автомобиль же тебе подарил Орджоникидзе. Я не об этом.
– Это лично мой второй автомобиль. А первый, ты его должен помнить, был куплен после премии.
О том, что свой вороненый сверкающий ЗИС в начале июля академик подарил командованию дивизии народного ополчения, Григорий узнал из письма. Передачу этого своего дара он объяснил очень просто: «Если для фронта не годится старый Казаринов, то московским ополченцам пригодится новый ЗИС академика Казаринова». Эти строки из письма Григорий хорошо помнил. Вспомнилось и письмо, полученное им за неделю до войны. В нем академик писал («Как сердце чуяло!..»), что все нажитое им за его не такую уж малую жизнь он по завещанию, оформленному в районной нотариальной конторе, оставляет ему, Григорию. И чтобы снять налет грусти с этого сообщения, пошутил: «Это на всякий случай. С высоких московских крыш падают тяжелые сосульки, случаются аварии, да и автомобильные катастрофы еще не перевелись. А вообще, Гришенька, я (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) решил пережить своего деда. Тот прожил девяносто девять лет (упал с печки), а я размахнулся перепрыгнуть планку столетия. Жаден я до жизни. Столько еще нужно сделать в науке!.. К тому же русские печи с лежанками в Москве уже не складывают…» Вместе с Галиной Григорий тогда несколько раз перечитал это и веселое и грустное письмо деда. Григорий даже пошутил: «Если мы переживем деда – будем богаче Ротшильда», за что Галина упрекнула Григория, а сама от стыда залилась румянцем.
И вот теперь…
Деда нет. Взгляд Григория упал на стальной сейф, стоявший на тумбе в углу. Вспомнил, куда дед прятал ключи от него…
Это было, когда Григорий учился в десятом классе. Дед не заметил, как в кабинет вошел Григорий, и, когда поднялся с коленей, цепляясь за стол и кресло руками, прочитал во взгляде внука испуг.
– Деда, ты упал?.. Тебе плохо?..
Дмитрий Александрович лгать не стал. Никогда не позволял себе этого.
– Я здоров. Прятал ключи от сейфа. Подойди сюда, нагнись. Ты уже взрослый. Тебе можно и даже нужно об этом знать. – Академик, наклонившись, показал рукой тайник, где он прятал ключи от сейфа. – Теперь мы знаем двое: я и ты. Ты – на всякий случай. А вообще без надобности к ключам не касайся. Забудь про них. Понял меня?
– Понял, – нерешительно ответил Григорий, хотя в первую минуту не понял, почему о тайнике могут знать только два человека: дед и он.
Григорий по просьбе деда встал тогда на колени и протянул руку под письменный стол, где слева, в незаметной для глаза узенькой нише, нащупал под самой столешницей связку ключей.
– Вытащи их и хорошенько запомни.
Григорий достал ключи. Их было три, и все три – со сложными зубчиками и выемками.







