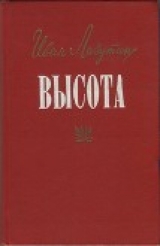
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Иван Лазутин
Высота

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Только три человека из всех штабных офицеров дивизии Веригина вышли из Вяземского котла на можайский рубеж обороны – начальник штаба дивизии полковник Реутов, начальник артиллерии подполковник Воропаев и полковник Воскобойников. Комиссара дивизии Синявина осколком в грудь сразило насмерть, когда он с Реутовым подводил к деревне Пекарево остатки стрелковых батальонов второго эшелона дивизии. Сам Реутов не видел, как погиб бригадный комиссар. О его гибели ему рассказал ординарец комиссара, который шел рядом с Синявиным. Рассказал сразу же, как только второй эшелон прорыва, миновав разбитую деревню, добрался до леса, где прямо на земле, под березами, спали мертвым сном солдаты головного эшелона.
Первый вопрос, который Реутов задал генералу Веригину – тот стоял, прислонившись к березе, – был о том, живы ли капитан Дольников и лейтенант Казаринов.
– Почему именно они вас интересуют в первую очередь? – не поворачивая головы, словно сквозь сон, спросил Веригин, все больше и больше убеждаясь, что гибель трех санитарных машин с ранеными и медперсоналом лежит на совести полковника Реутова. И тут же подумал: «Боишься трибунала. Это видно по твоему лицу, по твоему поведению. А трибунала тебе не избежать, полковник. Рапорт капитана Дольникова уже пошел по инстанции. Вместе с боевыми знаменами и штабными документами дивизии рапорт вынесли из вяземского котла…»
Реутов молчал.
– Вы не ответили на мой вопрос, полковник, – по-прежнему не поворачивая головы в сторону Реутова, заметил Веригин. На его измазанном глиной новеньком хромовом реглане в нескольких местах свисали клочья кожи – следы осколков или пуль. Высокая серая папаха тоже была вымазала рыжей глиной.
– Я спрашиваю об этом потому, товарищ генерал, что капитан Дольников прислан к нам из Москвы и за жизнь его мы несем ответственность. У нас в любой момент могут спросить, где находятся капитан Дольников и его команда.
– Капитан Дольников жив и ведет за собой почти половину своих солдат. А лейтенант Казаринов? Он интересует вас все по той же причине?
– Казариновым я интересуюсь потому, что нас могут спросить о нем из штаба девятнадцатой армии. Ведь он был послан штабом армии на подрыв моста, а мы своей волей, не связавшись со штабом девятнадцатой армии, подчинили лейтенанта и его группу саперной команде капитана Дольникова.
– К вашему огорчению, полковник, лейтенант Казаринов тоже жив и здоров. Со своими солдатами он выносит на можайский рубеж полковое знамя. Еще вопросы будут? А то я хочу вздремнуть. Через десять минут пора будить солдат. Нужно выводить на можайский рубеж остатки дивизии. Главные бои еще впереди.
…Все это было неделю назад. Тогда Реутов только смутно предчувствовал, что где-то впереди его ждет расплата за совершенное им там, на левом берегу Днепра, Три пущенные в волны Днепра санитарные машины с ранеными и медицинским персоналом не давали ему покоя ни днем ни ночью. Они приходили к нему во сне в самых неожиданных, полуфантастических и полуреальных видениях. Просыпаясь в холодном поту, он старался прогнать преследующие его видения: мост через Днепр и три санитарные машины…
Предчувствие надвигающейся беды подтвердилось на второй день выхода на можайский рубеж, куда с вырвавшимися из окружения жалкими остатками подразделений дивизии пришли и штабные документы. Рапорт капитана Дольникова был передан в штаб Можайского укрепрайона в числе особо важных документов.
«Веригин жаждал моего позора, а может быть, и моей крови… Я это понял еще там, при форсировании Днепра. Он словно ждал моего промаха. Смотрел на меня, как на труса. А под Вязьмой посылал на такие участки наших позиций, где остаться живым было просто чудом. Но, назло ему, я жив. А его нашел осколок тяжелого немецкого снаряда. Но этот рапорт… Рапорт капитана Дольникова… Если бы я раньше знал, что он будет написан так злобно, так доказательно, да еще в такой категорической форме, обязательно нашел бы случай предотвратить его появление. На войне пули летят не только со стороны противника. Иногда в азарте атаки люди падают и от своих шальных пуль. А вот теперь приходится все объяснять следователю трибунала. И ведь как мотает душу, стервец!.. Из бывших гэпэушников. Добрался аж до дедушек и бабушек, о которых я не написал при поступлении в военное училище. Особо отметил, что дед был купцом первой гильдии и имел свои заводы на Урале. Какая связь?.. Зачем ему это нужно?.. Задает все время одни и те же вопросы. Чего добивается? Хочет сбить меня с панталыку, чтобы я сам опорочил себя, признавшись в преступной трусости?.. Нет, гражданин следователь, деда ты не трогай. Не трогай и отца, который в тридцатом году был сослан на Соловки. Почитай еще раз работу Сталина «Головокружение от успехов», и ты поймешь, неуч, что на Соловки в тот год шальной насильственной коллективизации ссылали не только кулаков, но и середняков. Я могу доказать это документально. А уж если говорить начистоту, то из семьи я ушел в двадцать пятом году и жил в городе самостоятельно. И хотя ты оголтелый гэпэушник, а слов Сталина о том, что «сын за отца не ответчик», не забывай. При следующей встрече я их тебе напомню. Обязательно напомню. Война есть война. Если закономерен разлет щепок, когда рубят лес, то кто лишит войну права на неизбежные издержки? Просто мне следует держаться тверже, не юлить, не потеть перед следователем, и правоту свою нужно подкреплять твердыми, уверенными ответами человека, правого в душе перед своей совестью и перед ходом сложившихся обстоятельств. Не мог я не взорвать мост, через который проходили наши санитарные машины. Следом за ними на левый берег прорвались бы немецкие танки. Колонна немецких танков!.. И тогда – капут остаткам всей нашей дивизии и полковым знаменам. Я это докажу!..»
Рассуждая сам с собой и тем самым несколько успокаивая себя, Реутов отвинтил колпачок с фляжки, в которой была водка, налил половину алюминиевой кружки. Перед тем как выпить, посмотрел на часы. Уже одиннадцать. Ночь. Немцы в это время, как правило, замолкают. Немецкий педантизм давал о себе знать даже на войне. Тем более сейчас – в осеннюю слякоть, холод и бездорожье. «То, что Казаринов со мной в одной дивизии, – и хорошо, и плохо, – продолжал вить цепь раздумий Реутов. – Хорошо, что он в моих руках. Я могу послать его на такое задание, с которого он не вернется. Плохо потому, что на опасное задание послать его сейчас будет слишком подозрительным. Следователь трибунала держит нас обоих в поле зрения, он уже дважды брал показания у Казаринова и Дольникова. Хорошо, что Дольникова позавчера отозвали зачем-то в Москву. Наверное, опять по какому-нибудь заданию. Он крупный специалист в области пиротехники, защитил в свое время диссертацию. Ему придется взорвать еще не один десяток мостов, война ведь только начинается… До одного Урала этих мостов сотни… Может, при взрыве одного из них и сам пойдет на дно…»
Тремя большими глотками Реутов выпил водку, закусил огрызком луковицы, который сильно макнул в банку с солью. Он нервничал. Прошло уже полчаса, как он послал ординарца за Казариновым, и до сих пор не было ни Казаринова, ни ординарца.
После выпитой водки его сразу охватил прилив необузданной независимости и чувства превосходства над всеми теми, с кем он до сих пор шел по дорогам войны, с кем и сейчас продолжает идти по ее неисповедимым тропам, где на каждом шагу человека подстерегает смерть.
«Ради спасения дивизии, да что там дивизии – целой армии, я пожертвовал тремя машинами с ранеными. А как ты, комдив Веригин, объяснишь, что сам хотя и тяжело раненный, но из окружения был вынесен, а девять десятых людских душ дивизии остались в кольце?! Убито из них перед прорывом из вяземского котла не больше половины личного состава. Вторая половина попала в плен. Почему ты, генерал, не предпринял самых последних и решительных шагов, чтобы вывести из котла остатки всех своих полков, и почему сам ты выходил в головном эшелоне, а не в арьергардной колонне?.. И почему ты, как спасительную ладанку, носил в своем нагрудном кармане эту мерзкую «телегу» на меня и не сказал о ней ни слова? Ведь ты был со мной, как всегда хотел показать, предельно откровенен и прям».
Шагая по жарко натопленному блиндажу, отведенному специально для помощника начальника штаба армии и его ординарца, Реутов остановился и дрожащей рукой механически потянулся к фляжке. Хотел отвинтить колпачок и еще налить водки, но в это время за брезентовым пологом, прибитым к бревну дверного проема блиндажа, послышались чьи-то глухие шаги.
Первым в блиндаж вошел Казаринов, следом за ним – ординарец Реутова.
– Товарищ полковник, лейтенант Казаринов по вашему приказанию прибыл, – доложил Григорий.
Кивком Реутов дал знать ординарцу, чтобы тот покинул блиндаж.
– Проветрись перед сном, для здоровья полезно, – сказал Реутов и взглядом показал на брезентовый полог, заиндевевший по краям и внизу.
– Сколько мне проветриваться, товарищ полковник? – шмыгнув носом, спросил ординарец.
– Столько, сколько будет у меня лейтенант.
Когда за ординарцем опустился покоробившийся брезентовый полог, Реутов положил фляжку с водкой на перевернутую кверху дном бочку, которая стояла посреди блиндажа и служила вместо стола; расстелил на ней чистую газету, разломил на две половинки краюшку хлеба и положил на край.
– Садись, лейтенант, гостем будешь.
– Спасибо. Сидеть некогда, роты минируют шоссе. Даже люди из медсанбата и те помогают саперам.
– Вы же разведчик, лейтенант. На кой черт вам сдались эти минные поля? – пьяно и как-то зазывно улыбаясь, проговорил Реутов.
– Саперы не справляются, товарищ полковник. В порядке аврала к ним подключили разведчиков. К утру им нужно успеть заминировать Минское шоссе и обочины. Остались считанные часы. А через час выходим на захват. Приказ командарма – во что бы то ни стало взять «языка». Разведбатальон хасановской дивизии еще не прибыл в Можайск, так что вся армейская разведка падает на мою маленькую роту, сформированную из вышедших из окружения.
По мутным, пьяным глазам полковника было заметно, что он, делая вид, что внимательно слушает Казаринова, на самом деле думал о чем-то своем, крайне важном, но только не о том, о чем говорил лейтенант.
– Остались… считанные… часы… – с расстановкой, придавая каждому слову свой, какой-то особый, смысл, проговорил Реутов.
Неожиданный, почти истеричный смех, вырвавшийся из груди Реутова, словно ледяной волной обдал Казаринова. Так хохочут душевнобольные или люди с надорванной психикой. С трудом остановив душивший его смех, Реутов взял с бочки фляжку с водкой и разлил ее до конца: вначале в консервную банку, потом в алюминиевую кружку. Кружку пододвинул Казаринову.
– Говоришь – остались считанные часы?.. Часы!.. – И снова неудержимый раскат нервного смеха поколебал слабенькое пламя коптилки, сооруженной из сплющенной гильзы 45-миллиметрового снаряда. – Как это кощунственно звучит! «Остались считанные часы…» – Реутов скрестил на груди волосатые руки, пьяно покачался на носках и, склонив набок голову, сквозь злой прищур в упор, словно вызывая на предельное откровение, стал смотреть в глаза Казаринову. – О каких часах сейчас можно говорить, лейтенант?.. Давай-ка лучше выпьем. – Помолчал и, как-то сразу весь сникнув, словно потухнув душой, провел ладонью по небритым щекам и подбородку. – Не суди меня строго за трагедию на Днепре. Я знаю: гибель жены ты приписываешь мне. А зря! Зря, потому что завтра или через неделю мы будем кому-то приписывать падение Москвы. А приписывать будем!.. Поверь мне – будем!.. По кому? Тебе?.. Мне?.. Командарму?..
– Что вы хотите этим сказать, товарищ полковник? – тотчас же спросил Казаринов, делая вид, что не совсем понял значение слов полковника.
– Нет, лейтенант, ты все понимаешь… Ты только делаешь вид, что кое-чего не понимаешь. А потому давай лучше выпьем. Уступи хоть в этом. – Реутов взял с бочки алюминиевую кружку с водкой и протянул ее Казаринову. Другой рукой он поднял консервную банку: – Пей!.. У меня сегодня пир!.. Пир во время чумы! Я пригласил тебя на этот пир как виновник гибели твоей жены и еще нескольких десятков человек. Сегодня утром следователь военного трибунала так и сказал: «Вы совершили преступление». – Какое-то время Реутов жадно смотрел в глаза Казаринову, стараясь понять: верный ли тон он взял, разговаривая с лейтенантом, могут ли его слова вызвать хоть каплю сочувствия и жалости в его душе, не переборщил ли он, говоря о своей вине на Днепре, не насторожил ли он лейтенанта своим излишним откровением о надвигающемся крахе армии и падении Москвы?.. Не прочитав ничего определенного в отчужденном взгляде лейтенанта, он решил перевести разговор на другое: – А капитана Дольникова ты еще почувствуешь, лейтенант. Хотя его зачем-то отозвали в Москву, но он к нам вернется. Он мягко стелет, да жестко спать. Ну что ты остолбенел?! Тащи!.. Ведь мы с тобой солдаты. – Реутов тыкал в грудь Казаринова алюминиевой кружкой с водкой. – Я за свое отвечу!.. За все отвечу… За погибших в Днепре раненых и за твою жену!..
– Не могу, товарищ полковник. Я нахожусь на выполнении боевого задания. Через час выходим в разведку.
И снова неудержимый нервный смех Реутова глухо прозвучал под сырым бревенчатым накатом блиндажа.
– Говорить – боевое задание? – Искривив в кислой гримасе лицо, Реутов одним духом выпил водку из алюминиевой кружки и из консервной банки. Выпил жадно, и можно было подумать: если бы в эту минуту кто-нибудь попытался отнять у него водку, он непременно погиб бы. Выпив все до конца, сделал два глубоких вдоха и выдоха. – Свое боевое задание я уже выполнил, лейтенант. По этому боевому заданию я позорно отступал от Днепра до стен Москвы. А другие, такие же, как ты, калики перехожие, проделали этот позорный марафон аж от самой границы. Бежали, провожаемые проклятием стариков, женщин и детей, которых мы бросили на погибель и поругание варваров. – Реутов вдруг замолк и, глядя поверх головы Казаринова, замер, точно увидел за его спиной что-то испугавшее его, непонятное и таинственное. – Теперь я вижу… Вижу все!.. Боже мой, если б ты знал, лейтенант, как я прозрел за весь этот позорный путь от Днепра до Москвы!.. Ведь ты тоже кончал военное училище, лейтенант?
– Разумеется, – сдержанно ответил Казаринов, выискивая повод как можно скорее избавиться от пьяного полковника, жалкого в своей ущербной философии.
– Ведь тебя тоже учили, лейтенант, что война, если она разразится, для нашей легендарной непобедимой армии будет только наступательной. А если и должна пролиться кровь в грядущих сражениях, то она прольется только на земле врага!.. Не так ли, лейтенант?
– Я не совсем… понимаю вас, товарищ полковник, – уходил от откровенно провокационного вопроса Казаринов.
На лице Реутова застыло некое подобие улыбки, искривившей его тонкие бескровные губы.
– Я тоже не все понимаю. А то, что понимал раньше, теперь лопнуло, как мыльный пузырь. Все, чему учили нас в военных академиях, разлетелось тополиным пухом.
Где-то совсем недалеко от блиндажа разорвался тяжелый снаряд. От его взрыва колебнулось пламя мерцающей коптилки.
Реутов вдруг резко вскинул голову и не то о чем-то задумался, не то к чему-то стал прислушиваться.
– Слышишь, лейтенант?.. Думаешь, это снаряд разорвался? – Реутов продолжал прислушиваться.
– Думаю, что снаряд, к тому же тяжелый, из дальнобойного орудия, – ледяным голосом ответил Казаринов и мысленно составил фразу, которой даст понять полковнику, что ему необходимо срочно идти на выполнение боевого задания. Григорий видел, что с каждой минутой полковника развозило все больше и больше. К чувству ненависти к Реутову в душе Григория примешивалось чувство брезгливости к не в меру разболтавшемуся пьяному человеку.
– Нет, дружище, ты ошибся… Это не снаряд разорвался… Это панихидный залп по нашей разбитой дивизии, от которой остались только три пробитых пулями полковых знамени да сотни две бойцов и командиров, что вышли из вяземского ада. – Реутов расслабленно опустился на канистру из-под бензина и беспомощно свесил руки.
– Вы просто устали, товарищ полковник. Вам надо обязательно отдохнуть, – сдержанно произнес Казаринов, хотя в душе его все с большей силой вспыхивало озлобление к командиру, впавшему в непозволительную панику. – Зачем вы меня вызвали, товарищ полковник? – после паузы резко спросил Григорий.
Реутов, опираясь правой рукой о сырую глиняную стену блиндажа, поднялся с канистры, вплотную подошел к лейтенанту, положил руки на его плечи и пьяными, полными слез глазами уставился на Казаринова. Губы его мелко дрожали.
– Моя судьба, лейтенант, в твоих руках. Лучше пристрели меня здесь… Сейчас… Прямо в блиндаже… У самого не поднимается рука… Только отведи от меня приговор трибунала… У меня семья… Трое сыновей… Они никогда не простят мне… Позор ляжет и на них… – Голос Реутова, прерываясь, переходил в глухие рыдания. – Хочешь, я встану перед тобой на колени, лейтенант?.. – Сказав это, Реутов начал медленно опускаться, но Казаринов удержал его.
– Опомнитесь, товарищ полковник!.. Ведь вы старший командир. – Казаринов больше не мог скрывать своей брезгливости к трусливому и жалкому человеку.
– Я вызвал тебя, чтобы попросить прощения… – с трудом выговаривал слова Реутов. – Это я… я виноват в гибели твоей жены. Не выдержал, сдали нервы…
– Товарищ полковник, я больше не могу у вас задерживаться. Мне нужно подготовить к выходу группу захвата и идти на выполнение боевого задания командарма.
Реутов стоял посреди блиндажа и, закрыв ладонями мокрое от слез лицо, пьяно покачивался.
– Лейтенант, защити меня перед следователем трибунала.
– Как я могу защитить вас?
– Скажи следователю, что, когда мы с тобой находились на наблюдательном пункте на левом берегу Днепра и доложили командиру дивизии, что почти на хвосте трех наших санитарных машин к Днепру подходит колонна немецких танков, генерал дал команду взорвать мост. И мы выполнили приказ комдива.
– Такого приказа не было, – с трудом подавляя закипающую в нем ярость, ответил Казаринов.
– Но этот приказ мог быть. Он мог быть… Ведь генерала уже нет. Он погиб.
– Дать ложное показание не имею права. И я никогда не прощу вам ни гибели жены, ни гибели тех, кто по вашей вине нашел свою могилу в Днепре.
– Ну что ж, ты все сказал, лейтенант… Ступай… Ты свободен. Прошу тебя только об одном: не добивай до конца. Считай, что этого разговора у нас с тобой не было. А впрочем… Впрочем, поступай, как подскажет сердце.
Казаринов вышел из пропахшего водочным перегаром и бензином блиндажа, легко вскочил на бруствер траншеи и вдохнул полной грудью легкий морозный воздух. Встреча с Реутовым, его паника перед неудержимо наступающим противником, страх перед судом военного трибунала и унижение во имя прощения – все это легло на душу Григория, словно ошметки липкой грязи, которая отчищается не сразу и не до конца. Казаринов вынес от встречи с Реутовым тяжелое чувство жажды мести за гибель Галины. И не только Галины, но и ребенка, которого они так ждали. Он прекрасно понимал, что слезы Реутова, его мольба о прощении – не искреннее раскаяние человека, глубоко осознавшего свою вину, а хитрый, тактически осмысленный и до тонкостей продуманный шаг подлеца, делавшего ставку на доброту и великодушие человека, в чьих руках находилась его судьба.
«Толкать падающего не буду, но и не подумаю спасать труса и подлеца. Пусть все решает суд военного трибунала. Все, что законно, – в высшей степени справедливо. Там, когда мы лежали в бетонном доте, на левом берегу Днепра, он вел себя по-другому… Он унижал меня, даже хватался за пистолет, когда капитан Дольников просил его подождать хотя бы минуту и не губить людей… Галину он назвал «ппж». Это ее-то, мою законную преданную жену…»
Последнее воспоминание обожгло Григория. Он даже остановился, чтобы справиться с подступившим удушьем. И пожалел, что не припомнил всего этого, когда Реутов рыдал перед ним и пытался встать на колени. «Нет!.. – Григорий до боли стиснул зубы. – За такие вещи не прощают…»
ГЛАВА ВТОРАЯ
Москва на этот раз произвела на генерала Лещенко тяжелое впечатление. Столица заметно обезлюдела, почти не было видно детей. Женщины надели фуфайки и сапоги. Стекла окон были заклеены бумажными крестами. Сырой холодный ветер гнал по неметеным мостовым и тротуарам обрывки старых театральных афиш и реклам, взвихривая желтую пыль, гнал вдоль улиц и переулков тополиные и кленовые листья. По некогда чистым центральным проспектам, где движение грузового транспорта до войны было ограничено или даже совсем запрещено, нескончаемым потоком, то и дело создавая заторы и пробки, плыли грязно-серые ЗИСы, груженные солдатами, боеприпасами, бочками с горючим, продовольствием… И все эти многочисленные ручейки военных колонн стекались в плотно забитые транспортом реки Волоколамского и Рублевского шоссе.
На перекрестках приходилось подолгу стоять, пропуская бесконечные груженные солдатами и вооружением машины. Всякий раз, как только военный регулировщик останавливал движение, генерал начинал нервничать, посылал подполковника Ермолаева побыстрее протолкнуть вперед эмку, но военные регулировщики, уже привыкшие к требованиям нетерпеливых и нервных начальников, молча и угрюмо-спокойно продолжали делать свое дело – регулировать движение колонн, идущих к фронту.
Когда эмка вырвалась наконец на Можайское шоссе и начала набирать скорость, генерал немного успокоился и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. Замолкли и сидевшие сзади командиры. Лещенко не спал. У него перед глазами стоял Сталин. Усталое лицо, дымящаяся трубка, неторопливые шаги – он дважды прошелся вдоль стола и один раз взглянул в глаза Лещенко. Но взгляд этот показался генералу бесконечно долгим, каким-то пронизывающим. Этот взгляд отражал огромную работу мысли. «А может, мне это только показалось, потому что он Сталин? Сталин правильно понял меня. Теми же самыми глазами, из которых лучились теплота и тревога, когда он смотрел на меня, Сталин обжег Молотова. Именно обжег, когда тот упрекнул меня: почему я со своим корпусом взял Мценск, а Орел отбить у немцев не сумел. И вопрос был поставлен напрямую: «Почему вы не выбили немца из Орла?» Из Орла, в который вошли свежие танковые корпуса и моторизованные дивизии противника… Что он, хотел специально поставить меня перед Сталиным в тупик или в самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что значит потрепанным в боях стрелковым корпусом, в котором не насчитывается и трети состава солдат и вооружения, отбить у врага крупный город, укрепленный как плацдарм для нового броска?.. Спасибо маршалу Шапошникову. Одним своим видом, улыбкой он сразу разрядил обстановку: «За Мценск спасибо. Теперь, командарм, перед вами стоит другая задача: удержать врага на можайском рубеже. Армия ваша будет подчиняться непосредственно Ставке».
И Сталин хотел сказать что-то еще, но помешал телефон. Он взял трубку. Шапошников тоже куда-то торопился. А жаль… Помешкай он с минуту, задержись еще чуть-чуть в кабинете – и Сталин наверняка сказал бы слова, которые собирался сказать мне. И наверняка он хотел сказать что-то хорошее, сердечное, это было видно по его лицу, по усталой улыбке. На прощание он еще раз посмотрел на меня… Посмотрел как-то хорошо, мягко… Чувствовалось, что мой ответ Молотову где-то в глубине души ему понравился. Хорошо, что я не растерялся. Ответил Молотову по-солдатски, опустив руки по швам: «Во-первых, Вячеслав Михайлович, выбивать немца из Орла было нечем, а во-вторых, если б даже и решили пойти на такой неразумный риск, это означало бы вести войска корпуса на верную гибель и поставить под удар Тулу».
На заднем сиденье машины сидели начальник штаба формирующейся армии полковник Садовский, подполковник Ермолаев и полковник Фесенко. Со всеми троими сегодня утром на рассвете после ожесточенного ночного боя генерал Лещенко брал Мценск. И вдруг – неожиданный звонок маршала Шапошникова по ВЧ, срочный вызов в Москву… А дальше… Дальше за какие-то несколько минут судьба всех четверых бросает из огня в полымя: по решению Верховного Главнокомандования на можайском рубеже формируется новая армия, которая будет подчиняться непосредственно Ставке. Командование этой армией вверено ему, генералу Лещенко. Все трое молчали: понимали, что генерал весь пока еще во власти дум и волнений после встречи со Сталиным, а потому никаких вопросов не задавали, хотя было о чем спросить. И только когда подъезжали к Можайску, полковник Садовский не выдержал:
– Как удалось вам, товарищ генерал, взять и нас с собой?
Лещенко резко повернулся назад и, внимательно посмотрев в глаза каждому, что-то мучительно долго обдумывал, потом, глядя мимо плеча Садовского, проговорил, словно не расслышав вопроса начальника штаба:
– Маршал Шапошников сказал, что центральный рубеж обороны нашей армии будет проходить через Бородинское поле. Вдумайтесь хорошенько – Бородинское поле! Это не только символ…
– А есть ли она, армия-то, товарищ генерал? – глухо спросил Садовский, на которого последние слова командарма произвели сильное впечатление.
– Армии, как таковой, пока еще нет. Создавать ее будем мы. Маршал сказал, что с Дальнего Востока в Москву завтра с утра начнут прибывать первые эшелоны тридцать второй стрелковой дивизии. Когда-то она блестяще показала себя у озера Хасан, создана была в ноябре семнадцатого года из питерских рабочих, в гражданскую била Колчака, освобождала Новониколаевск, подавляла кронштадтский мятеж. Из Владимира к нам движутся двадцатая и двадцать вторая танковые бригады и четыре противотанковых артиллерийских полка. Из состава войск Западного фронта Ставка передает нам восемнадцатую и девятнадцатую танковые бригады. Через шесть – восемь дней к нам в армию вольются еще четыре стрелковые дивизии с Урала. Разве это не сила?! А потом… потом, маршал предоставил нам право подчинять себе все вышедшие из окружения на можайский рубеж части и подразделения Западного фронта. Правда, не знаю, что осталось от этих частей, но в районе Вязьмы – в кольце врага четыре наши армии. Маршал сказал, что сейчас там не просто жарко, а пекло ада. – Генерал замолк, стараясь по лицам подчиненных ему командиров понять: произвели его слова впечатление или нет? И он понял: уже одно то, что в полосу обороны армии попадает знаменитое Бородинское поле, для них означает многое.
– А что это за танковые бригады, которые передают нам из состава Западного фронта? – мягко спросил полковник Садовский, уже начинавший по-деловому входить в круг своих новых обязанностей начальника штаба вновь формируемой армии. – Может, в обеих этих бригадах сейчас осталось по пять-шесть танков?
– Не знаю! – резко ответил генерал, закуривая папиросу. – Известно только одно: обе эти бригады сейчас ведут тяжелые бои под Гжатском. Предлагаю уяснить следующее: центром оперативного построения нашей армии будет Бородинское поле.







