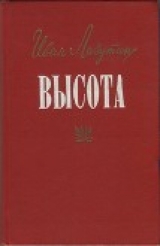
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
– Я тоже об этом не раз думал. А поэтому… – Не договорив, Рикар вышел из горницы и через минуту вернулся с непочатой бутылкой коньяка, головкой сыра и куском сырокопченой колбасы. – Вставай!.. Продолжим пир во время чумы.
– Как твой вагон с продовольствием?
– За этими вагонами находилась цистерна с бензином. Горела так, что за километр в округе можно было в иголку нитку вдевать.
– Поздравляю, – съехидничал Гюден.
– То ли еще будет, – вздохнул Рикар, сел за стол и откупорил бутылку. – Займись сыром и колбасой.
– Если бы всю жизнь слушать эту милую сердцу команду, – сострил Гюден, нарезая тонкими ломтиками сыр.
Когда выпили по первой рюмке, Рикар, помолчав, поднял на Гюдена тревожный взгляд:
– Я сегодня хочу напиться. У меня недоброе предчувствие, Шарль.
– Не таи, скажи, что тебя томит, Жорж?
– Мне кажется, что судьбу свою мы поставили не на ту карту. Нас ждет гибельный проигрыш. И он следует за нами по пятам. – Сказав это, Рикар, прежде чем налить в рюмки коньяк, долго и пристально смотрел в глаза Гюдену. – Как бы я хотел, чтобы ты меня правильно понял и не осудил. Давай выпьем.
– Не торопись. – Гюден взметнул перед собой руку. – Прежде чем выпить, прошу тебя, прочти вот это письмо. Я получил его вчера от брата из Парижа. Его нужно читать на трезвую голову. – Гюден достал из нагрудного кармана письмо и, развернув его, протянул Рикару.
Майор читал письмо внимательно и долго. Гюден затаив дыхание сидел напротив и следил за выражением лица друга, боясь уловить в нем хотя бы тень несогласия или возмущения. Однако этих выражений на нем не возникало. Лицо было каменно-невозмутимым. А когда Рикар прочел письмо и, аккуратно вложив его в конверт, возвратил Гюдену, наступила долгая гнетущая пауза, в течение которой обоим стало как-то не по себе.
– Ну что скажешь, Жорж? – еле слышно спросил Гюден.
Рикар отставил в сторону рюмки, решительно встал и, взяв с полки два граненых стакана, поставил их на стол:
– Наливай до краев!..
Гюден молча разлил коньяк в стаканы и с волнением ждал, что же скажет Рикар, в каждом жесте которого, во взгляде чувствовались сила и уверенность в себе.
– Я тебе завидую, Шарль. У тебя хороший брат. У него можно учиться совести и добру. Выпьем за здоровье твоего брата!.. К сожалению, у меня такого брата нет.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Григория разбудил Иванников. Время шло к рассвету. Долго тряс он за плечо своего командира, который последние двое суток почти не сомкнул глаз. Дважды разведчики Казаринова переходили ночью передовую, а «языка» захватить так и не удавалось: боевое охранение немцев, а также посты в близлежащих к линии фронта деревнях смертельно боялись огневого прорыва русских (разведки боем). Не менее страшным было уснуть и замерзнуть. Каждая ночь уносила десятки и сотни солдат 4-й полевой армии фельдмаршала фон Клюге.
В декабре с наступлением крещенских морозов немецкие солдаты и офицеры сожалели, что в сентябре и октябре в азарте сжигали деревни и села Подмосковья. Не рассчитывали, что декабрь придется встречать не в теплых толстостенных домах русской столицы и пить крепкую русскую водку, а сидеть в холодных, заметенных снегами окопах, спасать ноги и руки от обморожения и в душе клясть тот день, когда фюрер заворожил их своими истерическими призывами завоевать жизненные пространства России. О, как необъятны и как бескрайни эти пространства!.. Крепкие морозы сопровождались вьюгами и метелями, засыпающими дороги и покрывающими своим белым саваном замерзших солдат.
– Товарищ лейтенант, ну проснитесь же, вам письмо, – тормошил Казаринова Иванников. – Только что передал батальонный писарь. Наглец, даже пол-осьмушки махорки содрал с меня за него.
Слово «письмо» мгновенно прогнало сон. Казаринов вскинулся на нарах и обвел взглядом землянку. В углу, рядом с чугунной печкой, накаленной до малиновой рдяности, на корточках сидел Вакуленко. Мокрые портянки, которые он сушил на вытянутых руках у печки, казалось, дымили. Дневальный по взводу боец Усман Серезидинов острым как бритва финским ножом разрезал на равные пайки буханку хлеба. В душе Серезидинов, как давно уже заметил Казаринов, гордился тем, что никто из взвода не умеет так ровно делить хлеб, как он.
– На висах аптик так никто ни сумиит сдилать, как сумиит сдилать Серезидин… – Не раз бросал он свою излюбленную фразу в ответ на похвалы окопно-блиндажной братвы.
На ящике из-под патронов стоял бачок с перловой кашей, из которого командир отделения младший сержант Витарский, до предела сосредоточившись, самодельным половником доставал кашу и раскладывал ее в котелки, стоявшие рядком на двух ящиках из-под патронов.
Разведчики, сидя на земляных нарах, с которых свисали ошметки желтой соломы, курили. Взгляды всех были обращены на финку Серезидинова и на пыряющий в бачок с кашей половник в руках одессита Олега Витарского. Рядом с бачком лежал большой кусок колбасы. Серезидинову предстояло разрезать ее на восемнадцать одинаковых (тютелька в тютельку) кусочков, после того как он разделит хлеб. Всем во взводе нравилось смотреть, как Серезидинов, глотая слюну, бережно и даже как-то не по-мужски нежно раскладывал куски колбасы на хлеб, делая бутерброды.
И Казаринов, видя все это, подумал: «Вот она, вершина справедливости и равенства… Она начинается с краюшки хлеба, с половника каши… Завтра любой, спасая жизнь раненого одновзводника, не моргнув, отдаст свою собственную… А попробуй обдели его или обжуль в хлебе насущном, с которого берут свое начало начал справедливость и равенство, он тут же взъярится и скажет: «Нет, братцы, так не пойдет!..»
Письмо было толстое, тяжеленькое. Судя по обратному адресу, оно было из Москвы, от Захара Даниловича, хотя почерк на конверте был не его, а школьный: ровный, с наклоном. Казаринов даже подумал: «Девичий почерк… Кого-нибудь из соседей попросил старик».
Иванников, который словно ждал повода прицепиться к Вакуленко, крикнул так, чтобы слышали все разведчики взвода:
– Послушай, Серезидинов, приложи-ка ты Вакулу щекой к печке! Чего он душит нас своими вонючими портянками?!
Упрек был справедливый. Вакуленко огрызаться не стал, хотя в голове у него, как и всегда, когда в него летела подначка Иванникова, мгновенно созрел ответ. Покряхтывая и делая вид, что брошенные ему, Вакуленко, слова для него как слону дробина, он сел на смолистый чурбак и принялся неторопливо наматывать портянку на левую ногу.
А Иванникова зло взяло. Вакуленко всем своим видом как бы говорил: собака лает – ветер относит.
– Вот ведь привычка!.. – не унимался Иванников. – Как только начинают резать хлеб или разливать щи – он будто нарочно начинает сушить свои портянки.
– А я это для тебя делаю, Ивашка, специально для тебя. По-дружески.
– Непонятно, Вакула. Объяснить надо – как это по-дружески? – донесся из глубины землянки хрипловатый спросонья голос рядового Бурсова, до войны работавшего сборщиком на московском часовом заводе.
За словом ответным Вакуленко не пришлось лезть в глубокий карман солдатской шинели. Слова мгновенно завертелись у него на языке.
– Слыхал я, что у них с Рязани, как на севере у эскимосов, уж очень обожают еду с гнильцой. С запашком навроде портяночного. Специально для этого закапывают в землю рыбу или мясо, чтобы недели через две-три, когда от продукта уже песет конским кладбищем, вдоволь набить этим деликатесом свое кривое рязанское пузо.
Хохот разведчиков потонул в струистом мареве махорочного дыма.
– Комукать будем, братья славяне? – обратился сразу ко всем Олег Витарский, только что до блеска подчистивший дно бачка из-под каши. Не раз и не два схватывался он с Егором Богровым в споре – кто красивее: «Москва-матушка» или «Одесса-мама». Доходило до того, что Витарский, высмеивая, на его взгляд, дикие татарские и старомосковские названия улиц столицы – Арбат, Ордынка, Балчуг, Сивцев Вражек, Страстной бульвар, – обнажал на груди тельняшку, с которой никогда не расставался, и, чуть ли не взвизгивая, произносил, как ему казалось, ласкающие слух названия одесских улиц и местечек: «Дерибасовская… Ришелье!.. Лонжерон!.. Молдаванка!!! Пересып!!!»
Любили разведчики слушать спор одессита Олега Витарского и москвича Егора Богрова. Даже кое-что новое узнавали сибиряки, уральцы и дальневосточники, никогда не бывавшие ни в Москве, ни в Одессе, если не считать той бесконечно длинной темной октябрьской ночи, когда их воинский эшелон, прибывший с востока, крутили-вертели в тьме кромешной по Московской окружной железной дороге.
Серезидинов бросил на Витарского недовольный взгляд.
– Ты что, Одисса, в эшелоне, что ли? Защим комукать? Разве Серезидин разущился дилить хлиб и колбасу? Кто мы: развидчики или щущмеки?..
Серезидинова поддержал лежавший крайним на нарах Егор Богров. Вытаскивая из-за голенища сапога алюминиевую ложку с дыркой на ручке, он хохотнул:
– Серезидин!.. Да разве можно передать психологию коренного одессита? Ты уж прости его, грешного. Ведь он с Молдаванки, а там все такие. Там спичку разделят на четыре части, а потом дерутся из-за того, что кому-то на четвертушке досталось меньше серы. Ведь так, Одесса? – Конец фразы Богров произнес торжествующе, под хохот блиндажной братвы.
– Пас, Ордынка, пас!.. – Пораженчески кивая, проговорил Витарский и приложил руку к груди. На лице его цвела благодушная искренняя улыбка. Витарский тонко чувствовал юмор, знал ему цену.
– То-то, Одесса… Знай своих и почитай тех, кого зовут «ребята с Арбата».
– Сегодня, Ордынка, твоя взяла. Сдаюсь. Кремлевская колокольня Ивана Великого красивее Потемкинской лестницы в Одессе.
– Кончай балагурить! – неожиданно строго прикрикнул на разведчиков Казаринов. – Всем ложки в зубы, через час на выход! Не забывайте, что рекогносцировка сегодня будет сложной. Не обойдется без большой дуэли.
Разведчики, вытаскивая из-за голенищ валенок ложки, потянулись к ящикам, на которых стояли котелки (каждый из них свой котелок мог не только на глаз – на ощупь, с завязанными глазами, узнать по вмятинкам, по шершавинкам, по погнутостям дужек среди десятков других, чужих котелков) и двумя ровными рядками лежали пайки черного хлеба с кусками вареной колбасы.
– А вы, товарищ лейтенант? – спросил Иванников, увидев на ящике одиноко стоявший котелок и кусок хлеба с колбасой. – Остынет каша-то!..
– Успею. Сегодня с утра я – карась-идеалист. Сначала – духовное, потом ублажу желудок. Письмище-то приволок вон какое, тяжелее пайки хлеба.
Под звяканье ложек об оловянные котелки Казаринов распечатал письмо, присел на ящик поближе к блиндажной «люстре», сотворенной из гильзы 45-миллиметрового снаряда, в сплющенный обрез которой вместо фитиля была вдета широкая полоска сукна из комсоставской шинели. Захар Данилович – Казаринов расстался с ним в середине октября, оставив под его присмотром московскую квартиру, на часть которой тот уже имел юридическое право (был прописан постоянно), – писал:
«Здравствуй, дорогой Григорий Ларионович!
Во первых строках своего письма сообщаю, что мы все живы и здоровы, письмо Ваше получили, за что сердечно благодарствуем. Мы с Лукиничной были растроганы до слез, когда меня вызвали в райвоенкомат и сообщили, что Вы перевели на меня и на моих внуков денежный аттестат на 500 рублей в месяц. В тот же день Лукинична ездила в Елоховский собор ко всенощной, молилась на коленях за Ваше здоровье, благодетель вы наш.
А еще сообщаю Вам печальную весть: Ваша нянюшка Ефросинья Кузьминична 24 ноября скончалась в больнице. До последнего дня мы со старухой навещали ее два раза в неделю, носили ей что могли: компотик из сушеной вишни, яблочки с базара. Кто-то из ходячих больных вырезал из газеты «Правда» портрет Вашего дедушки Дмитрия Александровича, прилепил к картонке и поставил на тумбочку у ее изголовья. Нянечки сказали, что на портрет этот Ефросинья Кузьминична утром и вечером молилась, как на икону. Не подумайте, что она ослабла умом. До самого последнего дня все понимала, но речь и слух потеряла совсем. С того первого дня, когда Вы переступили порог своей квартиры. Пробовал я разговаривать с ней на пальцах, как немой, но она, не понимала меня. Получалось одно расстройство. А когда были у нее последний раз, она все показывала слабой рукой на свою подушку, а потом эту руку протягивала к окну и прикладывала к серебряному крестику на груди. Соседи говорили, что она была очень богомольная и по воскресеньям, а также по престольным праздникам всегда ходила на моление в Преображенскую церковь. Лукинична догадалась, что она хочет этим сказать. Когда мы пришли домой, она стала ощупывать две ее подушки, и в наволочке одной из них нашла сверточек с деньгами. В нем было ровно полторы тысячи. В свертке с деньгами лежала записка. В ней было написано: «На похороны». Нам сразу стало ясно, почему она все показывала на подушку и на крестик на груди. Это значит, что она просила нас, чтобы после смерти ее отпели в церкви.
Схоронили мы Вашу нянюшку на Преображенском кладбище. Отпевали в Преображенской церкви. Так что денег, которые остались от Ефросиньи Кузьминичны, хватило на все: на гроб, на копку могилы, на отпевание, на венок, на крест и на поминки. Помянуть пришли старухи из нашего и соседнего дома. Ездили они и в церковь, и на кладбище. Ушло на все это чуть побольше трехсот рублей. Те, что остались, Лукинична приберегла, отдаст, если вдруг объявятся ее родственники. Они, как Вы говорили, живут где-то на Смоленщине. Но вряд ли сейчас кто-нибудь оттуда приедет – там немцы.
Вы спрашиваете, как внуки? На это я Вам отвечу: старший ходит в отличниках, а Тарасик уже выучился читать печатными буквами.
И еще сообщаю, что за эти два месяца, как Вы уехали на фронт, на имя дедушки Вашего пришло много разных казенных и неказенных писем и телеграмм. Вначале я их копил на подоконнике Вашей комнаты, но после того как младшенький расклеил два казенных письма из Академии наук и хотел почитать их, я, чтобы он не делал самоуправства, все письма нераспечатанными подсовываю под дверь Вашего кабинета. Он со дня Вашего отъезда закрыт на два внутренних замка, опломбирован. Я каждый день смотрю с улицы на окна, там все в порядке, все стеклышки целы. Да если кто захочет поживиться – на пятый этаж вряд ли рискнет забраться, снизу высоко, а сверху над квартирой два этажа.
Еще сообщаю Вам, что после Вашего отъезда, это было 15 и 16 октября, в Москве творилась такая паника, что многие все побросали, позакрывали кое-как свои квартиры и кинулись на восток. Кто на чем мог. Поезда пассажирские забиты, некоторые ухитрились устроиться на товарняках в телячьих вагонах, на грузовых машинах с горючим, на подводах ломовых извозчиков, а кто и сам впрягся в телегу. Все, у кого оказалась гнилая душонка, кинулись из Москвы. Те, кого задерживали и не пускали на контрольных пунктах на заставах Москвы, сворачивали с больших дорог и дули по проселочным.
Ходили слухи, что где-то, не то в Александрове, не то в Звенигороде, разбежались из тюрем заключенные и хлынули в Москву. Ограбили несколько ювелирных магазинов, прошлись по брошенным квартирам. Милиция, говорят, в эти дни славно поработала. Хвалили милицию в газете «Труд» и в «Вечерней Москве».
Зима в этом году, по всем приметам, будет лютой. Дай-то бог. Говорил с нашими ранеными. Рассказывают, что немцы одеты легковато, будто собрались не на войну, а на танцы-банцы. Пусть нюхнут русскую зимушку. А наши ребята, видел я, едут из Сибири и с Дальнего Востока в одежке доброй: полушубки, ватные штаны, валенки, шапки-ушанки, меховые рукавицы. Народ для нашей Красной Армии ничего не жалеет, лишь бы разбить супостата. Подписался и я на облигации, внес полсотни и на подарки фронтовикам.
Третий раз сажусь за письмо и все никак не докончу. Уж больно хочется обо всем рассказать вам, дорогой наш заступник и благодетель Григорий Ларионович.
Да, чуть не забыл. Чернявские во время паники 15 октября тоже все бросили и с двумя чемоданами и тремя узлами отбыли неизвестно куда. Вы, наверное, их знаете, из третьего подъезда, из 64 квартиры. Сам где-то в госбанке работал, весь в сером каракуле, а сама – в чернобурках. Собаку свою, вы ее, наверное, тоже помните, оставили на меня. Немецкая овчарка, Барсом зовут, умница, каких не видал. Хоть и тоскует по хозяевам, но от меня не отстает ни на шаг. Внучата мои к ней привязались, старший из школы летит сломя голову и, когда мне некогда, прогуливает ее по двору. Я с Барсом делаю поздно вечером и утром обход брошенных в нашем доме квартир. До вчерашнего дня все было в порядке: и замки у всех целы, и окна целы. А сегодня рано утром в четвертом подъезде защучил одного ворюгу. Это, как мне сказали в милиции, куда я с Барсом его привел, был «домушник». Так называют бандюг, которые лазят не по карманам, а по квартирам. Руки все в наколках, лицо в шрамах. Если бы не Барс, мне с ним не сладить. Начальник милиции поблагодарил меня и тут же позвонил в домоуправление, чтобы мне дали Почетную грамоту.
Вот пожалуй, и все, о чем я хотел прописать Вам, дорогой Григорий Ларионович.
Еще раз спасибо Вам большое за аттестат. Все мы пока, слава богу, сыты, обуты и одеты, здоровье мое пока слава богу.
Кланяется Вам Степанида Лукинична, шлют Вам привет мои внучата. Они о Вас часто спрашивают, ждут Вас.
Остаюсь жив-здоров, чего и Вам желаю».
Грустно стало на душе у Григория, когда он кончил читать письмо. Никогда он уже больше не увидит самых близких, самых дорогих для него людей. В эту минуту он даже не знал, что бы делал сейчас, если бы не его бойцы, с которыми он делит поровну хлеб, патроны… В каждом из них он видел родного брата, преданного друга. Почти все они были его ровесниками. Моложе были только Егор Богров и тоненький Серезидинов. Чем-то он напоминал ему татарчонка Альменя, с которым он с тяжелыми боями отходил от самой западной границы до Гжатска. Погиб Альмень у церковной ограды в рукопашной схватке, заслонив собой Григория. Даже похоронить Альменя не смогли: после рукопашной по приказу командира дивизии пришлось сразу же отходить к Можайску. «Эх, Альмень, Альмень!.. Какими преданными глазами ты смотрел на меня, во всем стараясь походить на своего командира». Казаринов смотрел на Серезидинова, который, позвякивая алюминиевой ложкой о котелок, молотил кашу и нет-нет да посматривал на своего командира. И снова в голову Казаринову пришла мысль, которая, может быть, потом пробудит в нем протест и он назовет эту мысль ошибкой. «Есть, сохранилось в татарах нечто такое, что через десятки и сотни поколений пришло от орды. Той воинственной орды, которая находила упоение в битвах, в победах, в кровавых пиршествах и преклонении перед силой оружия и теми, кто умеет владеть этим оружием».
– Серезидинов!.. – громко позвал Казаринов.
– Слушаю вас, товарищ лейтенант! – вскочил с ящика Серезидинов.
– Если меня тяжело ранят и нас будут кругом обходить немцы, ты меня вынесешь с поля боя?
Вопрос этот, заданный, что называется, в лоб, для всех оказался неожиданным и, как всем показалось, каким-то чужеродным. Впрочем, для самого Казаринова тоже. Все даже замолкли, перестав стучать ложками о железные котелки.
Серезидинову слова командира показались обидными: почему Казаринов обратился с этим вопросом не к кому-нибудь, а именно к нему, Усману Серезидинову.
– А вы что… сомневаетесь, товарищ лейтенант? – Усман растерянно вытирал рукой лоснящиеся от маргарина губы.
Долго смотрели в глаза друг другу боец и командир. Первым не выдержал взгляда Казаринов.
– Ты не сердись, Усман. Этот вопрос я задал не только тебе одному, а всему взводу.
Разведчики молчали. Те, кто еще не справился с кашей, не решались шуметь ложками: всем было понятно внутреннее напряжение командира.
– Если будет такой минут и такой нужда, товарищ лейтенант, я даже Одиссу вытащу из любой огонь, хотя я его не ощинь люблю.
– А за что ты меня не любишь, Усман? – сиротливо прозвучал в углу землянки голос Витарского.
– Во-пирвых, за то, что ты плохой щастушка про миня нидиль назад сощинил, а еще за то, что, когда мы идем на захват нимса, ты всигда ползешь самый последний. А когда ползем назад, в свою сторон, ты всегда пирвай пересекаешь передовую. И по глазам твоим я вижу, что сирца твоя в груди трясется, как овещий хвост.
Усман был доволен: слова его вызвали глухой хохоток, прокатившийся в облачках махорочного дыма над земляными нарами. Все во взводе знали, что Серезидинов еще не погасил в своей душе обиду за частушку, которую неделю назад пропел Витарский, когда разведчики устраивались на своих нарах, готовясь ко сну.
Уловив минуту тишины, Витарский так, чтоб слышали все, бросил в полутьму землянки:
– Усман, я сочинил частушку. Хочешь пропою?
Серезидинов, не ожидая подвоха, обрадовался:
– Пропой, Одисса. Я люблю русский щастушка. Наша деревня русский девушка пели хороший щастушка!
И Витарский, прокашлявшись, подстраиваясь под акцент Серезидинова, запел во весь голос:
Есть кумыс – ковшом щирпаим,
Нет кумыс – болот бежим.
Деньга есть – Казань гуляем,
Деньга нет – Чишма сидим.
Вялый смешок, жиденько проплывший под тройным накатом землянки, тут же погас, как слабый огонек при сильном ветре. Зная обидчивость Усмана, разведчики сразу почувствовали, что грубая частушка Витарского саднящей занозой впилась в душу Серезидинова.
– Дурак ты, Одисса… И еще недоущка… Даже географий за шесть классов ни знаешь. Чишма не в Татарии, Чишма в Башкирии.
– Молодец, Усман!.. – подбодрил Серезидинова Егор Богров. – Врезал Одессе под самые микитки. Тоже мне Иван Андреевич Крылов с Молдаванки!..
И все-таки все во взводе, зная незлопамятность Серезидинова, были уверены: если вдруг Витарского ранят и он сам не сможет выползти с поля боя, Серезидинов, рискуя жизнью, вынесет его.
Случай с частушкой произошел неделю назад. И вот теперь вопрос Казаринова, обращенный к Серезидинову, словно ворохнул потухающий костерок обиды в душе Усмана. Ворохнул, но не дал ему разгореться.
– Спасибо, Усман. Я верю, в случае беды ты вытащишь из огня и меня, и Витарского, и любого другого. – Казаринов аккуратно свернул листы письма, положил их в конверт и подошел к ящику из-под патронов, на котором его одиноко ждал алюминиевый котелок с холодной кашей. – Братцы, я потерял ложку, – Казаринов, стуча по карманам, обвел разведчиков взглядом. И тут же расхохотался, увидев, как, словно по команде, к нему протянулось сразу несколько ложек.
Казаринов взял ложку у Серезидинова, присел на чурбак и принялся за еду.
Разведчики молча свертывали самокрутки, смотрели на своего командира. Каждый из них сердцем чувствовал, что письмо, полученное им из Москвы, было нерадостным.







