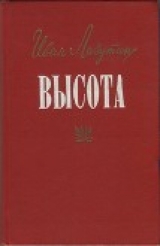
Текст книги "Высота"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
Выслушав просьбу Тюнькова, капитан отправился в отсек командарма и через несколько минут вернулся весьма озабоченным. Отведя полковника в сторону, за уступ блиндажного поворота, он доверительно сказал ему, что у командарма сейчас находится представитель Генштаба и они совещаются о чем-то очень важном и ответственном, а потому генерал принять его не может.
– А сейчас они к тому же по ВЧ разговаривают с Жуковым. Ваши слова прощания и благодарности я генералу передал, он их принял и пожелал вам успехов в учебе.
Никакого представителя Генштаба в отсеке командарма Говорова не было, и разговора с Жуковым по ВЧ он не вел. Ему было просто противно и омерзительно пожать руку человеку, который желал если не гибели ему, то беды непоправимой.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Огорчало Григория то, что вот уже четвертую неделю госпиталь находился на карантине и поэтому посещения раненых и больных были запрещены. Не пускали даже шефов с кондитерской фабрики. Однако вечерами, когда в продымленной курилке, где в дальнем углу находился телефон-автомат, было поменьше народу, Григорий подолгу разговаривал с Захаром Даниловичем. Тот, всякий раз повторяясь, в подробностях сообщал ему, что он, Лукинична и внучата живы и здоровы, что квартира в порядке и сохранности, что на имя деда пришло много писем со штемпелями. Пришли они в первые две недели после гибели академика. Все эти письма он бережет, за квартиру и свет аккуратно платит. Григорию желал от своего имени и от имени Лукиничны, а также внучат поскорее выздоравливать. Очень сожалел, что госпиталь так долго находится на карантине и он не может навестить Григория.
Сегодня утром перепечатанный текст тетради тяжелораненого майора Воронцова Григорий получил от машинистки и, разложив экземпляры, первый и второй передал майору, а третий, как и условились, оставил себе. В ушах Григория отчетливо звучали приглушенные слова майора, которые тот, пересиливая боль, процедил сквозь зубы:
– Сохрани, лейтенант… Если в этом кромешном аду войны затеряются мои экземпляры, то пусть память о тех, кто погиб на Бородинском поле, останется для потомков в твоем экземпляре. Один из своих экземпляров я отошлю в архив… Другой будет при мне.
Эти последние слова майора, лицо которого уже опахнула недалекая смерть, не давали Григорию покоя. Они не выходили из его головы даже тогда, когда он после обеда шел в курилку, чтобы позвонить старикам и сообщить им, что с сегодняшнего дня карантин в госпитале снят. Это сообщение очень обрадовало Захара Даниловича, и он долго срывающимся голосом расспрашивал Григория, как ему лучше доехать до Лефортова. А когда записал подробный адрес, сообщил, что сегодня утром на имя покойного академика шустрый паренек в серой кубанке с красной лентой привез какой-то толстый пакет, обернутый в пергамент. При упоминании о «каком-то» пакете сердце Григория сильно забилось. «Пакет в пергаменте… Кубанка с красной лентой… В гражданскую войну красные ленты на шапках носили партизаны… Какая связь?..»
– Захар Данилович, давай не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Собирайся побыстрее, я буду ждать тебя в холле четвертого корпуса. Сейчас закажу тебе пропуск. Не забудь взять с собой паспорт. И не забудь захватить все письма деду и обязательно привези пакет в пергаменте… – Григорий хотел еще раз сказать старику, как быстрее добираться до Лефортова, но тот перебил его:
– Ларионыч, сегодня не могу, Лукинишна пошла к обедне в Елоховскую церковь, придет не скоро. Не с кем оставить ребятишек.
Григорий перебил старика:
– Забирай с собой ребятишек, они нам не помешают, я и их хочу повидать, у меня для них есть гостинцы.
– А пустят? – прозвучал в трубке обрадованный голос старика.
– Пустят. Мне будет очень приятно повидать всех вас. В общем, я жду вас, Данилович. – Не дожидаясь ответа, Григорий повесил трубку, вытер со лба ладонью холодный пот, отошел от телефона и, повиснув на костылях, с минуту стоял неподвижно, остановив взгляд на прокопченной табачным дымом люстре. «Пакет в пергаменте… Паренек в кубанке с красной лентой… Может быть, от однополчан, кто не вырвался из вяземского котла и ушел в партизаны? Но почему на имя деда? Там, под Вязьмой, перед прорывом, когда получили приказ на вынос знамени, мы на всякий случай обменялись адресами…»
Всю субботу Григорий жил в напряженном ожидании старика с внучатами. Чтобы убить время, после обеда зашел к майору Воронцову, поправил ему одеяло, подушку, рассказал, что машинистка была растрогана до слез, когда он положил перед ней пачку новеньких червонцев. При этом даже как-то виновато сказала: «Я столько много не возьму».
Майор в ответ болезненно улыбнулся и тихо произнес:
– Пригодятся… Она молодая, здоровая, ей деньги нужны. А мне… – Не договорив фразы, майор закрыл глаза. – Спасибо, лейтенант. Ты сделал доброе дело. А машинистке при случае передай, что если она остро нуждается в деньгах, то пусть зайдет в седьмую палату к майору Воронцову. У меня еще есть деньги, которые тратить уже не на что. Мои родные далеко, на Украине, и денежные переводы туда не дойдут.
Выйдя из палаты, Григорий услышал, как кто-то из глубины холла, где раненые играли в домино, громко выкрикнул его фамилию.
– К тебе пришли, лейтенант!
Григорий резко повернулся на окрик и увидел: в широком проеме высокой двустворчатой двери палаты, в которой он лежал, напоминая чем-то большой белый гриб, рядом с которым по обе стороны возвышались два небольших белых грибочка, один меньше другого, стояли Захар Данилович, Тараска и Васек. Халаты на внучатах старика, перехваченные и подобранные у пояса, концами касались паркета. В руках старика была сумка.
Привычно выбрасывая перед собой костыли, Григорий несколькими широкими шагами достиг двери и, приставив «коней» к стене, заключил старика в крепкие объятия.
Два месяца назад, когда Данилыч прощался с Григорием, провожая его на передовую, он не проронил ни слезинки. Теперь же, обнявшись и расцеловавшись со стариком, Григорий почувствовал щеками не только его шершавую бороду, но и теплоту слез.
– А вот это уже совсем ни к чему, Захар Данилович, – мягко произнес Григорий, опираясь рукой о стену.
Старик ладонью вытер со щек слезы. Губы его нервно подрагивали, во взгляде проскальзывала какая-то виноватость.
– Нервишки сдают, Ларионыч… Война-то вон какая идет, не проходит недели, чтобы почтальон не принес три-четыре похоронки в мои дома.
Глядя на расстроенного деда, на его дрожащие пальцы – когда он стирал со щек слезы, – на приставленные к стене костыли Григория и на его толстую, замурованную в гипс правую ногу, зашмыгали носами Тараска и Васек. Ведь всего два месяца назад на нем хрустели, перехватывая плечи, новенькие, пахнущие спиртовой кожей ремни портупеи и широкий с большой пряжкой ремень. Вместо новенькой гимнастерки, к которой плотно прилегала кобура с револьвером, на Григории была застиранная полосатая больничная пижама, из-под которой выглядывала нательная рубашка. А каким высоким, красивым казался Григорий детям, когда, затянув на шинели ремень с двумя рядами дырок, ловко поднимал Тараску и Васька на руки и целовал их в щеки. Он уходил на войну.
Увидев заплаканные лица ребят, Григорий хотел как-то утешить их, но как – не знал.
– А вы-то что? Чего сырость развели? А ну, орлы, выше головы!.. – Григорий хотел было присесть, чтобы поцеловать детей, но сделать это не позволила раненая нога. – Васек, Тараска, вы же гвардейцы, а гвардейцы не плачут… Я уже иду на поправку, скоро врачи снимут с ноги вот эту броню и… – Григорий костылем постучал по загипсованной ноге, звук получился какой-то мертвенно-холодный, отчего дети сильно испугались. – И буду ходить вначале с палочкой, а потом заброшу ее.
Но эти слова не успокоили детей. Шмыгая носами, они уткнулись лицами в полы халата деда и продолжали всхлипывать.
Григорий заглянул в свою палату и, не желая нарушать режима тихого часа разговорами с гостями, кивком показал в сторону просторного холла, где рядом с большим кустом комнатной розы на диване сидел калека без обеих рук, на щеках, лбу и подбородке его голубовато темнели пороховые ожоги.
Из головы Григория не выходил пакет в пергаменте, но чтобы не обидеть Данилыча своим нетерпением, он начал расспрашивать его о том, как здоровье его и Лукиничны, как учатся внучата, рассказал, как его ранило. Но одновременно в голове пульсировала все та же мысль: «Пакет в пергаменте…» Когда Данилыч вытаскивал из холщовой сумки баночки с вареньем, горшочек с вареной и еще теплой картошкой, бутылку молока, заткнутую белой тряпицей, Григорий все ждал, когда же старик вытащит из нее письма и пакет.
И наконец дождался.
Вначале Данилыч достал «казенные» письма в больших и малых конвертах.
– Эти пришли еще в октябре. – Данилыч положил на стол перехваченную тесемкой пачку писем и снова запустил в сумку руку: – А вот этот пакет, как я вам уже вчера говорил по телефону, принес парнишка лет семнадцати, веселый такой. Я спросил его, кто он и откуда. Он в ответ рассмеялся и сказал: «Из леса, дедушка, из леса…» Отдал мне честь и ушел. Больше ни словечка не сказал.
Дрожащими руками Григорий с силой разрывал крепкую бечеву, несколько раз крест-накрест перехватывавшую пакет. Пять толстых запечатанных писем в один миг веером рассыпались на столе. И со всех пяти самодельных конвертов на Григория смотрел почерк Галины. Все письма были адресованы академику Казаринову.
Прижав письма к груди, Григорий закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. Он даже не услышал, как задетый локтем его костыль с грохотом упал на пол.
Не плакал Григорий, когда на его глазах рухнула в проран разбитого моста Галина. Не плакал, когда траурная мелодия Шопена, надрывая душу, плыла над могилами Новодевичьего кладбища, когда хоронили деда. А вот теперь… Теперь нервы не выдержали. «Уж не сон ли все это?» – подумал Григорий. И чтобы отогнать возникшие в голове мысли, широко открыл глаза, обвел невидящим взглядом старика и детей. Смахнув рукавом пижамы слезы, начал лихорадочно перебирать письма Галины. Взгляд его нервно скользил по округлой вязи ее почерка, который он мог узнать из миллионов других почерков по буквам «р», «з» и «д». На каждом конверте стояла дата и порядковый номер.
– Захар Данилович, это от нее…
– От кого? – не понял старик.
– От жены… От Галины… Я ведь был уверен, что она погибла. На моих глазах она упала в Днепр, когда вышла из кабины санитарной машины… – Григорий, склонив голову, ладонями закрыл глаза и с минуту сидел неподвижно.
Старик все понял. Он быстро собрал в сумку принесенные гостинцы, встал, распрямился и, расправив плечи, спросил:
– Куда лучше все это поставить? Где ваша кровать?
Григорий, глядя куда-то в пространство, произнес:
– Моя койка в правом углу у окна. Рядом с ней голубая тумбочка. Поставьте все туда. Лукиничне от меня привет. А сейчас… – Григорий потряс перед собой письмами, – я весь в этих письмах. Они написаны Галиной.
Данилыч шмыгнул в палату и через минуту вернулся.
Дети хоть и не понимали, что произошло нечто очень важное, но сердцем почувствовали, что приходом своим они привнесли в жизнь дяди Гриши что-то очень радостное, и на лицах их засияли светлые улыбки.
Положив письма в широкий карман пижамы, Григорий подхватил костыли, стремительно привстал, жестом дал понять старику и внучатам, чтобы они подождали его, ушел и скрылся в своей палате. А когда вернулся, дети увидели в нагрудном кармане пижамы две длинные толстые шоколадки.
– А это, хлопцы, вам от меня и от наших шефов с фабрики «Красный Октябрь». Специально для вас берег.
Глаза детей сияли восторгом.
Данилыч весь аж светился от радости и не мог спокойно стоять на месте.
– Еще моя покойная бабушка заметила, что рука у меня, Ларионыч, легкая. Рад я за вас. Вместе со старухой будем молиться за ваше здоровье. Когда что нужно будет – только позвоните, я мигом приеду. Теперь блудить не буду, дорогу запомнил. – Старик положил свои натруженные руки на головки внучат: – Ну, хлопцы, пошли. Пожелаем дяде Грише скорое поправляться и возвертаться домой.
Когда старик с внуками скрылся за дверью, ведущей в старинный госпитальный сад, о котором говорили, что он был посажен еще в петровские времена, Григорий, повиснув на костылях, остановился у окна – решал, куда лучше двинуться, где найти уединенное местечко. Такое место оказалось в красном уголке отделения, где во время тихого часа почти всегда было безлюдно.
Достав из кармана пачку пронумерованных писем, он взял первое, а остальные засунул за борт пижамы. Письмо было написано фиолетовыми чернилами. До бесконечности знакомая и родная вязь букв, сотканных в строки, поплыла перед глазами Григория.
«Дорогой Гриша!
Это письмо пишу с единственной надеждой – что бы с нами ни случилось (а на наших глазах погибло столько боевых товарищей), пусть это письмо будет воздушным мостом между нашими сердцами и нашими судьбами. Если бы у меня была всего-навсего одна сотая процента веры, что эти строки ты когда-нибудь прочтешь, то и в этом случае я писала бы тебе. Только теперь я поняла людей, которые в тюрьмах и концлагерях, перед тем как идти на казнь, прощальный крик души выражают в написанных кровью словах. Но, к счастью, я не иду на казнь. Передо мной на расшатанном сосновом столе стоит белая непроливашка с чернилами, а в руке – обгрызенная чьими-то детскими зубами ручка с пером «Рондо», которое я в школьные годы очень не любила. И пишу не на обычной бумаге из школьной тетради, на которой мы писали с тобой в детстве, а в толстенной амбарной книге, которую мне подарила приютившая меня хозяйка, милая русская крестьянка, мать колхозного счетовода, мобилизованного в первую же неделю войны. О том, как я попала в этот приют, даже вспоминать страшно. Начну с того момента, как мы с тобой расстались, когда наша дивизия с боями отходила на восток. Наш полевой госпиталь из вражеского мешка выходил последним. За нами шли как арьергард восемь наших танков с пехотой на борту. Их настигала армада немецких танков. Я ехала на последней санитарной машине вместе с тяжелоранеными. Даже простым глазом было хорошо видно, как, отходя, наши танкисты упорно защищали нашу госпитальную колонну. Но танки буквально таяли на наших глазах: взрывались, обволакивались черным облаком дыма, горели… До моста через Днепр дошел только один наш танк. А дальше… Дальше все было, как в страшном сне, от которого и сейчас, как только вспомню, озноб пробегает по телу. Когда хвост нашей колонны проходил по мосту через Днепр, левая половина моста на моих глазах поднялась в небо хаосом бревен и балок, а также обломками разбитых санитарных машин. Шофер мой успел затормозить и выскочил из кабины. Выскочила и я. Сработал, видимо, инстинкт самосохранения. Шофера сразу же сразило пулей или осколком. Время исчислялось секундами. А дальше… Разрыв снаряда я услышала, это было где-то совсем рядом, сзади. Все, что произошло дальше, я могу только додумать. На моем теле ни одной ранки, ни одной царапины. С моста меня сбросила в Днепр воздушная волна. Теперь я в этом уверена. А когда очнулась, то в первую минуту никак не могла понять, что со мной. Голова кружится. Тело горит. Еще в детстве я читала, что тонущий человек, потеряв сознание, испытывает блаженные минуты сладостного тепла. В сознание меня привела холодная водица моего ангела-хранителя Днепра. Окончательно придя в сознание, я нашла в себе силы вынырнуть. Очевидно, кроме инстинкта спастись помог мне и мой опыт мастера-пловца. Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Перед моим носом, когда я вынырнула, была не соломинка, а длинное толстое бревно с вбитыми в него скобами. Ну а дальше… Дальше все пошло как в народной пословице: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». И я не утонула. Я сильно ослабла, а правый берег Днепра крут, как все правые берега рек на земном шаре. Выбраться из колыбели Днепра помог мне старичок рыбак, дай бог ему здоровья и счастья на всю его оставшуюся жизнь. Рыбалки у него в тот день не получилось. Помешали немцы и я, горемычная, которую он увидел в Днепре. Силенок дотащить меня до деревни (а это около двух километров) у него не хватило – ему уже шел восьмой десяток. Зовут его Никодим Евлампиевич. Седенькой бороденкой и хлипким телом он напоминает Калинина, только целое лето не бритого и не стриженого. А доброты и ласки в глазах – море. Он помог мне выбраться на берег, снял с меня шинель, гимнастерку, надел на меня свою рубаху и латаную телогрейку, перетащил в кустики, а сам в надетом на голое тело рыбацком дождевике двинулся в деревню.
Через час (о, каким же мучительно долгим показался мне этот час!) старик вернулся на лошади, запряженной в телегу. Приехал со своей старухой. В узелке привезли мне все то, во что, по самым скромным деревенским понятиям, чтобы не осудили люди, должна быть одета деревенская женщина: холстиновая нательная рубаха, юбка в сборку, застиранная байковая кофта со смешной застежкой из разных пуговиц, серые шерстяные чулки с резинками выше коленей. Резиновые глубокие галоши, сделанные из автомобильной камеры, показались мне пудовыми. На голову старуха надела мне клетчатый платок, какие я видела на кустодиевских женщинах и на рыночных торговках. А когда старушка помогла мне обуться (я была очень слаба), то от взгляда ее не ускользнуло мое «интересное положение». Даже глаза засветились как-то по-матерински нежно и по-женски участливо.
– О, да ты, девонька, не одна. На каком месяце-то? Поди, на седьмом?
Угадала. И то, что угадала, было ей приятно.
– Я сама троих родила. Двое, царство им небесное, полегли в гражданскую, а младшенького как взяли в первую неделю войны, так ни слуху ни духу.
В деревню мы въехали, когда уже совсем стемнело. Было хорошо слышно в тумане, как по большаку, в версте от деревни, грохотали на восток танки и орудия на автоприцепах. Собаки надрывались в лае, и даже петухи горланили как-то по-особому, будто наступал конец света.
Старики оказались умными и очень осторожными. Сразу же, как только привели меня в избу, Прасковья Ниловна, так звали старушку, о чем-то переговорила с Евлампиевичем, с супругом, когда тот распрягал лошадь, и сразу предупредила меня:
– Заруби себе на носу, доченька, ты теперь никакая не военная. И нам не чужая.
– А кто же я вам, бабушка?
– Ты моя племянница, беженка ты, из Минска. Все в деревне знают, что в Минске у меня живет младший брат, на заводе там работает токарем, он там сызмальства. Как в голодовку уехал туда с соседом, так и осел там. Женился, дети пошли, старшая дочь, в твоих годах, медсестрой в поликлинике работает, Глашей зовут.
– А как фамилия Глаши? – на всякий случай спросила я.
– Фамилия?.. Фамилия-то у нее, как и у меня, когда была в девках, чудная. Мордашкина у нее фамилия. Чего ты смеешься-то? Ничего тут смешного нет…
Лицо Ниловны сразу как-то даже посуровело от моего дурацкого хохотка. С трудом подавила смех. Подумать только: была военврачом Галиной Казариновой (звучит-то как!.. Как колокол вечевой в древнем Новгороде!..), а тут вдруг упала с моста в Днепр и стала Глашей Мордашкиной. Уверена, что, если прочитаешь эти строчки, улыбнешься, муженек Глаши Мордашкиной. Но раз надо – буду Мордашкиной. Назовите хоть горшком – только не ставьте в печь.
Все, что было на мне, Прасковья Ниловна выстирала, высушила, аккуратно сложила и вместе с сапогами, планшетом и высушенными документами завязала в узел. Прятали вместе. В подполье у них есть хитрый тайник, на всякий случай сооруженный Евлампиевичем еще летом. Такой не обнаружит и Шерлок Холмс. Не буду тебе описывать его. Если суждено будет встретиться, расскажу поподробнее.
Лекарства и бинты с санитарной сумкой прятать не стали: ведь я медсестра из поликлиники в Минске.
Евлампиевич работал в колхозе конюхом. Держал на своем дворе лошадь со сбруей и телегу. Как он сказал мне: все это положено по штату. Хозяйство у них немудреное: корова, годовалый бычок, десяток пестрых кур и горластый петух, да табунок уток. Но всему видно – настоящие русские труженики, в избе чисто, правда, вот от тараканов не хотят избавляться. А когда я предложила повести борьбу с тараканной ордой, что тучами ходит по печному чувалу, Ниловна подперла подбородок рукой, тяжело вздохнула и сказала: «Пусть живут. Выведешь тараканов – уйдет из дома сверчок. А уж если сверчок покинет избу, значит, жди беды – если не к пожару, то к покойнику». Так что мои услуги были отвергнуты.
Первую неделю меня трепала температура: сказалась дпепровская купель. Но, слава богу, обошлось без воспаления легких, отделалась простудой, которая обметала мои некогда «сахарные уста» волдырями. Эти подробности пишу тебе для того, чтобы ты видел меня в эти минуты. У тебя с твоим воображением это, наверное, получится и вызовет на твоем по-рахметовски жестком лице добрую улыбку. А я так давно не видела твоей улыбки! Ты даже снишься мне суровым и молчаливым.
Репродуктор – черная картонная воронка в железном обруче – висит на стене почти рядом с иконами в красном углу, но вот уже две недели молчит. Евлампиевич сказал, что немецкая разведка отрезала провода и спилила телеграфные столбы. Так что информацию о том, что творится на белом свете, я получаю от Евлампиевича, и она, эта информация, очень бедная, вмещающаяся в несколько горьких слов: «Пруть… Пруть гады!.. Пруть днем и ночью, и конца им не видать…»
Все мои мысли, Гришенька, о тебе. Снишься ты мне почти каждую ночь. Мужчин в деревне совсем нет. Большинство были призваны в армию в первые же дни войны, а те, кто годами млад или стар и не подходит к службе, как по секрету сообщил Евлампиевич, ушли в места, где когда-то делал свое дело «Давыд Денисов». И сколько я ни пыталась убедить Евлампиевича, что он путает имя с фамилией, он стоит на своем: «Давыд Денисов». О Сеславине, говорит, не слыхал, хотя, если верить истории, в этих местах, где я сейчас вздыхаю как полонянка, когда-то наводил на французов ужас Сеславин.
Старички относятся ко мне, как к родной дочери, жалеют, оберегают. Подкладывают лучшие кусочки. Ниловна учит меня ткать холст на станке. У них, у смолян, это издревле.
Колхозное стадо, как сказала Ниловна, было угнано на восток еще в августе, всех выездных лошадей вместе со сбруей взяли в Красную Армию. Евлампиевич хмурится, вздыхая, говорит, что остались на конном дворе одна «шкеть» и «худоба», даже на колбасу татары не возьмут. Ниловна утром и вечером на коленях молится богу перед образами. А вчера меня позвали в соседнюю избу оказать помощь тяжелораненому командиру. Извлекла из его ноги семь осколков и обработала рапу. Как и меня, его приютили ценой большого риска за собственную жизнь. Разговорились. Москвич. С какой-то Якиманки. Разговор у него, как и у тебя – мягкий, с протяжным «а». Он, как и ты, с боями отходил с первых же дней войны. Бородища отросла, как у Карла Маркса. А ему еще нет и тридцати.
На этом, милый, кончаю свое первое письмецо-ласточку. На душе даже стало полегче, вроде бы поговорила с тобой. Правда, не поговорила (ведь ты-то молчишь), а рассказала о себе.
Если бы верила в бога, вместе с Ниловной часами стояла бы на коленях перед образами и молилась за тебя. Но увы… Приходится только светлой завистью завидовать Ниловне.
Все письма к тебе (а их может накопиться не два и не три) буду нумеровать. Если случится оказия, перешлю их все сразу в Москву твоему (теперь уже и моему) дедушке. Полевой почтой, если даже узнаю твой адрес, посылать не буду. Военная цензура, как любил выражаться старшина нашего медсанбата, их «уделяет, как бог черепаху». Черной туши у военной цензуры на мои на положенные уставом откровения хватит.
Целую тебя – твоя Глаша Мордашкина».
В глазах Григория буквы строк струисто колыхались, плыли, заволакивались туманом. Он крепился, чтобы не разрыдаться. Закрыл глаза. Даже не услышал, как в красный уголок, неслышно ступая по ковру, вошла старенькая согбенная няня, которую раненые ласково называли «божьим одуванчиком». Обеспокоенная тем, что видит плачущего раненого, няня сокрушенно запричитала:
– Милый ты мой, да ты, никак, плачешь?.. Да что с тобой, голубь сизый? Ай уж так болит, что нет мочи?.. Я сейчас пойду скажу дежурной сестре… Укольчик сделает – и враз полегчает.
– Ничего не болит у меня, няня… – тихо проговорил Григорий.
– А что же ты весь в слезах?
– Весть хорошую получил…
– Что же пишут-то тебе, сынок?.. Поди, из дому?.. Все живы и здоровы?
– От жены… Считал, что она погибла, а она жива-здорова…
Няня, подняв седую как лунь голову, закатила глаза и трижды перекрестилась:
– Сохрани, господь, женушку твою и тебя, сокол ясный… – Поправив сползающий с головы платок, тоном легкого упрека проговорила: – А плакать-то, родимый, когда господь бог добро посылает, – грех. Уйми слезки-то свои, сокол ясный.
– Хорошо, нянечка, не буду больше. – В руках Григория дрожал конверт, на котором пером «Рондо» было жирно выведено: «Письмо второе».
Видя, что раненому разговор становится в тягость, няня, шлепая разношенными тапочками по старинному дубовому паркету, вышла из красного уголка.
Второе письмо было написано все теми же фиолетовыми чернилами, тем же пером.
«Гриша! Родненький!
Пишу тебе второе письмо. Даже мысли не допускаю, что ты его когда-нибудь не прочитаешь. Верю: хоть через полгода, хоть через год (как долго!), но прочитаешь и, может, даже над некоторыми строками взгрустнешь, а кое в каких местах улыбнешься. Я уже почти оклемалась, как определили мое состояние старички, мои ангелы-хранители. Работы у меня по моей специальности прибавляется с каждым днем. За прошедшую неделю, можно сказать, спасла жизнь двум тяжелораненым красноармейцам из соседней деревни, куда меня возил на своей лошаденке Никодим Евлампиевич. Дорогой он мне рассказал про свою «жисть». А когда после операции возвращались домой, он из-под подкладки голенища сапога достал листовку, сброшенную с нашего самолета. В ней говорилось прямо: все, кто очутился в тылу противника, должны ценой жизни прорываться через линию фронта к своим. Евлампиевич с этой листовкой не согласен. У него на этот счет свое мнение. Разгорячившись, он стал меня убеждать:
– А ежели человек ранен, ежели сил у него нет добраться до линии фронта?! А если и доберется, то сгинет перед немецкими окопами. Нашего красноармейца за версту видать.
Очень хвалил председателя колхоза, которого немцы пока не трогают. Всех, кого носят ноги, он направляет в леса. А куда, в какие места – пока только он один и знает.
А теперь хоть и тяжело об этом рассказывать, но и умолчать не могу, вот уже третью неделю с утра до вечера гонят проселочными дорогами наших пленных. Но автостраде не гонят, по ней день и ночь идут на восток колонны танков, самоходок, автомашин, тянутся обозы груженых повозок… Неделю назад пленных гнали по автостраде. Было уже, как рассказывают местные жители, несколько случаев, когда пленные бросались под гусеницы немецких танков и под колеса бронетранспортеров. Срабатывает приказ Сталина: «Лучше смерть, чем позорный плен». А был случай, когда бросившийся под танк красноармеец подорвал его. Каким-то чудом он сохранил при себе противотанковую гранату. После этих случаев немцы в нашей округе стали осторожничать: гонят колонны пленных по бездорожью, по болотам, по заброшенным проселочным дорогам. Тех, у кого нет сил идти дальше (больных и раненых), выводят из колонны и пристреливают у обочины. А какое пиршество у воронья!.. Обо всем этом мне рассказывает Никодим Евлампиевич.
Всякий раз, когда мимо нашей деревни гонят колонны пленных, женщины, дети и старики высыпают к дороге. Почти у каждого за пазухой, под полой или под шалью – у женщин, ломоть хлеба, калач или пяток вареных яиц в тряпице. И хотя конвоиры строжатся, старушки и дети ухитряются (рискуя попасть под удар приклада автомата) подскочить к колонне и передать одному из крайних свои скромные спасительные дары.
А вчера и я была в этой горестной длинной толпе-цепочке, когда через нашу деревню гнали колонну пленных. Я всматривалась в давно небритые посеревшие и грязные от пота и пыли изможденные лица. На многих пленных гимнастерки и брюки превратились в грязные рубища-лохмотья. С трудом волоча ноги, они смотрели на нас, замерших у обочины, и было в их глазах столько вины и боли, что у меня от волнения перехватило дыхание. Я внимательно вглядывалась в их лица и боялась увидеть среди них тебя. Не знаю: выдержало бы мое сердце, если в этой колонне я бы увидела тебя? Судя по военной форме, среди пленных были и командиры. Капитан, у которого я вчера извлекла из ноги несколько осколков, сказал мне (а он из нашего с тобой корпуса), что под Вязьмой попали в котел несколько армий. Он тоже в составе стрелковой дивизии вел остатки своего батальона на прорыв, но был тяжело ранен. Физически это очень сильный человек, у него хватило сил, воли и мужества самому перевязать себе раны и уползти в ближайший лесок, где на третий день его нашли колхозники и ночью привезли в деревню. Я уже дважды перевязывала его раны. Он твердо сказал мне: как только поднимется на ноги – сразу же уйдет в партизаны. Когда я рассказала ему все о себе и о тебе, он в меня поверил и поведал под большим секретом, что в лесах нашей округи сколачивается и с каждым днем растет партизанский отряд, которым руководит человек из подпольной группы обкома партии. Фамилии этого человека капитан пока еще не знает, но председатель колхоза уже дважды заходил к нему (капитана приютила мать бригадира колхоза, сам бригадир мобилизован в первые дни войны), а его красивая молодая жена где-то прячется в лесах, боится, чтобы немцы не надругались над ней и не угнали в Германию. Председатель колхоза спрашивал капитана, кто делает ему перевязки. Но без моего согласия капитан пока председателя не вывел на меня, но заверил, что председатель – человек надежный.
Слухи день ото дня все хуже и хуже. Говорят, что заняты Медынь, Холм-Жарковский, Юхнов, что бои идут где-то под Можайском. Не хочется верить этим слухам.
Я очень люблю разговаривать со своими старичками. Учились они на своем веку всего одну зиму: от рождества до пасхи. Как только научились мало-мальски читать и с горем пополам писать, «академия» их сразу кончилась. Но какие это мудрые, добрые и очень мужественные люди. Сами спят на печке. Мне отдали широкую деревянную (на ней спали еще дед и бабка Никодима Евлампиевича) кровать в горнице: боятся, что, спускаясь с печки, могу оступиться и, чего доброго, «выкинуть». Ниловна успокаивает меня: когда придет срок, Евлампиевич запряжет гнедка и «не успеет выкурить цигарку», как бабка-повитуха Иониха (из соседней деревни), известная на всю округу своим мастерством, будет у них на пороге.







