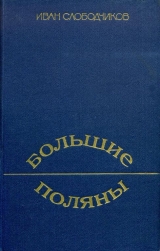
Текст книги "Большие Поляны"
Автор книги: Иван Слободчиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
6
Из клуба Торопов и Уфимцев вышли последними. Машина стояла уже тут, поджидала Торопова, и как ни уговаривал его Уфимцев остаться ночевать, он не согласился, сославшись на неотложные дела, которые предстояли завтра.
– Садись, довезем до дому, – предложил Торопов.
Они сели на заднее сиденье, и машина покатила.
– Молодец у тебя старик Микешин. Умница! – сказал Торопов и похлопал Уфимцева по коленке. – Понимаешь, я уже начинал побаиваться. Эта Тетеркина, похоже, та еще баба, чуть не увела собрание, и тут он... Нет, умница, ей-богу, умница! Государственного ума человек!
Уфимцев молчал. У него было настроение уставшего человека, сделавшего трудное дело, когда не хочется ни говорить, ни думать, хочется сидеть вот так и слушать.
– Но каков Векшин! – повернулся на сиденье Торопов и ткнул Уфимцева кулаком в плечо. – И это заместитель председателя колхоза? Где ты откопал этого допотопного человека?
– По наследству достался, – улыбнулся Уфимцев.
– Освобождайся от него. И чем скорее, тем лучше. Это не помощник, это полпред всего отсталого, что еще есть в наших колхозах. Олицетворение мелкособственнических инстинктов. К тому же демагог высшей марки. Что у вас молодых, перспективных людей в колхозе нет?
– Есть, конечно, – ответил Уфимцев и подумал о Сараскине, о Попове.
Вот и квартира. В доме темно, тетя Маша уже спит – время за полночь.
Они вышли из машины, остановились, поговорили немного, потом Торопов, пожелав спокойной ночи Уфимцеву, сел рядом с шофером, и машина ушла.
Уфимцев остался один. Когда в черноте ночи растворился огонек стоп-сигнала «газика», и он глубоко, всей грудью, вздохнул, поднял голову, посмотрел на бесчисленные звезды и ему расхотелось идти в дом, забираться в душную комнату, нагревшуюся от солнца за день. Он сел на скамеечку у ворот, вытянул ноги, привалился к забору и закрыл глаза.
Послышались шаги. Кто-то осторожно, стараясь не стучать обувью, шел к нему, прижимаясь к забору. Уфимцев всмотрелся: по фигуре, по одежде это была женщина. Вот она подошла, опустилась рядом, сняла платок. Груня! Он отшатнулся, на какой-то миг растерялся от ее появления. Он совсем не ожидал встретить ее сейчас, ночью, у своего дома, за столько километров от Репьевки.
– Как ты сюда попала? – только и спросил он, вглядываясь в ее лицо, все еще не веря, что перед ним Груня.
– Из Репьевки пришла, – тихо прошептала она. – Тебя с вечера жду.
– Надо же! – удивился Уфимцев, и что-то тревожное шевельнуло его сердце.
Вдруг Груня качнулась, коротко всхлипнула, ткнулась головой ему в грудь.
– Чего ты? Чего ты? – испугался Уфимцев. Он помедлил, потом обхватил ее голову, нащупал брови, мокрые щеки. – Не надо... Не надо плакать.
– Не могу я без тебя, Егор... Нету мне больше жизни без тебя, – шептала торопливо она и терлась, терлась лицом о его рубаху.
Вдруг оторвалась от него, схватила за руки:
– Ты думаешь, это я сказала про выбраковку коров? Разве я могла на тебя руку поднять?
– Верю, Груня...
– Как узнала вчера, всю ночь не спала. А вечером побежала, не выдержала.
Уфимцеву страшно было слушать ее, убежавшую из дому ради него. И вместе с тем было жалко до слез, до немоты за безрассудную любовь, которую не могли остановить ни ревность мужа, ни расстояние, ни темная ночь. Он обнял Груню, прижал к себе. Она глядела на него широко раскрытыми глазами, блестевшими от слез.
– Господи! Какая я счастливая! Опять с тобой... Поцелуй меня, – попросила она. – Поцелуй... в последний раз. Больше никогда... никогда...
Он не дал ей договорить, прижался к ее губам. Она тихо-тихо застонала.
И тут что-то сломалось у него внутри, кровь бросилась в голову, застучала в висках. Он подхватил Груню на руки, толкнул ногой калитку и пошел со своей ношей под навес. Под навесом запел потревоженный петух, ему ответил второй, третий...
Пели петухи, надрывались, будоражили тишину ночи.
Глава пятая
1
«Какая сила живет в этих людях? – думал Уфимцев. – Что ими движет, заставляет так работать?».
Он ехал по узенькой полевой дорожке Заречья к комбайнам, начавшим убирать пшеницу. Солнце уже катилось к Санаре, падало в кусты. Воздух дрожал и светился, а по низам дымились травы, вспыхивали и гасли речные плесы.
Он только что был на полевом току. Его удивила ненасытная жажда работы у людей. Никогда она так не бросалась в глаза, как теперь, когда наступила страда.
Особенно поражали женщины. Завязав рты платками, чтобы не лезла пыль, они крутились возле зерноочисток, отгребали зерно, таскали его пудовками, набивали мешки. Стучали решета, гудели подъезжающие за зерном машины, кричали шоферы, носились по току с воплем ребятишки. В нечастые перерывы, когда умолкали веялки и на току становилось непривычно тихо, женщины, прочихавшись от пыли и накричавшись на ребятишек, еще находили в себе силы пошутить, посмеяться, а то и запеть негромкую песню. И так каждый день, от темна до темна.
«Может, это извечная радость крестьянина, что его труд овеществился, превратился в хлеб, дарующий ему жизнь, и он снимает этот плод труда, радостный и тяжкий, и страдные дни становятся для него праздником?»
Уфимцев не раз наблюдал, как старики, увидев кучу провеянного зерна, торжественно подходили к ней, бережно брали зерно в горсть, пересыпали с ладони на ладонь, потом клали в рот, жевали, жмурясь, и восхищенно чмокали:
– Хороша пышеничка!
«А может, материальная заинтересованность движет? Чем больше поработаешь – больше заработаешь?»
«Нет, это радость труда, без нее человек не может жить на земле. И труд этот еще желаннее, еще радостнее, если вознаграждается таким вот урожаем», – заключил свои мысли Уфимцев.
И погода для уборки нынче на редкость хороша: дни стоят солнечные, ночи ясные. По утрам иногда выпадают росы, они задерживают начало работ, но ненадолго.
Перед началом уборки, посоветовавшись с Поповым и со Стенниковой, Уфимцев решил не косить овес на сено, а оставить дозревать на зерно, не доводя об этом до сведения управления. Сена и заложенного силоса хватало с лихвой на зимовку скота, и овес – пусть наполовину – возместит потребность хозяйства в зернофураже, а это уже в какой-то мере выход из создавшегося положения.
Вселяла надежду и картошка, посаженная в Шалашах: кусты ее так ныне разрослись, закрыв землю плотным темно-зеленым ковром, что ее хватит не только на корм хрюшкам, но останется и для продажи – плана сдачи государству колхоз не имел. А продать картошку – это хорошие деньги!
Радостное настроение Уфимцева, переполнявшее его в первые дни уборки, неожиданно омрачилось. Выяснилось, что колхоз не в состоянии выполнять график хлебосдачи, хотя на токах скопилось много зерна. Присланные из райцентра пять автомашин пришлось поставить на вывозку зерна из-под комбайнов, свои машины не оправлялись.
Но не только график хлебосдачи омрачал настроение Уфимцева. Сегодня его потрясло известие, что Груня Васькова ушла от мужа, приехала жить к отцу.
Еще утром поведение вездесущей, всезнающей тети Маши обеспокоило его. Обычно словоохотливая, она за завтраком была молчалива, насуплена и не глядела на Уфимцева. Он не стал расспрашивать, что с ней, – торопился, попил чаю и ушел.
И лишь в конторе колхоза Стенникова, подавая чековую книжку на подпись, открыла причину недовольства тети Маши.
– Аграфена Трофимовна в Большие Поляны вернулась.
– Как вернулась? – недопонял Уфимцев. – Кто сказал?
– Сама видела. У отца живет. И дочка с ней... Говорят, разошлась с Васьковым.
Новость, сообщенная Стенниковой, ошарашила его. «Зачем это она? С какой стати?» Он не сразу пришел в себя, сидел, держа в руках раскрытую чековую книжку, позабыв о ней. Лишь взглянув на Стенникову, увидев в ее глазах любопытство, взял себя в руки.
– Для чего вы мне это рассказываете?
– Чтобы знали, – уклончиво ответила Стенникова. – Может, и пригодится... Все-таки нашей колхозницей была.
Уфимцев понял, какую цель преследовала Анна Ивановна: предупредить его сейчас, чтобы не растерялся в другом месте, когда узнает о поступке Груни. Видимо, тоже слышала про сплетню. Он нахмурился.
– Ни к чему мне это знать.
Но он сказал неправду. Что бы ни делал сегодня Уфимцев, где бы ни находился, возвращение Груни в Большие Поляны не выходило из его головы...
Он выехал к полю, где работали Семечкин и Федотов. Солнце уже садилось, в его свете виднелись кучки желтой соломы, идущий вдоль валков комбайн, за которым плыло подсвеченное облачко пыли.
Навстречу Уфимцеву шла груженная зерном машина, тяжело покачивая бортами. Шофер, высунув голову из кабины, улыбаясь и блестя зубами, крикнул ему что-то похожее на «попался» или «сломался» – Уфимцев не понял, – машина прошумела мимо.
«Что там случилось?» – встревожился он, вглядываясь в поле. Поле было узкое, и в том конце, возле колочка, он увидел второй комбайн, над которым не вилась пыль. «Стоит... Неужели авария?»
Он свернул с дороги и поехал вдоль валков, где только что прошла машина. Еще издали он увидел голубой берет Попова. Подъехав ближе, узнал комбайн Семечкина. Сам Пашка сидел на кучке соломы, курил, сбив кепку на затылок, Попов стоял рядом. А в стороне, у соломокопнителя, топорщилась фигура Тетеркина. «Безусловно, авария. Пашка зря стоять не будет, не тот человек».
– Что стряслось? – крикнул он, заглушив мотоцикл.
– Хомяка поймали, – ответил Попов и посмотрел на Тетеркина.
Тот стоял к ним спиной, засунув руки в карманы длиннополого пиджака. Широкие шаровары юбкой висели на нем, скрывая ботинки.
– Какого хомяка? – не понял Уфимцев. Он оставил мотоцикл, подошел к Попову. – Почему стоите? Сломалось что-нибудь?
– У Никанора Павловича совесть сломалась.
– Да говори ты толком, черт возьми! – рассвирепел Уфимцев. – Сейчас не время шутить.
– Тетеркина с зерном поймали, – сказал Семечкин, как будто о чем-то обычном, и, плюнув на цигарку, отбросил ее в сторону.
– Как... поймали? – удивился Уфимцев, посмотрел на спину Тетеркина. Он вспомнил встреченного им шофера, его улыбку и слова, среди которых, он теперь понял, было слово «попался». – Рассказывай, агроном.
Он только сейчас разглядел, как взвинчен Попов, как у него дрожали руки, когда он совал расческу, не попадая ею в грудной карман.
– Я еще вчера заметил, когда Тетеркин домой поехал, что-то у него штаны разбухли, – сказал Попов, намного успокоившись. – Он каждый вечер в село ночевать ездит, здесь ему, видите ли, условий нет... Сегодня тоже собрался ехать с попутной машиной, я хлоп его по карману, а там зерно. И в другом кармане зерно... Во какие карманы пошил, – и Попов показал руками, какие это были большие карманы, – в каждый по три килограмма пшеницы уходит.
– Зачем зря говорить, – с возмущением ответил Тетеркин, поворачиваясь к ним; Уфимцев увидел, как он до черноты загорел за дни уборки. – Я же объяснил: случайно насыпалось. Ведь целый день лажу по комбайну, зерно из бункера спущаю, где-то и насыплется, не только в карман... Разве углядишь? А ты: поймали, поймали... Я на тебя в суд подам за клевету.
– Да ты что, Никанор Павлович? – засмеялся Семечкин. – Ведь сам только что говорил, взял немного для курей, куры оголодали. Чего ты крутишься? Раз попался, отвечай. Вон она, пшеничка-то, из твоих карманов.
Действительно, около комбайна земля была густо усеяна зерном.
«Попался! И на чем?» Что-то шевельнулось в груди Уфимцева – злорадное, мстительное: за бунт в мастерской, происшедший по наущению Тетеркина; за жену его, которую он выпустил, чтобы сорвать собрание. Но Уфимцев подавил в себе это непрошеное чувство. Тут требовалось иное, но что, он еще не решил.
– Надо составить акт, Георгий Арсентьевич, – предложил Попов. – Я подпишусь, Семечкин, шофер – он тоже был при этом. И акт направить в прокуратуру.
И тут случилось неожиданное: Тетеркин сморщил лицо, хныкнул и вдруг заплакал.
– Как вы... разве я... мне... – говорил он, захлебываясь словами, размазывая грязь по щекам.
Попов уставился на Тетеркина в удивлении.
– Хватит, Никанор Павлович, разыгрывать спектакли, – сказал Уфимцев, и Тетеркин сразу перестал хныкать. – Актов никаких не надо, так должен понять, запомнить на всю жизнь... Слышишь, товарищ Тетеркин? Вот мы трое знаем о твоем поступке, но пока будем молчать. Но если ты еще что-нибудь позволишь... Ты понял меня?
Вот и наказание: пусть помнит о сегодняшнем дне. Это будет лучшим предостережением на будущее.
Тетеркин стоял безмолвно, будто не слышал, что говорил Уфимцев, разглядывал свои перепачканные соляркой руки.
– С комбайна его придется снять, оставлять нельзя...
– А куда меня? – опросил Тетеркин. Он вытер полой пиджака лицо и, как будто не он сейчас плакал, смотрел со злой ненавистью на председателя колхоза. – Я без работы не могу. Мне пить-есть надо. Семью кормить.
Как хотелось Уфимцеву послать его к черту! Но этого нельзя было делать, если уж решился замолчать его поступок.
– Иди к Векшину, – сказал он. Ему противило с ним говорить. – Векшин что-нибудь найдет.
Тетеркин тут же повернулся и, ни слова не говоря, пошел, шурша шароварами по стерне.
– Зря вы его к Векшину, – сказал Попов. – Это называется – щуку бросить в реку.
– Ничего, – успокоил его Уфимцев. – Он теперь притихнет...
2
Телефон вот уже две минуты звонил не переставая. Уфимцев вышел в коридор, включил свет, снял трубку. В трубке еще бурчало, а когда стихло, голос телефонистки оказал ему:
– Спите вы там, что ли? Соединяю с товарищем Пастуховым.
– Уфимцев слушает, – крикнул он в трубку.
П а с т у х о в. В чем дело, Уфимцев? Почему прекратил сдачу хлеба государству? Зерна нет?
У ф и м ц е в. Зерно есть, машин нет.
П а с т у х о в. Я тебе послал пять машин. Где они?
У ф и м ц е в. Возят из-под комбайнов. Пошло семенное зерно...
П а с т у х о в. Чувствую, политику Позднина ты усвоил прекрасно, причины находить умеешь. А ты мне сказки не рассказывай, ты мне хлеб давай. Чтобы завтра все машины работали на вывозке зерна на элеватор. Понятно?
У ф и м ц е в. Не могу я этого сделать, Семен Поликарпович. Не валить же зерно из комбайнов в стерню!.. Вот закончим с семенами, подберемся и переключим все машины на хлебосдачу. Хлеб пойдет, никуда не денется. На токах лежит, под крышей.
П а с т у х о в. Мне зерно сегодня нужно. К твоему сведению, вот из-за таких, как ты, управление по хлебосдаче отстало от соседей, уже находится в конце сводки.
У ф и м ц е в. Машины от комбайнов я оторвать не могу... Присылайте другие. Зерно есть.
П а с т у х о в. Нет у меня машин! А от комбайнов вози на лошадях. Понял? Ищи внутренние резервы, но чтобы график хлебосдачи не только выполнялся, но и перевыполнялся. Дело нашей чести сдать досрочно хлеб государству.
У ф и м ц е в. Сдать досрочно не значит еще, что с выгодой для хозяйства.
П а с т у х о в. Хватит философствовать! Все! Выполняй! Завтра проверю!
В трубке щелкнуло. Уфимцев отнял ее от уха, посмотрел недовольно на отпотевший эбонитовый кружок.
Легко сказать – снять машины с вывозки зерна от комбайнов, поставить вместо них лошадей. Лошади есть, а где людей взять? Да и не пора ли машины обслуживать машинами, а не лошадьми или волами...
Он позвонил Акимову. На его счастье, секретарь парткома оказался на месте. Выслушав его сбивчивый рассказ, Акимов сказал:
– Не нервничай... Посмотрю, что можно сделать.
На второй день к полудню из Колташей пришли пять машин – видимо, сказалось вмешательство секретаря парткома. Но вместе с машинами приехал уполномоченным его заместитель Степочкин.
Уфимцев находился на центральном току, когда, дрожа запыленными бортами, машины остановились на въезде и из первой кабины вышел Степочкин.
– Принимай подкрепление, Егор, – сказал он, поздоровавшись. – По приказу управления у вас создается отряд для вывозки зерна на элеватор. Это вот начальник отряда, – он показал рукой на подходившего высокого мужчину в комбинезоне, – ему и сдашь все свои машины.
– Петров, – представился тот. Уфимцев пожал ему руку – рука была тяжелой, грубой. И голос у него был грубый. – Нам бы расквартироваться, и на работу. Машины ваши приму вечером. Предупредите шоферов.
– С квартирами устроим, – ответил Уфимцев. – Но с машинами... Передам только приезжих, свои останутся обслуживать комбайны.
– Как так? – изумился Степочкин. – А приказ?
– Своим машинам мы хозяева.
– Слушай, Уфимцев. Когда в тебе исчезнет этот дух противоречия к указаниям парткома и управления? Как будто мы живем с тобой разными интересами, а не интересами сельского хозяйства. Если уж на то пошло – мы лучше тебя знаем, что требуется району в интересах тех же колхозов и совхозов.
Вот кого Уфимцев не хотел бы видеть у себя уполномоченным, так это Степочкина!
Еще будучи киномехаником, Уфимцев не сумел поладить со Степочкиным – тогда директором кинотеатра. И Василий Васильевич, похоже, до сих пор не простил Егору, что по его вине был переброшен с должности директора кинотеатра на заведование сберкассой, что, по мнению Степочкина, являлось понижением в ранге.
– А вам как начальнику отряда, – обратился он к Петрову, – такое распоряжение: возить зерно на элеватор будете прямо из-под комбайнов.
– Брать зерно, товарищ Петров, вы будете подработанное и на токах, – ответил Уфимцев.
– Вот он опять! – рассердился Степочкин. – Ему облегчают труд, а он противоречит. Ведь для тебя же: не крутить, не веять...
– Нечего отходы на элеватор возить, они мне в хозяйстве пригодятся. Кур, свиней чем-то надо кормить. Ты же сам голосовал, весь зернофураж сдать государству. Может, забыл?
– Давай после доспорим, – сказал нервно Степочкин. – Надо шоферов устраивать.
И они пошли к ожидавшим их машинам.
3
Беда случилась с Петром Векшиным негаданно-нежданно. Восемь лет он был заместителем председателя колхоза, его правой рукой. Позднин считался с ним, без его совета не решал ни одного вопроса. И люди уважали его, шли к нему, знали, что Петр Ильич не откажет, посоветует, поможет. Все шло к тому, чтобы брать ему бразды управления колхозом в свои руки.
И все полетело к чертям, достаточно было появиться в колхозе Уфимцеву! И должность председателя, и уважение колхозников, как будто он не о них пекся, пытаясь оставить хлеб в колхозе.
Векшин не мог забыть своего позора. После недавнего собрания он три дня лежал дома, сказался больным. И никто не пришел к нему, не навестил. В душе он считал себя правым, не понятым людьми. «Они еще вспомнят обо мне, когда останутся без хлеба».
Выйдя на работу, он теперь не показывался в людных местах, старался с утра уехать на ферму, а то и в отгон или к Афоне на Дальнюю заимку. Уфимцева он избегал. И тот не искал встречи, не посылал за ним. К счастью Векшина, Паруня не подвела его, добилась от врачей справки об освобождении от тяжелых физических работ, и это облегчило его положение в отношениях с Уфимцевым.
И когда пришедшая на квартиру посыльная сообщила, что его вызывает в правление Степочкин, он растерялся.
Векшин только что сел завтракать. Он не торопился на работу, еще не решил, куда сегодня ехать. Хотелось к комбайнам, но боялся встретиться с Уфимцевым.
Светило солнце, шумел самовар, лежали горкой на блюде оладьи, пылало лицо Паруни, разомлевшее у печки. И все это – и душистый чай, и масленые оладьи, и затейливая сахарница, доставшаяся в наследство от покойного Самоварова, – влекло к тишине, к покою. Но покоя в душе Векшина не было.
Он не знал, что Степочкин в колхозе: вернулся вчера домой с фермы поздно.
Идя в правление, Векшин был уверен, что Степочкин приехал снимать его с работы за то, что он пошел против предложения парткома.
Степочкин одиноко сидел в кабинете председателя колхоза, что-то писал.
– А-а, товарищ Векшин! Проходи. Садись.
Он протянул ему через стол руку, и Векшин, пожав ее, сел, снял шляпу, напряженно уставился на Степочкина, приготовившись к самому худшему.
– С хлебосдачей плохо у вас дела обстоят, – проговорил Степочкин строго, отложив авторучку. – Заваливаете график. Как же так, товарищ Векшин?
Векшин ужал плечи, виновато опустил голову:
– Выправим... разберемся...
– В стороне стоишь от главного вопроса. Не ко времени увлекся животноводством. Как руководителю, тебе полагается быть впереди, мобилизовать людей на выполнение первой заповеди колхоза. Какой ты зампред, если в стороне стоишь?
– Что поручат... Председатель хозяин, его спрашивайте.
– Спросим и с председателя. С него в первую голову... А ты с завтрашнего дня становись-ка давай на подработку зерна. На тебе будет лежать ответственность за обеспечение машин готовым зерном. Будут простои – на себя пеняй. Ясна задача?
Векшин поднял голову, веселее взглянул на Степочкина: кажется, напрасно он боялся, идя сюда.
– Ясно! Учту все ваши замечания, – живо ответил он.
Степочкин подтянул к себе портфель, порылся в нем и положил перед Векшиным исписанный листок.
– Прочти, пожалуйста, вот эту бумажку.
Это было анонимное заявление Тетеркина в партком о моральном разложении председателя колхоза «Большие Поляны», о его связи с заведующей молочнотоварной фермой. Степочкин уже показывал его секретарю парторганизации Стенниковой, но та высмеяла анонимку, сказав, что это глупая деревенская сплетня про хорошего человека, на которую не следует обращать внимания, тем более тратить время ответственного работника на расследование такой чепухи. Но Степочкин с ней не согласился: сигнал должен быть проверен, ибо нет дыма без огня.
Когда Векшин прочел анонимку, у него от радости отнялся язык, он улыбался и молчал, глядя счастливыми глазами на Степочкина.
– Было такое дело? – спросил его Степочкин.
– Было, – одними губами сказал Векшин. – Было, – повторил он громче.
– Чей почерк? Кто писал?
– Никанор Тетеркин, колхозник.
– Рассказывай.
И Векшин рассказал. Когда он дошел до того, что Груня ради Уфимцева бросила мужа, Степочкин не удержался от возмущения:
– Ай да Уфимцев! Вот он, оказывается, какими делами занимается... Теперь понятно, почему график хлебосдачи сорван. Вызови Тетеркина на вечер, надо с ним поговорить.
– Слушаюсь... Только пострадавший теперь Тетеркин.
– Как пострадавший?
– Через Уфимцева... Прознал откуда-то про заявление и выгнал Тетеркина с работы... Я его временно пристроил ночным сторожем на ферму.
Степочкин в изумлении вытаращил глаза на Векшина:
– Ну и дела у вас творятся! Почему же коммунисты молчат? Почему потворствуют этому делу Стенникова?
Векшин беспомощно развел руками, дескать, что они могут поделать с таким председателем колхоза, когда он и районные власти не слушает.
– Да-а... Придется посидеть у вас, разобраться.







