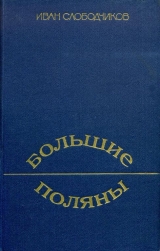
Текст книги "Большие Поляны"
Автор книги: Иван Слободчиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Глава двенадцатая
1
Снег выпал нынче рано, в конце октября.
Еще вчера, обводя взглядом небо, Уфимцев подумал об уходящей осени, о делах, которые следовало провернуть до снега. Но небо висело пустое, лишь с севера протянулись длинные языки тонких облаков. Казалось, ничего не предвещало скорой зимы. Так же, как всю последнюю неделю, дул несильный ветер, так же было холодно – земля подмерзла, лужи подернулись ледком к радости ребятишек.
А проснувшись утром, чуть приоткрыв глаза, он по наполненной белым светом комнате вдруг почувствовал: за ночь в природе произошли изменения. Торопливо поднявшись, протопав по холодному полу к окну, он отодвинул занавеску – за окном все было бело от снега. Снег лежал чистый, нетронутый, по нему еще никто не ходил, не ездил. Одевшись, Уфимцев вышел на крыльцо. Было тихо, безветренно.
Сколько Уфимцев видел в своей жизни зим, и каждый раз они вызывали в нем чувство новизны, будто видит это впервые. И эта зима, хотя и ждал ее с некоторой тревогой – научил прошлогодний опыт, – но вот увидел снег, высокое небо и на нем зимнее солнышко, и сразу забилось радостью сердце, захотелось спрыгнуть с крыльца, набрать полные пригоршни снега, намять хороший комок и запустить в кого-нибудь, как бывало в детстве.
Он даже рассмеялся, вспомнив, какое это было удовольствие, и уже спустился с крыльца, намереваясь погрузить руки в снег, как его остановил голос Никиты, вышедшего из коровьей стайки с лопатой в руках.
– Вот и зимушка-зима пришла! Придется, Егор Арсентьевич, менять обувку-то, в пимы обряжаться.
Уфимцев наклонился, посмотрел на свои сапоги, давно не чищенные, с побелевшими носами, подумал, что валенки остались там, у тети Маши, и что надо за ними кого-нибудь послать.
По дороге в контору он догнал Стенникову, и они пошли вместе.
– Георгий Арсентьевич, надеюсь, вы не забыли о завтрашнем партийном отчетно-выборном собрании? Я сегодня уйду пораньше, надо подготовиться.
– Буду иметь в виду... А кто представителем парткома?
– Василий Васильевич.
– Кто? Степочкин? – переспросил Уфимцев и даже приостановился от удивления. – Опять Степочкин?! Мало он мне крови попортил!
И Уфимцев остервенел. Он шел и ругался, к изумлению Анны Ивановны. Она просто не узнавала его. Только раз видела Уфимцева таким – на заседании бюро парткома, но там Акимов не давал ему воли, а тут он припомнил Степочкину все, начиная от совместной работы в кинотеатре Колташей до сбора им заявлений и анонимок в колхозе.
– Успокойтесь, Георгий Арсентьевич, – тоже разволновалась Анна Ивановна, торопясь и не поспевая за ним. – Какая разница: Степочкин или кто другой? Все зависит от наших коммунистов, не от представителя. Не он решает, собрание решает.
Но Уфимцев успокоиться не мог. Придя в контору, тут же, не заходя к себе, позвонил Акимову, намереваясь уговорить его прислать другого, более объективного представителя. Но Акимова в парткоме не оказалось – проводил отчетные собрания где-то в степной части района.
Если для Уфимцева приезд Степочкина был не просто нежелателен, а даже недопустим после всего, что произошло на бюро парткома, то Векшину этот приезд показался чем-то вроде манны небесной голодному путнику.
Он был удручен поступком Тетеркина, потерей единомышленника и ходил мрачный, надломленный. Даже день рождения жены, который он всегда отмечал торжественно и щедро, не скупился на бутылку хорошего вина, прошел нынче вяло и скучно.
Уфимцев оказался не прав, предполагая, что Векшин не согласится отпустить Тетеркина. Наоборот, теперь Тетеркин был не только не нужен, но даже лишним, как бывает лишним свидетель совершенного преступления.
Векшин был извещен о предстоящем партийном собрании и ничего хорошего для себя от него не ждал. Вряд ли Стенникова и Уфимцев простят противоборство их действиям, натяжки в письмах парткому.
И когда услышал, что представителем парткома на собрании будет Степочкин, он воспрянул духом, перестал опасаться, уверовав, что теперь все обойдется по-хорошему.
Дождавшись утра, он пошел на квартиру, где остановился Степочкин.
Степочкин завтракал. Сидел он в горнице за столом наедине с большим шумящим самоваром, – хозяйка встретилась Векшину во дворе.
– А-а, товарищ Векшин, – сказал Степочкин, вкусно причмокивая, – здравствуй, здравствуй. Проходи, садись завтракать.
– Спасибо. Уже... было дело.
Векшин огляделся, высмотрел стул у стены, сел осторожно на него. А Степочкин между тем налил чаю в стакан, положил сахару, помешал ложечкой, долил чайник из самовара и, взяв нож, стал намазывать масло на ломтик хлеба.
– Что скажешь, товарищ Векшин? – спросил Степочкин.
– Да вот зашел... Навестить, как говорится, – Векшин заулыбался, задвигался на стуле. – Узнать, как устроились.
– Спасибо. Устроился хорошо... Что у вас новенького?
– Новенького у нас – хоть отбавляй. Тетеркину пришлось колхоз покинуть.
– Что так?
– Выжили... Уфимцев выжил, мстит за письма к вам. Придирался то к одному, то к другому, и он был вынужден уехать. С семьей уехал, дом бросил.
– А Уфимцев как? Как себя ведет?
– А что Уфимцеву? Дом строит. Люди говорят, построит – продавать будет... в степь.
Векшин не спускал глаз со Степочкина, ждал как отреагирует Василий Васильевич на его сообщение. Степочкин сидел к нему боком, не спеша ел, и лицо его ничего не выражало.
– С женой он еще не сошелся, – добавил Векшин. – И вряд ли сойдется... С Дашкой живет, как и жил.
Степочкин допил чай, поставил стакан на блюдце, отодвинул от себя, потом повернулся к Векшину:
– Так вот, об этом обо всем, товарищ Векшин, ты и расскажи на собрании. Да с фактами в руках, а не вообще... Да расскажи, как ты, коммунист, заместитель председателя колхоза, выполняешь авангардную роль. И тоже на примерах, да с фактами.
Векшин недоуменно заморгал, захлопал веками, – он ничего не понимал из того, что говорил Степочкин. Понял лишь одно: Василия Васильевича, похоже, подменили, перед ним сидел не защитник его интересов, а кто-то другой, но кто – он еще не разобрался.
Да, плохо Петр Ильич знал Степочкина. Василий Васильевич, как хорошо смазанный флюгер, который бесшумно поворачивается туда, откуда дует ветер, изменил направление. Уже с бюро парткома, на котором рассматривалось дело председателя колхоза «Большие Поляны», он многое вынес. Во всяком случае, понял, что песенка Пастухова спета, за него дальше держаться нельзя, – Семен Поликарпович наверняка полетит с той горы, на которую забрался, и как бы он не утянул Степочкина за собой. И он не замедлил перестроиться, перестал ходить за советами к Пастухову, стал всюду – на бюро, на совещаниях – восхвалять Акимова, упоминать его имя к месту и не к месту, как руководителя, у которого есть чему поучиться.
Векшин ушел от Степочкина в тяжелом недоумении, так и не добившись того, зачем приходил.
2
На собрание явились все коммунисты колхоза, не пришла только Евдокия Ивановна Уфимцева, мать председателя, – ей нездоровилось последнее время.
Когда Уфимцев вернулся с обеда, кабинет уже был заполнен людьми, рассевшимися на стульях, собранных со всей конторы. Он пристроился возле окна, рядом с Никитой Сафоновым, своим квартирохозяином. К Степочкину, сидевшему впереди, он не подошел, хотя тот и улыбнулся ему, кивнул головой.
Открыв собрание, Стенникова предложила почтить вставанием память Трофима Михайловича Позднина. Уфимцев, встав, окинул взглядом опущенные в скорби головы коммунистов и обнаружил среди них большинство седых или начинающих седеть. И мысли о будущем, о кадрах колхоза, о молодежи, которая не хочет оставаться в селе, овладели им...
Доклад Стенниковой продолжался недолго. Говорила она больше о делах хозяйственных, и это понятно: они больше всего интересовали коммунистов. Но когда заговорила о так называемом деле Уфимцева, он насторожился, не удержался, посмотрел на Степочкина, уткнувшегося в лежавшие перед ним бумаги. Стенникова рассказала коммунистам, что обвинение председателя в аморальных поступках не подтвердилось, но он получил выговор за недисциплинированность.
Анна Ивановна не могла умолчать об отношениях двух коммунистов – председателя и его заместителя.
– Недопустимо, чтобы коммунист, заместитель председателя правления, противопоставлял себя не только председателю, но и решениям правления. Для подрыва авторитета председателя он пытался дезинформировать колхозников о положении в колхозе, настраивать их против председателя, приписывать ему вымышленные поступки. Векшин, с помощью Тетеркина и других лиц, недовольных новыми порядками в колхозе, сфабриковал кляузу на Уфимцева. К сожалению, их выдумку поддержал присутствующий сегодня на собрании товарищ Степочкин.
Уфимцев видел, как Степочкин, кисло улыбнувшись, помотал недовольно головой и что-то записал на листке.
Когда доклад закончился, первым попросил слово Первушин.
– Я хотел бы внести предложение в порядке ведения собрания, – начал он. – В докладе много говорилось о Векшине. Думаю, если собрание займется Векшиным, мы уйдем в сторону от главного, от того, что в первую очередь интересует нас: дела колхоза, его перспективы. Считал бы правильным выделить вопрос о Векшине в повестку дня следующего собрания.
Векшин рассерженно вскочил с места, крикнул Первушину – зло, захлебываясь словами:
– Рано еще тебе давать указания, поработай в колхозе с мое, может, тогда и заимеешь право... Посмотрим, что еще ЦК скажет на письмо, дождемся ответа, вот тогда и узнаем, кто клеветник и подстрекатель, а кто за правду борется, интересы колхозников защищает.
– Ну что же, если есть такое письмо, давайте дождемся ответа, обсудим письмо и одновременно поведение Векшина, – предложил Первушин.
– Правильно, – поддержала тетя Соня. – Ставьте на голосование.
Проголосовали, собрание согласилось с предложением Первушина.
– А теперь разрешите сказать по существу отчетного доклада.
И Первушин, покритиковав прежнюю практику работы в животноводстве колхоза, сел на своего любимого конька – внедрение племенного скота на фермы. Уфимцев слушал его и думал, как еще много предстоит им сделать, – они только чуть тронулись с места, а впереди необъятное поле дел и забот.
За Первушиным слово взял Никита Сафонов, потом тетя Соня, Ерыкалов из Шалашей, шофер Лапшин, Василий Степанович Микешин – и все они, критикуя недостатки, говорили о будущем: коммунисты увидели перспективу колхоза.
Последним слово взял Степочкин. Он долго и монотонно читал свою речь, написанную на десятке страниц, составленную из передовиц «Правды» и газетных статей по итогам октябрьского Пленума, бичевал недостатки, отмеченные центральной печатью. Лишь под конец, отвлекшись от текста, сказал:
– Тут правильно меня критиковали в докладе. Да, я виноват перед коммунистами, доверился Векшину, не допустил у вас разбора дела Уфимцева, и партком меня в этом поправил. И со своей стороны считаю, коммунисты правильно решили: обсудить надо Векшина, ударить по рукам клеветника, чтобы неповадно было ему в другой раз заниматься такими грязными делами.
Уфимцев, услышав такое от Степочкина, даже растерялся. Он знал его как человека льстивого и угодливого перед начальством, грубого и формалиста с подчиненными и предполагал, что он и сегодня обрушится на него и на Стенникову, будет защищать Векшина. А когда подумал, чуть не расхохотался: да это тот же Степочкин, только в другой, камуфляжной форме: Векшин засыпался, стал опасен, значит, вали его, топи глубже, чтобы самому выйти сухим из воды...
Секретарем вновь избрали Стенникову
3
Вот и пришли праздничные дни ноября.
Три дня не утихали в селе песни, три дня ревели гармони, шныряли со двора во двор проворные бабы.
И с утра до вечера плавал дым над Большими Полянами, сладко несло из открытых форточек курниками, горячими пельменями, сладкими пирогами с черемухой и калиной. Но если войти в дом, можно легко уловить, как к этим запахам примешивается, щекочет в носу, вызывая аппетит, дурманящий аромат соленых груздей, вынутых из подпола, где они томились в кадке под камнем, переложенные для крепости дубовым листом, для запаха – листом смородины и для остроты – хреном. Возьмешь в рот такой груздь и не сразу поймешь, что там у тебя: не то снег, не то огонь, а может, то и другое вместе, перемешались и тают, полыхают во рту. И кажется тебе, что ты в лесу, забрался в тень под вековую сосну, привалился спиной к теплому стволу и дышишь не надышишься ароматами разнотравья, подставляешь разгоряченное лицо холодку вдруг откуда-то дунувшего ветерка...
Праздник нынче справляли, не в пример другим годам, широко и громко. Причины тому были: со всеми работами управилась вовремя, можно и отдохнуть, наверстать за те летние и осенние тугие деньки, когда нет ни выходных, ни праздничных. К тому же правление не поскупилось на деньги, выдали к празднику хорошо, так еще никогда не выдавали, хватит и погулять и на нужду отложить.
Накануне праздника, после торжественного собрания в клубе, Уфимцев сходил в баню, напарился до истомы, потом, разомлевший от пара, от горячей воды, лег спать и спал мертво, без снов, как не спал уже давно, – от него тоже отхлынули заботы, стало бездумно и легко, словно в бане он смыл с себя все, что жило в нем эти дни.
Он, наверное, проспал бы до обеда, но Никита разбудил его завтракать, – жена приготовила пирог с мясом. Побрившись, надев свежую рубашку, он вышел к столу, где дожидались его Никита с женой и дочерью. В комнате было светло и празднично, и за столом тоже – стояла бутылка вина, графин с водкой. Выпив рюмку – от другой он отказался, поев пирога и поблагодарив хозяев, Уфимцев ушел к себе.
Он долго сидел у окна, глядел на заснеженный двор, было скучно и одиноко. Потом включил радио и только прислушался к началу парада на Красной площади, как увидел в окно своих детей, входивших во двор, и выскочил на крыльцо.
– Папа, с праздником! – крикнул Игорек. – А нам вот что в школе дали, – и он высоко поднял кулек со сладостями.
Уфимцев поцеловал его, поцеловал Маринку, повел к себе, – оказалось, дети шли со школьного утренника.
– Вот и гости к тебе, Егор Арсентьевич, пожаловали, – обрадованно пропела хозяйка, когда он вошел с детьми в дом. – Давай угощай.
Дети разделись, прошли в его комнату, хозяйка принесла им чаю, по куску пирога. Он сидел и с давно не испытываемым чувством ликования в душе глядел, как проворно уплетал пирог Игорь, как аккуратно, наклонившись над столом, пила маленькими глоточками чай Марина. Вот чего ему недоставало! И пусть бы так было дальше, больше ему ничего и не надо.
– Спасибо, что пришли, а то я тут совсем расклеился, – признался он детям, посмеиваясь над праздничной тоской.
– Нам мама наказала к тебе зайти, – сказал Игорь. – Говорит, поздравьте отца.
– Мама?!
Он встал, заходил по комнате. Увидев обеспокоенный взгляд Маринки, сел, придвинул детям конфеты, чуть присохшие пирожные, которые купил позавчера в Колташах.
– Не хочу, – сказал Игорь. – Пирога досыта наелся.
– Тогда возьмите с собой.
Проводив детей, Уфимцев еще посидел в комнате, тоска вновь захлестнула его, и он пошел к матери.
На улице еще мало народа, одна молодежь да ребятишки с санками, облепившие Кривой увал. Пожилые люди пока сидели за столами, оглушая себя песнями, и он беспрепятственно дошел до дома матери. Пойди чуть позже, мог бы и не дойти: не дали бы колхозники председателю в такой день пройти мимо, затащили бы к себе.
У Максима готовились к праздничному обеду, – пришли зять и Лида, и появлению Егора обрадовались все, особенно Физа.
– Явился, задаваха. – Она ласково ткнула его в лоб, как телка. – И глаз не кажет, забыл, где живем.
– А мы за тобой посылать хотели, – весело крикнул Максим, крутясь на здоровой ноге вокруг стола, ища чем бы открыть бутылку с вином. – Да ребят унесло куда-то, не дозовешься.
Евдокия Ивановна, принарядившаяся по случаю праздника, сидела на широкой лавке, привалясь к простенку.
– Иди сюда, посиди с матерью, бездомник, – позвала она Уфимцева.
Он подошел к ней, обнял легонько – мать похудела после болезни.
– Ну как там у тебя? Когда помиритесь? – спросила она.
– Не знаю, мама. Ничего не знаю... И как дальше будет – не представляю сам.
– Вчера она ко мне заходила, попроведала... Тяжело ей одной, Егор, – вздохнула мать. – Хоть она и не говорит, а я вижу, вижу. Вроде весело ей, смеется, а у самой в глазах слезы стоят. Ох, горе ты наше!
Евдокия Ивановна неожиданно всхлипнула, сморщив лицо, но взяла себя в руки, не дала волю слезам, вытерла глаза платочком.
– Рожать собирается к матери ехать. Говорит, до каникул как-нибудь протяну, а там поеду к маме.
Уфимцев не знал об этом. Правда, директор школы сообщил ему однажды по секрету, что Анна Аркадьевна согласилась работать только до зимних каникул, но это было давно, он тогда еще надеялся, что все утрясется, они успеют помириться. А вот только что сказанные слова матери заставили задуматься.
– Вижу, расстроила я тебя, испортила праздник... Очень-то не отчаивайся, вот я поправлюсь совсем, так поговорю с ней. Уговорим, куды ей от нас...
Уфимцев расстроганно опять обнял мать.
– Прошу всех за стол, – торжественным голосом пригласила Физа, появляясь с большим блюдом, на котором лежал, поблескивая румяной корочкой, рыбный пирог. И комната сразу наполнилась таким ароматом, что Лидка, как девчонка, захлопала в ладоши, вперед всех полезла за стол, а Максим стал торопливо разливать в рюмки – мужчинам водку, а женщинам вино.
– Ты мне эту бурду не лей, – запротестовала Физа. – На работе – так ломи за мужика, а на гулянке – видишь ли, они бабы... Наливай водки!
– Ну и мама! – сказала Лидка под общий смех.
Все уселись за стол.
– Давайте-ко за Советскую власть, – предложила Евдокия Ивановна. – Сегодня она народилась, ее светлый праздник. Пусть живет во веки веков!
Уфимцев наклонился к матери, крикнул вполголоса: «Ура!»
Пирог был действительно вкусный, ели и нахваливали Физу. Особенно восторгался Максим, ел, причмокивая, облизывая усы.
– Ты смотри не захвали, – говорила ему, смеясь, Физа. – А то загоржусь, выпрягусь, на сухарях насидишься.
Налили по второй.
– А теперь за что? – спросил Максим.
– За наших колхозников, – предложил Уфимцев. – За их любовь к труду, за любовь к нашему делу.
– Да, заинтересовался народ, хозяином себя почуял, – сказал Максим, беря на тарелку второй кусок пирога.
– А он всегда хозяином был, – ответила Евдокия Ивановна. – Я вот сколько прожила, в колхозе двадцать лет проработала, а другого не замечала.
Уфимцев ушел от брата поздно, в глубоких сумерках.
4
День был сырой, слякотный, ветер с юга принес оттепель, и снег мокро осел, засинел густо. С низкого, заволоченного неба сыпалась крупа, ветер бил порывами, крупка резала лицо, и Груня закрывалась рукой в варежке, отвертывалась от ветра. Шла она с дневной дойки, тропкой, проложенной на задах села, за огородами. Тропка лилово блестела, снег под ногами оседал, похрустывал, ветер метал галок, сорвавшихся с потемневших деревьев, перевертывал, прижимал к земле, и они истошно кричали, паруся крыльями. Над птицефермой кружились вспугнутые кем-то голуби – голуби казались черными, летали они неторопливо и высоко.
За мастерской враз ободняло, перестала сыпаться крупка, тропка выбелилась, и Груня пошла живее, размашистее. Весь день ей сегодня было почему-то беспокойно, может, повлияла погода – ветреная, промозглая, но жила она в каком-то странном ожиданий, казалось, вот-вот должно случиться что-то такое, что изменит ее судьбу, войдет в ее жизнь, как входят в новый дом, и жизнь начнется сначала, словно ничего до этого не было.
Смерть отца на какое-то время заглушила личную боль, отодвинула в сторону. Отца она любила и дорожила этой любовью. Он никогда не кричал ни в детстве, ни после, никогда не ругал ее, хотя был строг, не давал поблажек, но если она досаждала – выговаривал ей, но делал это мягко, душевно, как хорошему товарищу.
Он молча перенес ее неудавшуюся любовь к Егору, они ни словом не обмолвились об этом, но Груня видела, как страдает отец, и еще больше проникалась к нему доверием. Замужество ее не нравилось ему, он знал, что оно вынуждено, но ничем не выказал своего неудовольствия, наоборот, громко радовался счастью дочери. И когда ушла от Васькова, пришла в дом к отцу, он ни словом не упрекнул ее, лишь сказал: «Вот и славно, ты опять дома». Отец был как бы тайной опорой в жизни, он понимал ее без слов и объяснений. И смерть его сломила ее, она окаменела, ходила как потерянная первые дни – без слез, без мыслей, не замечая безутешно плачущей матери. Когда горе от утраты улеглось, в душе осталась одна пустота да необъяснимая тоска по чему-то безвозвратно ушедшему.
И вот сегодня эта тоска сменилась ожиданием чего-то, а чего – она не представляла, и это ожидание скребло и скребло на душе, рвало сердце.
Она никогда не думала о Васькове, для нее он больше не существовал. Слышала, что, отсидев пятнадцать суток, он перевелся в другой сельсовет, забрал с собой мать, заколотил дом и уехал – куда – ее не интересовало...
Придя домой, она пообедала, потом уложив в постель дочку, сама прилегла к ней и незаметно для себя уснула. И во сне увидела, будто идет с Егором по широкому лугу, луг весь в цветах – синих, желтых, красных, а вокруг летают ярко-желтые шмели, большеглазые стеклянные стрекозы, в траве звонко свиристят на все лады кузнечики. И на душе у нее так радостно, так весело от всего, что она видит и слышит, что не может сдержать себя, прыгает, как девчонка, бегает от цветка к цветку, срывает их, подает с улыбкой Егору. А Егор идет молча, хмурится, вроде не радует его это солнечное утро, эти прелестные цветы, он принимает их от Груни, но тут же роняет, топчет своими кирзовыми сапогами. Груня смеется, тормошит его, показывает на цветы, оброненные им, которые длинной дорожкой расстилаются сзади, а он не слышит ее, идет не оборачиваясь.
Проснулась она неожиданно: словно кто толкнул ее – и она проснулась, испуганно затаилась, не открывая глаз, подождала нового толчка, но все было тихо, и в доме тихо, никто не ходил, не разговаривал. Она поднялась, села на постели, посидела. В глазах все еще стояли цветы и Егор – большой, увалистый, медленно бредущий по лугу, топчущий ее цветы. «Господи, что это? К чему? – шептала она. – Цветы... Егор... сапоги... А-а!» Она с трудом сдержала в себе крик, обхватила руками голову, покачалась из стороны в сторону, встала, подошла к окну, ткнулась лбом в холодное стекло. На дворе сумрачно, как и на душе, с подтаявших крыш падала капель, чистая, как слезы, выжигала на снегу глубокие борозды.
Она и так, без этого глупого сна, знала, что Егор растоптал ее любовь, как сегодня топтал цветы. Он, и только он, стал причиной всех ее несчастий. Но разве он не наказан за это?
Она стояла и думала, думала о себе, о Егоре, об их такой общей и вместе с тем такой разной судьбе, в которую надо, наконец, внести ясность.
Так вот какое ожидание томило ее сегодня: она ждала решения от себя самой!
Решение пришло сразу, хотя никогда раньше не думала об этом.
Она оторвалась от окна, посмотрела на спящую, разметавшуюся на постели дочь, выглянула в переднюю – там никого не было, надела сапоги, пальто, повязалась шалью и вышла на крыльцо, прислушалась – мать возилась со скотиной. Она не стала ее окликать, осторожно открыла калитку и пошла вниз по селу.
Наверное, от вида тихой предвечерней улицы, а может, от принятого решения чувствовала она себя легко, сердце не стучало, как давеча, когда она проснулась, и сама она, утвердившись в необходимости такого поступка, шла спокойно, как ходила каждый день на работу.
В окнах дома тети Маши горел свет, калитка была не заперта, и она, поднявшись на крыльцо, прошла через сени в дом. Тетя Маша мыла пол на кухне. Услышав стук дверью, обернулась, увидела вошедшую Груню и остолбенела. Груня поздоровалась с ней, прошла дальше, а она так и осталась стоять с открытым от изумления ртом, с мокрой тряпкой в руках, грязная вода с которой капала ей на подол юбки.
Дойдя до горницы, Груня постучала в дверь и, услышав: «Да, да!» – вошла.
Аня была одна, сидела за столом, проверяла школьные тетради. На ней широкий малинового цвета халат, с белыми и зелеными цветами, волосы на голове заплетены в две нетолстые косички. От ее располневшей, чересчур домашней фигуры в этой тихой комнате веяло устоявшимся теплом и спокойствием.
Увидев Груню, Аня переменилась в лице, побледнела, медленно поднялась со стула в каком-то немом оцепенении, механически, не глядя, отодвинула от края стола тетради, словно защищала их от непрошеной гостьи.
– Извините, что без приглашения, – проговорила Груня каким-то чужим голосом, закрывая дверь и приваливаясь к ней спиной, словно была не в силах стоять. – Пришла вот... поговорить. Не прогоните?
Аня уже оправилась от испуга, вызванного неожиданным вторжением той, которую она меньше всего ожидала увидеть, лицо ее стало покрываться бурыми пятнами, глаза сузились, губы скривились, задрожали.
– Не обижайтесь, ради бога, – торопливо проговорила Груня и подалась вперед. – Ничего дурного у меня на уме нет, я к вам с чистой душой.
Аня посмотрела на нее долгим пронзительным взглядом, – злость, презрение стояли в ее глазах. Казалось, она вот-вот крикнет срывающимся от обиды голосом: «Вон отсюда!» Но этого не случилось – вдруг ослабли, дрогнули ее веки, она отвела глаза, сказала, с трудом выговаривая слова:
– Садитесь, раз пришли.
Аня смотрела на свою соперницу. Она и раньше видела Груню, но вот так, вблизи – первый раз. Крупный лоб, серые глаза, румяные полные щеки, мягкий подбородок с ямочкой посредине, влажные, чуть оттопыренные губы, – все это, по мнению Ани, было некрасиво, грубо. «Однако мужчинам такие нравятся. Понравилась же она Егору!» – подумала Аня и вновь обозлилась – на себя, что позволила ей остаться, на Груню, по воле которой она живет безмужней, опозоренной. «Пришла, сидит... Бесстыжая баба!»
– Так что вам надо от меня? – не опросила, а выкрикнула Аня, опускаясь на стул.
– Не кричите, – отозвалась Груня, – давайте поговорим мирно. Мне от вас ничего не надо, я не за этим пришла... Мне Егора Арсентьевича жаль, ни за что вы его обидели.
– А это не ваше дело – разбираться, кто кого обидел: он меня или я его.
– Как не мое? – удивилась Груня. – Мое это дело... Я виновата перед вами, мне и каяться и ответ держать. А Егор тут ни при чем, он невиноватый.
Аня слушала ее и удивлялась этой женщине, так легко признавшейся в своей вине, но почему-то выгораживающей Егора.
– Я к вам зачем пришла, – начала Груня. – Хотела сказать, ничего у нас с Егором нет такого, чтобы...
Аня не дала ей договорить:
– Меня не интересуют ваши отношения с моим бывшим мужем. Рассказывайте это кому-нибудь другому, не мне.
– Не было же никаких отношений с его стороны, – сказала Груня с горечью и посмотрела на поморщившуюся при этих словах Аню. – Дружили мы с ним, когда молодыми были, вот и... приплели, что не надо. Видели меня один раз с ним, у людей язык не привязан. Вас он любит, сам мне говорил.
– Не верю! Если бы меня любил, не...
Голос у Ани задрожал, она отвернулась, чтобы не показать сопернице своей слабости, глубоко вздохнув, набрала в грудь воздуха, посидела так.
– Поймите, дети у него... трое будет. – Она повернулась к Груне, сказала, не в силах больше сдерживаться: – Как вам не стыдно! Бегать за женатым человеком, отбивать от семьи, это... это подло!
Аня встала – губы ее скривились, на глазах блестели слезы, она подошла к комоду, взяла из ящика платок, вытерла им глаза, щеки, снова села.
Груня молча наблюдала за ней. Она совсем не рассчитывала, что разговор будет таким, вернее, никакого разговора не получилось, перед ней сидела обиженная, издерганная несчастьем женщина, которая уже не в силах управлять своими нервами. И Груне стало жалко ее.
– Пусть я подлая, пусть. Можете меня оскорблять, можете презирать – дело ваше, я этого заслуживаю. Но я не оправдываться к вам пришла, а просить за человека, который мне тоже дорог, – чего мне скрывать это от вас.
Груня вскинула голову, проглотила подступившие слезы.
Аня долго и молча смотрела на нее, на раскрасневшееся лицо со сдвинутой на затылок шалью, открывшей белый лоб с нависшим над ним клочком спутанных волос.
– Что-то очень уж просто и легко у вас все объясняется...
– Не верите? – удивилась Груня и даже чуть растерялась, посидела в каком-то замешательстве.
Аня отрицательно покачала головой, Груня, не торопясь, встала.
– Ничего, поверите... Прощайте.
Открыв дверь, она увидела тетю Машу. Та сидела у стола спиной к ней и даже не пошевелилась, когда Груня вышла и прошла подле нее.
...Через день из ворот усадьбы Позднина выехала подвода. В кошевке, набитой сеном, сидела в тулупе Груня с девочкой, рядом мостились чемодан и большой узел. Заплаканная Агафья Петровна, в старенькой шубенке, в темном платке, долго стояла у ворот, провожая взглядом подводу, хотя видела только спину подводчика – местного лесника, взявшегося довезти Груню до станции.
Выехав на плотину, Груня не утерпела, взглянула в последний раз на родное село. Оно лежало за широким прудом и казалось совсем маленьким, прилепившимся к увалу, с заснеженными крышами, с голыми, мерзнущими на ветру деревьями в садках, но для нее не было на свете другого места, милее этого: здесь она прожила всю жизнь безвыездно, здесь помнила себя девчонкой и после – взрослой женщиной, здесь узнала любовь, принесшую ей столько радостей, а еще больше горя, и от которой она бежит сейчас – бежит, не зная куда.
Глаза ее затуманились от слез, она отвернулась, вытерла их ладошкой, крепче прижала к груди девочку...
Уфимцев узнал об отъезде Груни в тот же день. Шло заседание правления, и кто-то из присутствующих – кажется Микешин, он точно не запомнил, – сказал, что вот, теряем кадры: Васькова совсем выехала из колхоза, а была первой дояркой. Посыпались вопросы: как, да почему, да куда, но Уфимцев уже их не слышал. Что-то накатило на него, он сидел и смотрел бессмысленно на жестикулирующих правленцев, не зная, радоваться ему или огорчаться. Умом он понимал, что надо радоваться, это приблизит час примирения с Аней, а сердцем сокрушался от жалости к Груне, к ее незадачливой судьбе.
Он посидел так, отдаваясь пришедшим не ко времени воспоминаниям, словно заочно прощался с Груней, но пересилил себя, тряхнул головой, чтобы отогнать их, и постучал карандашом по графину, наводя порядок среди собравшихся в кабинете людей.







