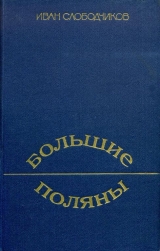
Текст книги "Большие Поляны"
Автор книги: Иван Слободчиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
5
От сруба Уфимцев проехал к правлению колхоза.
Как и утром, улица была пуста, безлюдна – сенокос! – лишь на ступеньках крыльца правления сидели двое: муж и жена Лыткины.
До последнего времени Лыткин пас овец на Дальней заимке, Дашка, жена его, работала в огородном звене, но с началом сенокоса бросила звено, перебралась на заимку к мужу. Оставив овец на подпаска, мальчишку тринадцати лет, их племянника, Лыткины пошли по оврагам, межам и перелескам косить траву, сушить ее на взлобках, ставить копешки.
Векшин нарочно ездил на заимку, чтобы вернуть Дашку в звено, – она не послушалась. Вызывали в правление Лыткина, предупреждали об ответственности за овец, однако и это ни к чему не привело.
Тогда правление решило: накошенное сено изъять, обоих снять с работы и вынести на собрание вопрос об исключении их из колхоза.
Когда мотоцикл Уфимцева ткнулся в стену дома и, чихнув, замолк, Лыткины торопливо встали, но Уфимцев прошел мимо, не взглянув.
В правлении стояла тишина, лишь пощелкивала на счетах бухгалтер Стенникова – седеющая женщина с гладко причесанными волосами, собранными на затылке в небольшой узелок; она молча кивнула на приветствие вошедшего Уфимцева и продолжала работать, дав понять, что сейчас освободится. Уфимцев присел и тут же обернулся на стук: в комнату входили Лыткины.
– Ну что еще? – недовольно спросил Уфимцев, глядя через плечо на Дашкины ноги, обутые в стоптанные ботинки; потом перевел взгляд на застиранную юбку, на тесную старенькую кофту. «Нарочно так вырядилась», – с неприязнью подумал он.
Знал он Дашку с тех пор, как вместе в школу пошли, в одном классе сидели. Еще тогда она была ералашной девчонкой – задирой, крикуньей, но могла прикинуться и тихоней, поябедничать на подруг. После, уже будучи взрослой, пробыла два сезона на лесозаготовках, привезла оттуда худую славу. Оттого, наверно, долго сидела в девках – никто не брал замуж, и неожиданно для всех вышла за Афанасия Лыткина – по-деревенски за Афоню Тю́тю – смирного, недалекого парня.
– Чего еще, спрашиваю? – повторил Уфимцев. – Вам вчера все было разъяснено и рассказано. Нечего ходить за мной!
– Так ведь... Люди вы, или кто? – с надрывом в голосе крикнула Дашка, округлив глаза. – Где же у вас справедливость? Косили, косили, старались и – на тебе! – без сена осталися.
– Не надо было косить, – ответил Уфимцев.
– Так ведь все косят, все село! Господи! – всплеснула руками Дашка, отчего платок у нее развязался, сполз с головы на плечи. – Люди уже по сорок копен поставили, а мы каких-то три дня покосили и...
Дашка громко всхлипнула, высморкалась в подол, задрав юбку, нисколько не стесняясь Уфимцева.
– Люди косят после работы, – ответил Уфимцев, отворачиваясь от нее. – Косили бы и вы так, кто бы возражал? А то бросили работу... Кто за тебя будет картошку полоть?
– Прополю, ей-богу, прополю, все успею, только сено возверни, – оживилась Дашка и даже заулыбалась. – Вот они, руки-то, все сделают. Ты посмотри на мои ладошки. Егор, посмотри, как следовает, сколько они работы переробили. Они не то сделают. Вот они! Смотри!
Дашка тыкала в лицо Уфимцеву свои руки, – ладони были большие, желтые, с въевшейся в трещины землей, бугристые от мозолей и какие-то плоские, как доски. Уфимцеву стало не по себе от вида рук Дашки, проснулась жалость к ней, к безответному Афоне. Но он тут же подавил эту жалость, оттолкнул руки Дашки.
– Перестань, Дарья! Не я решал, правленье.
Но от Дашки не ускользнуло замешательство председателя, когда он смотрел на ее руки.
– Ты на мои ладошки погляди, Егор, – опять начала она. – Посмотри, что от них осталось на колхозной-то работе. А тебе сена жалко... Добро бы колхозного, а то сами накосили, сколько маялись, из оврагов на себе таскали. А ты чего молчишь? – набросилась Дашка на Афоню, безучастно стоявшего у стены. – Проси, ведь родня он тебе, должен посочувствовать.
Уфимцев вдруг вспомнил: и верно – Афоня приходится ему дальним родственником по матери. «Ну и Дашка!» – поморщился он. Но не подал вида, что слышал ее.
– Егорий Арсентьевич, – затянул Афоня, поглядывая на жену. – Взойди, как говорится, в положение...
– Ну, что ты будешь с ними делать? – с горечью спросил Уфимцев и повернулся к Афоне. – Не в сене дело! Вопрос стоит об исключении вас с Дарьей из колхоза.
– Зря говоришь, Егор, – остановила его Дашка. – Из колхоза нас исключать нельзя. Мы что – враги какие? Вот с этаких пор, – она показала на метр от пола, – в колхозе буровили, как же ты нас исключишь? Тут все наше, как отымать его будешь?
– Это, как говорится, – вставил Афоня, – ягненочку мать потерять, и то... Взойди в положение, Егорий Арсентьевич.
Уфимцев отвернулся от Лыткиных, посмотрел на Стенникову. Та нервно курила, стряхивала пепел в коробку из-под скрепок.
– Может, не доводить до собрания, – не то спросила, не то посоветовала она.
В комнату вбежал агроном колхоза Попов – невысокий парень, почти мальчишка, смуглый, быстроглазый, в пестрой рубашке с набитыми карманами, в узеньких брючках и голубом берете.
– Вот вы где! – крикнул он, увидев Уфимцева, бросил берет на стол и, выхватив из кармана расческу, стал причесывать свои вставшие дыбом волосы. – Я в мастерскую, я на квартиру – вот как надо! Говорят – в лесничество уехал. Ну и люди. Врут и незаметно.
Попов только теперь заметил Афоню и его жену.
– А-а! Вот вы тут чем занимаетесь! Идет укрощение строптивой Дарьи Лыткиной. Шекспир в колхозе «Большие Поляны»!
– Алеша! – с укором произнесла Стенникова. – Не надо так...
Дашка ожила, потянулась к Стенниковой, увидя в ней свою защитницу:
– Анна Ивановна, ты же секретарь партейный, помоги, будь человеком. Ну дура я, ну ошиблася, оштрафуйте, что ли, но как же работы лишать? Такое время, а ты без работы. Да разве без работы можно? Ты подумай!
– Без работы нельзя, – подал свой голос и Афоня. – Без работы, как говорится...
– А почему же тогда работу бросил? – спросил Попов.
– Как работу бросил? – уставился на него в искреннем недоумении Афоня, подняв бесцветные, выгоревшие брови. – Я сено косил.
– Вот чудак! – рассердился Попов. – Я спрашиваю, почему овец на произвол оставил?
– Так она, – завопил Афоня, – Дашка. Пойдем, говорит, сено косить, все косят...
– Хватит! – прервал его Уфимцев. Он взял со стола листок бумаги, написал на нем что-то карандашом, снова через плечо посмотрел на стоптанные ботинки Дашки и подал листок Афоне. – Идите к бригадиру, он даст работу... А там – как собрание решит.
– А сено возвернешь? – спросила с надеждой повеселевшая Дашка.
– Как и всем... В соответствии с процентным отчислением...
– Ну хоть про́центы, – обрадовалась Дашка, – и на это корова не обидится.
Она подняла с плеч платок, подвязалась им, но уже не по-старушечьи, а как молодушка – концами на затылок, подтолкнула в спину Афоню, и они ушли.
– Так ты зачем меня искал? – спросил Уфимцев Попова.
– У Сараскина в мастерской буза идет. Новый комбайн делят, – ответил Попов.
– Как делят? – удивился Уфимцев. – Он за Коноваловым закреплен. Чего его делить?
– И-и! Там Федотов с Пашкой Семечкиным такой хай подняли, чуть Сараскина не побили... Он просил, чтобы вы пришли.
«Этого еще недоставало!» – с тревогой подумал Уфимцев.
6
Мастерская находилась недалеко от правления колхоза, за противоположным от пруда порядком домов.
Сразу за огородами начиналась поляна. Она простиралась до Кривого увала, и по склону его была обнесена жердевой изгородью. Вот на этой поляне и стояла мастерская – белое кирпичное здание под шиферной крышей. Выше мастерской располагались центральные склады колхоза. Еще выше, на склоне Кривого увала, белели здания сейчас пустующей молочной фермы.
За мастерской выстроились в линейку три старых комбайна; впереди них – новый, блестевший красками. И в тени нового, на зеленом пятачке, лежали четверо. По числу окурков, разбросанных вокруг, можно было заключить, что лежат эти люди давно, с утра.
Уфимцев подошел, оглядел усеянную окурками полянку.
– Разбудите Семечкина, – приказал он.
– Я не сплю, – ответил тот, не шевелясь, не поднимая головы.
– Тогда садись. Перестань курортника разыгрывать.
Семечкин неохотно сел, поправил кепку, забрав под нее волосы, взглянул недружелюбно на председателя.
– Может, прикажете встать перед вами?
Было Семечкину лет тридцать, он очень походил на своего брата Герасима – бригадира строителей – такой же узкоплечий, светлоглазый, только без усов.
– Пока этого не требуется, – ответил Уфимцев. – А вот за окурки придется взгреть. Забыли, где разрешено курить?
Федотов – пожилой широколицый комбайнер – скосил глаза, виновато улыбнулся. Его брат Кузьма, молодой парень, подобрал подле себя несколько окурков, зажал их в горсти. Семечкин тоже повернул голову, посмотрел себе за спину. Лишь его помощник Никанор Тетеркин не пошевельнулся.
«Не он ли тут воду мутит?» – подумал Уфимцев, приглядываясь к Тетеркину.
Был Тетеркин уже в годах, с лысиной от лба до маковки головы, от чего его узкое лицо казалось невероятно длинным.
Уфимцев помнил, как Никанор Тетеркин первым из мужиков вернулся в село после войны. Служил он не то в охране, не то в стройбате, пришел домой целым и невредимым и вскоре был избран председателем колхоза. Мать Уфимцева, Евдокия Ивановна, радовалась этому больше других: всю войну она тянула лямку председателя, заменяя мужа, ушедшего на фронт, и к концу стала сдавать – шел ей шестой десяток. А тут – здоровый молодой мужик...
Напрасно радовалась Евдокия Ивановна: через два года Никанора Тетеркина сняли, как «необеспечившего руководства». Но он еще года два «ходил» в заместителях у Позднина, пока тот не убедился в его непригодности; потом был заведующим МТФ, но был снят и оттуда за какие-то провинности. Полгода шлялся без дела, не хотел идти на рядовую работу и, наконец, с чьей-то помощью устроился лесником. Десять лет носил «бляху», ходил гоголем по селу, но не удержался и там.
Вот тогда перед ним и встал вопрос: либо оставаться в колхозе, либо покинуть свою усадьбу, неплохо обстроенную за время работы в лесничестве. Он выбрал первое: год обещал быть для колхоза хлебным, денежным. Но сколько он ни просился на какую-нибудь должность, где мог бы нести службу, не умаляя достоинств бывшего председателя колхоза, Уфимцев соглашался взять его лишь рядовым работником. И Тетеркин, скрепя сердце, пошел в помощники комбайнера: все же за страду на комбайне можно неплохо заработать.
И сейчас, глядя на лицемерно присмиревшего Тетеркина, председателю колхоза не трудно было догадаться, что не кто иной, как он настропалил Пашку Семечкина драться за новый комбайн: новая машина – больше зерна, больше денег у комбайнера и его помощника.
– Где Сараскин? Где Коновалов? – спросил Уфимцев.
Но Коновалов уже шел от крайнего комбайна, шел не спеша, по-стариковски, подшаркивая ногами. Рядом с ним шагал Мишка Лукьянов с какой-то рогатой железякой, держа ее на весу в вытянутой руке. Мишка еще молодой, ему едва минуло восемнадцать лет. Он два года стажировался у Коновалова, а нынче собирался работать самостоятельно.
– Свой старый комбайн глядел, – сообщил Коновалов, здороваясь. – Попробовали, ровно идет. Вот только детальку подварить, – и он ткнул пальцем в железяку.
Солнце уже стояло над головой и нестерпимо жгло. На увале за поскотиной сохли рядки скошенной травы, по ним важно расхаживали грачи. Где-то недалеко ревел заблудившийся теленок, и его голос – тягучий, ленивый – поднимал в Уфимцеве злость на всю эту полуденную застойную тишину, на спокойных, неторопливых грачей, на безмолвную пустоту мастерской.
Из дверей мастерской появился Сараскин с ветошью, которой он тщательно вытирал руки. Уфимцев посмотрел на его крепко сбитую фигуру в темно-синем, чисто выстиранном комбинезоне, на аккуратный ежик русых волос, на неторопливые движения.
Знал он Юрку с детства. В селе давно перестали удивляться тому, что у бессменного колхозного конюха Архипа Сараскина сын уродился не лошадником, а механизатором. В пятнадцать лет Юрка уже водил машину, как заправский шофер. После службы в армии он окончил техникум механизации и третий год работал механиком колхоза.
– Рассказывай, что у вас происходит? – потребовал Уфимцев.
– Происходит вот, – ответил Сараскин, хмуря брови. – Соревнуемся, кто кого пересидит.
– И долго сидеть намерены?
– Спросите у Семечкина. Он – заводила.
– Что значит – заводила? – возмутился Семечкин, посмотрев с вызовом на Сараскина. – Мы все не согласны, не один я. Раз несправедливость допущена...
– В чем несправедливость? – перебил Уфимцев. – Давай короче. Сейчас не до митингов.
– А почему новый комбайн Коновалову, а не кому-то другому? Чем он лучше? Мы все равны, такие же комбайнеры.
Уфимцев мог бы долго говорить, почему правление решило новый комбайн отдать Ивану Петровичу Коновалову. Вот он сидит сейчас рядом с ним и лишь тяжело вздыхает, не поднимая поседевшей головы. Скоро тридцать лет, как он водит комбайн по полям колхоза «Большие Поляны», не один десяток парней, ставших комбайнерами, прошли его науку.
И вот право этого человека, уважаемого всеми, оспаривает Семечкин, который вместе с братом где-то пропадал десять лет, бросив колхоз.
– Что же ты предлагаешь? – спросил Уфимцев.
– Что? Разыграть, кому выпадет. Коновалову так Коновалову, мне так мне.
– А ты как считаешь? – спросил Уфимцев старшего Федотова.
– Конечно, разыграть, – ответил тот, пряча под козырьком фуражки глаза. – По справедливости...
Уфимцев перевел взгляд на Тетеркина. Тот сидел в прежней позе, блестя лысиной, всем видом давая понять, что он человек маленький, его дело – сторона.
– А твое какое мнение, Никанор Павлович?
Тетеркин быстро и настороженно взглянул на председателя колхоза, но тут же опустил глаза.
– Как вам сказать? – он развел руками, словно и в самом деле затруднялся, не знал, как решить вопрос. – Конечно, заработать всем хочется, есть к этому стремление. Тут нельзя людей сдерживать, они общественный интерес выказывают, хотят как лучше, чтобы работать на совесть, не покладая рук. Вот к примеру...
– Хватит! – сказал Уфимцев, и Тетеркин замолк на полуслове, не возмутившись, ничем не проявив своего отношения к окрику председателя, оставшись в той же позе, как будто не он сейчас говорил. – А ты как, Михаил?
– Вы знаете, какой он – Иван Петрович? – выдохнул Мишка, и в этом выдохе слышна была и боль за человека, и огромное уважение к нему. – Он... самый лучший! Понимаете? Самый лучший в районе. Нет, в республике! Во всем Советском Союзе!
– Ясно! – заключил, улыбнувшись, Уфимцев. – Характеристика дана полная.
Братья Федотовы засмеялись, но видя, что никто их не поддерживает, замолчали.
– Так вот, друзья, – сказал Уфимцев, – предупреждаю: кто не согласен с решением правления, может сегодня же переходить на другую работу.
– Совсем уйдем! – крикнул Семечкин. – Подумаешь – колхоз! Да нас на любой стройке, с руками... Посмотрим, что запоешь, когда комбайны стоять будут.
– Не будут стоять комбайны, – ответил Уфимцев.
– Не будут? – удивился Семечкин. – А где комбайнеров возьмешь? Будто мы не знаем колхозные кадры.
– Я на комбайн пойду, – сказал Сараскин.
– Сына моего Николая можно перевести на комбайн, – подал голос Коновалов. – Он может... Он ничего парень, справится.
– Видал-миндал? – спросил Семечкина Уфимцев. – А ты пугать вздумал: уйду, уйду. Уходи!
Семечкин отвернулся, промолчал, достал папиросу, закурил. Закурили и братья Федотовы, надвинули поглубже на лоб фуражки, пряча носы от солнца.
– Хватит бузить, ребята, – прервал молчание Уфимцев. – Ничего, как видите, из вашей затеи не получается. Давайте работать. Давал же Иван Петрович по две нормы на своем стареньком комбайне в прошлом году.
– «Иван Петрович, Иван Петрович», – передразнил Семечкин. – Раз Иван Петрович такой умелец, пусть он и работает на старом комбайне.
Коновалов выпрямился, смерил взглядом Семечкина.
– Значит, умелому ладно и старый, а неумелому подавай новый? – спросил он.
– А ты хотел бы наоборот? Забавный старик! – хохотнул Семечкин, толкнув локтем Тетеркина, призывая полюбоваться наивностью хваленого Коновалова, но Тетеркин не отозвался.
– Как раз я с тобой тут согласный! Да, согласный, – заключил Коновалов под изумленный, недоверчивый взгляд поднявшего голову Тетеркина. – Егор Арсентьевич, я вот что хочу сказать. Раз я умелый, так я отказываюсь от нового комбайна и передаю его неумелому Михаилу Лукьянову. Пойду на свой старенький... И поглядим еще кто кого!
Иван Петрович торжествующе посмотрел на ошеломленного Семечкина, на притихших Федотовых, на безжизненного Тетеркина, на радостно-изумленного Мишку и улыбнулся такой доброй, хорошей улыбкой, что Уфимцеву захотелось его обнять.
7
Перед вечером, когда тени от домов перешагнули через дорогу, Уфимцев заскочил к колхозным амбарам – их готовили к приему зерна. И тут, в окружении женщин, увидел Векшина. Сдвинув шляпу на затылок, Векшин, горячо жестикулируя, что-то доказывал колхозницам. Черная округлая борода, большие выпуклые глаза делали его похожим на цыгана.
Петр Ильич Векшин был родом из Шалашей. До войны работал там бригадиром, а демобилизовавшись, уехал на соседний прииск, где в старательской артели мыл пески, добывал золото, получал за работу драгоценные в те годы боны, на которые в «Золотоснабе» давали и муку-крупчатку, и сахар, и мануфактуру, и отрез на костюм. Но года через три старательские артели ликвидировали. Векшин потолкался на прииске, после – в леспромхозе и вернулся в колхоз в общем потоке «возвращенцев».
Все эти годы Векшин был заместителем у Позднина. Жил вдвоем с женой, женщиной бездетной, полубольной. В колхозе она не работала, и во дворе у них было пусто: ни коровы, ни овцы, ни курицы. И в огороде одна лебеда росла...
В парткоме знали, что Векшин метил на место Позднина после ухода того на пенсию, но не доверили ему колхоз: в председатели подбирали специалистов. Знал о стремлении Векшина к власти и Уфимцев. Он не мог не заметить, с каким холодком тот встретил его. Уфимцев решил не портить отношений с Векшиным, расположить его к себе. Для этого посчитал необходимым спрашивать совета у Векшина во всех сложных случаях, возникавших перед ним. Векшин неплохо знал хозяйство, большинство его советов было нужным и уместным, тем более что первый год Уфимцев в хозяйстве не вводил перемен, оно шло тем же путем, что и при Позднине. В результате Векшин стал относиться к новому председателю покровительственно, как к молодому, не очень опытному руководителю, который без него и шагу ступить не посмеет...
Услышав стук мотоцикла, Векшин пошел навстречу председателю, поздоровался.
– А мне сказали – ты на сенокосе.
Уфимцев не ответил, поставил мотоцикл на вилку. Ему не терпелось начать разговор о том, что беспокоило его эти два дня: о безответственном обещании Векшина выдать колхозникам по восемь килограммов зерна на трудодень, но он сдержался.
Они уселись на завалинке в тени.
– Что на совещании было?
– А-а! – отмахнулся Векшин. – Подводили итоги дорожных работ... Только время потерял.
– Нас не ругали?
– Было бы за что! Мы свои обязанности знаем, – не без самодовольства ответил он.
Они посидели молча. За амбаром шумели женщины, кричали: «Дунька! Подол опусти, бесстыдница! Мужики увидят», – и стонали от хохота над озорничающей Дунькой. От мастерской несся ровный гул мотора; в небе за кладбищенской рощицей берез, с опустевшими шапками грачиных гнезд, протянулась серебристая полоса от пролетевшего, невидимого самолета.
– Послушай, Петр Ильич, – Уфимцев повернул голову к Векшину, посмотрел на лоснящийся от грязи воротник его пиджака, вспомнил неряху жену. – Что за разговоры ты ведешь с колхозниками насчет восьми килограммов зерна на трудодень?
– А почему их мне не вести? – удивился Векшин. – Нынче хлеб у нас будет. Если от такого урожая не дать по полпуду на трудодень, тогда грош нам с тобой цена.
– Подожди, – прервал Уфимцев. – У нас в производственном плане предусмотрено по два килограмма, а не по восемь.
– Мало ли что записано в плане. А жизнь вносит свои поправки. Пусть колхозники почувствуют: вот добились урожая и стали с хлебом, значит, не зря трудились. Они еще азартнее будут работать, нам же легче – не наряжать, не уговаривать. Понимать надо, Егор Арсентьевич! – Векшин похлопал Уфимцева по плечу. – Ты молодой председатель, у тебя школьные понятия на этот счет.
Уфимцев ошалело глядел, как шевелились у Векшина губы, как он помахивал рукой в такт словам, как, кончив говорить, чихнул, высморкался при помощи двух пальцев, достал из кармана большой черный платок и вытер им усы и бороду.
– Ты это серьезно? – опомнился Уфимцев. – Уже не говоря о том, что у нас вряд ли хватит зерна, если выдавать по восемь килограммов, ты в принципе не прав: не та у нас сейчас политика. Расширенное воспроизводство должно лежать в основе хозяйствования...
– Зерна хватит, – перебил Векшин, – я подсчитывал. Напрасно тревожишься! А насчет политики, так поди, спроси колхозников... Да скажи им, что при таком урожае хлеба «до пуза» не дашь, они тебе покажут политику.
И Векшин захохотал так громко, что воробьи, сидевшие на крыше соседнего амбара, вспорхнули, треща крыльями.
Уфимцеву припомнился утренний разговор на току, ожесточенное лицо брата. «Растяпа ты, Егор! Проморгал цыгана», – выругал он себя.
– Послушай, Петр Ильич, – начал Уфимцев, пытаясь унять возникшую неприязнь к Векшину. – Сейчас не тридцатые годы. Другие требования к хозяйству. Не распределение на трудодни всего полученного продукта, а разумное использование в интересах хозяйства, значит, в интересах самих колхозников. Чтоб сегодня было больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня.
– Завтра будет урожай, нет ли, а сегодня – вон он, хлебушко! – И Векшин показал рукой за увал. – Если его колхознику не отдать, выгребут районные уполномоченные. Им что, лишь бы отчитаться. Как в прошлом году...
– Не паникуй, не выгребут, – заверил его Уфимцев. – А чтобы жить было легче, не наряжать людей, не уговаривать, как ты сказал, надо по примеру передовых колхозов переходить на денежную оплату.
– Ишь, как размахнулся! – удивился Векшин и даже отстранился от Уфимцева. – А где на эти дела денег взять?
– Так об этом я речь веду, – обрадовался Уфимцев, повернулся всем телом к Векшину. – Во-первых, от продажи хлеба государству. Во-вторых, от животноводства. Но чтобы оно давало прибыль – надо корма...
– Нынче с сенокосом, не в пример другим годам, хорошо идем. По сводке на первом месте в районе, – сообщил Векшин. – Сеном обеспечимся.
– Это хорошо... Так вот, слушай, как я представляю себе будущее колхоза.
И Уфимцев выложил перед Векшиным то, о чем не раз думал в долгие бессонные ночи зимы, когда назревала катастрофа истощения и падежа скота от бескормицы.
Векшин слушал, не шевелясь, склонив голову, недовольно выпятив губы. Наконец не выдержал:
– Я не знаю, Егор Арсентьевич, к чему ты все это придумываешь, на себя берешь? Планы выполняем по всем видам и при этом поголовье скота, государству не должны, к чему вся эта канитель?.. О колхозниках надо сейчас думать. Сам знаешь: огороды обрезали, скот сократили, аванец деньгами мал, – как жить народу? Ему сейчас хлебушка побольше, чтобы дыры заткнуть. А ты тут со своими проектами. Ведь от себя отрывать будем!.. Нет, я на это не согласный!
Он приподнялся, словно хотел встать, закончить разговор, но вновь сел.
Уфимцев подумал: в чем-то тут Векшин прав, преждевременно сократили нормы подсобного хозяйства колхозникам – недовольны люди. Но именно это как раз и должно заставить руководителя расширять и укреплять хозяйство колхоза, чтобы основные доходы колхозника были от коллективного хозяйства.
И он сказал Векшину:
– Нет, так не пойдет, товарищ Векшин. Тут подачками не отделаешься. Надо вперед смотреть, о завтрашнем дне думать.
– Хватит, насмотрелись! – угрюмо ответил тот. – У хлеба да без хлеба, – не может быть такого положения! Надо сегодня дать колхознику, на нем земля держится. Его не будет – ничего не будет.
– Так я о колхозниках и забочусь! – крикнул Уфимцев, удивляясь непонятливости Векшина. – О их обеспеченном будущем... И я добьюсь того, что через два-три года наши колхозники будут зарабатывать не меньше, чем в передовых колхозах. Запомни эти мои слова!
– Запомню, запомню, – насмешливо ответил Векшин, – крепко запомню... Когда народ побежит из колхоза, я им скажу о сегодняшних твоих словах.
Уфимцев вспомнил брата: что-то общее было у них с Векшиным, но что – не успел додумать.
– Оказывается, отсталый ты человек, Петр Ильич! – не сдержал себя Уфимцев. – Какой же ты руководитель, если в азах экономики не разбираешься! Плетешь черт знает что! Я тебе объясняю, доказываю, а ты...
– Ты очень грамотный! – в свою очередь рассвирепел Векшин. – Такие вот, как ты, не один уже колхоз развалили. Все у них счеты да расчеты, а люди за полтинник спину гнут... Жили мы при Позднине, не было этих проектов, а жили неплохо...
Они долго еще сидели. Колхозницы разошлись по домам – встречать коров. И солнце ушло за Кривой увал, се́ло где-то в Коневских лесах. Наступали сумерки, перестали гудеть моторы в мастерской, на уличных столбах села вспыхнули лампочки, а они все спорили, никак не могли договориться.







