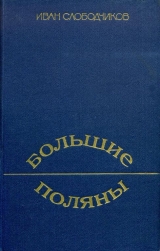
Текст книги "Большие Поляны"
Автор книги: Иван Слободчиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
5
Похороны бывшего председателя колхоза Трофима Михайловича Позднина были назначены на два часа дня.
С утра шел дождь, но к полудню он перестал, выглянуло солнце, разогнав тучи, и стало хорошо: все вокруг умылось дождем – и зеленая отава на Кривом увале, и кладбищенская березовая роща, и голубеющее за рощей небо – чистое, без единого пятнышка. Как будто нарочно, чтобы сделать приятным последний путь Трофима Михайловича, – жил в трудах и заботах, так пусть его последний путь по земле будет светлым и достойным прожитой жизни.
Ко времени похорон около дома покойного собралось чуть не все население Больших Полян и Шалашей, – Трофима Михайловича, руководившего хозяйством в трудные послевоенные годы, колхозники крепко уважали: несмотря на некоторые особенности его характера, он был человек хороший, зря не обижал, заботился о колхозниках.
А особенность его характера заключалась в том, что был мужиком по-крестьянски с хитрецой, или, как говорят, себе на уме. Речи вел всегда тихо, спокойно, не кричал, как другие, но, кажется, не было случая, чтобы ему не удавалось уговорить человека. И вот тут он иногда пускался и на хитрость, собеседник не замечал, как его обводили вокруг пальца. После тот возмущался, обвинял Позднина в семи смертных грехах, а Трофим Михайлович только виновато улыбался, разводил руками, дескать, что поделаешь, нужда заставила так поступать, и ты бы на моем месте от этого не ушел. На него очень-то не сердились, понимали, что делает это не от злости на человека, а для общей пользы, и прощали ему его маленькие хитрости.
Еще вчера, узнав о кончине Трофима Михайловича, Уфимцев пошел проститься с ним, навестить семью покойного и договориться о похоронах. С тревогой, с болью в сердце перешагивал он порог дома, о котором когда-то мечтал, как о своем: женившись на Груне, он намеревался жить у тестя. Об этом он не говорил с Трофимом Михайловичем, но знал, что тот был настроен так же и лишь ждал возвращения солдата домой.
В доме толпилось много соседок; увидев председателя, они потеснились, дали ему место.
И вот тогда-то, при виде этого еще недавно живого, бодрого, с тихим, ласково-приглушенным голосом, вечно куда-то спешащего человека, теперь отрешенного от всего, что ему было дорого, Уфимцев вдруг понял, что он очень виноват перед Трофимом Михайловичем, пожалуй, не менее, чем перед Груней. Он не слышал от Трофима Михайловича и слова упрека, но знал, что тот глубоко переживал несчастье дочери, отвергнутой любимым человеком. Он отвернулся от покойного и неожиданно встретился глазами с Груней, стоявшей у окна, встретился и испугался: в ее глазах он прочел то же, о чем подумал сейчас, что именно он виноват во всем, виноват в преждевременной смерти отца, – не было бы этого Васькова на ее пути, не было бы и вот этого нелепого случая, сведшего отца в могилу.
Уфимцев не мог дальше переносить ее взгляда. Ничего не сказав, не переговорив, как хотел, с Агафьей Петровной, повернулся и ушел. Зайдя в правление, поручил Векшину заняться похоронами, а сам, велев оседлать Карька, поехал в Шалаши.
Но Шалаши были только предлогом. Выехав за село, он повернул направо, пересек тихую, маловодную в это время Санару и поскакал через луга к полям, бесцельно проездил по ним до вечера, пробираясь узкими дорожками по гривкам оврагов и опушкам леса. Осень медленно сгорала от злых ветров и частых дождей. Уже не осталось на деревьях желтых и багряных листьев, так недавно радовавших глаза своей необычайной красотой, – деревья стояли голые, трава в колках пожухла, почернела, и в полях было пусто – они наводили тоску своей чернотой и безжизненностью, лишь озими с их буйной зеленью скрашивали немного эту унылую пору поздней осени. Да еще сороки, стрекотавшие без умолку при виде всадника. Иногда Карька и Уфимцева пугали шумно взлетавшие тетерева; плавно, чуть подрагивая крыльями, они тянули к ближайшим березкам и усаживались на их вершинах, осторожно вытягивали шеи.
День клонился к вечеру, когда Уфимцев повернул обратно.
Неожиданно громко охнул барабан, запели тонко трубы, полилась над селом торжественно-печальная мелодия похоронного марша, и ворота распахнулись настежь. Народ присмирел, уставился на двор, откуда первыми вышли пионеры, неся на красных подушечках высокие награды Трофима Михайловича, бывшего гвардии старшины и председателя колхоза: ордена Отечественной войны, Красной Звезды, «Знак Почета», медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Потом вынесли венки, вслед за ними крышку гроба. Гроб несли на своих плечах секретарь парткома Акимов, председатель колхоза Уфимцев, его заместитель Векшин и председатель сельсовета Шумаков. Когда гроб вынесли за ворота, стоявшие на улице мужики сняли шапки, кто-то из женщин громко заголосил, ее поддержали другие, и вот уже в толпе заширкали носами, заходили кончики шалей и платков по мокрым глазам баб.
Жену Позднина, Агафью Петровну – заплаканную, не отрывающую рук от лица, вели Анна Ивановна Стенникова и тетя Соня Пелевина. Они вели ее молча – не уговаривая, не утешая, зная по опыту, что лучше выплакаться и тем облегчить свою душу в таком большом горе.
А Груня шла впереди матери, сразу за гробом; у нее были сухие, горящие глаза с темными подглазницами из-за двух бессонных ночей. Она шла, высоко подняв голову, – строгая, какая-то незнакомая, величественная в своем горе. В толпе, стоящей по обеим сторонам улицы, жалостливо шептались бабы о Груне, о ее девочке, о Васькове, отбывавшем в Колташах пятнадцать суток за хулиганство.
– Мало ему, – возмущались бабы. – Такого человека на тот свет отправил.
Гроб с телом покойного понесли по улице, толпа двинулась за гробом. Плыла над селом траурная мелодия, медленно двигалась процессия, не торопились люди расставаться с Трофимом Михайловичем. Вот уже начальство, несшее гроб, сменили почетные люди колхоза, те, с которыми Трофим Михайлович работал всю свою жизнь, восстанавливал колхоз после войны. И было грустно и тягостно видеть их обнаженные седые головы, суровые лица.
Когда похоронная процессия вышла за село и двинулась к кладбищенской роще, гроб подхватила молодежь: Попов, Кобельков, Сараскин и Первушин. Дорога на кладбище была грязной от утреннего дождя.
Гроб поставили на краю свежевырытой могилы, и Акимов, грустно посмотрев на покойного, вскинул голову, оглядел толпу пришедших на кладбище людей.
– Дорогие товарищи! – Голос Акимова прозвучал глухо, слова не уносились, падали тут же, в толпу. – Сегодня мы прощаемся, отдаем последний долг прекрасному человеку, нашему другу и товарищу дорогому Трофиму Михайловичу Позднину, чья жизнь прошла на наших глазах, как жизнь пламенного патриота Родины, как стойкого коммуниста, рачительного колхозного хозяина, не жалевшего сил для нашего общего блага.
Солнце поблескивало, отражалось от бритой, коричневой головы Акимова, тени от берез падали на гроб, на свежую могилу, на стоявших вокруг неподвижных людей, молча склонивших головы. Нигде, как здесь, в месте вечного успокоения, к пожилым людям приходят мысли о бренности человека, о неумолимости предстоящего, и Уфимцев невольно наблюдал, как с каждым словом Акимова все ниже опускались головы стариков, как упирались их глаза в землю.
– Вечная память тебе, Трофим Михайлович, вечная память! Пусть никогда не зарастает к твоей могиле тропа и пусть твой жизненный путь явится примером для людей!
Вновь заиграли музыканты, вновь заголосили бабы, раздался стук молотка по забиваемым в крышку гвоздям, и вот уже на длинных полотнищах опустили гроб в могилу, уже Акимов бросил первую горсть земли – она дробью простучала по крышке гроба, и мужики проворно заработали лопатами; через некоторое время на месте темнеющей ямы вырос глинистый холмик, в изголовье которого установили дощатый конус с пятиконечной звездой, вырезанной из белой жести.
– Как ни жаль обижать вдову, а на поминках нам долго нельзя засиживаться, – сказал Акимов Уфимцеву, когда все было закончено и народ пошел к кладбищенским воротам. – Поручи Векшину и Шумакову, пусть они побудут до конца, а ты собери своих помощников и в правление...
6
В правлении было пусто, и они, зайдя в кабинет, все еще находясь под впечатлением похорон и состоявшихся поминок, молча уселись за стол. Акимов курил, не начинал разговора, потирал голову ладонью, поглядывал на колхозных вожаков.
– Ну, ладно, – сказал он и зябко передернул плечами, словно отряхивался от приставших к нему тягостных мыслей, навеянных смертью Позднина, – мертвые наших забот с собой не уносят, они нам остаются... Полагаю, вы уже слышали о Пленуме ЦК?
– Слышали, – ответила за всех Стенникова. – Разговоров в колхозе много. И разных... Ждем газет.
– Я тоже не видел газет, но, по сообщению радио, чувствуется – предстоят большие изменения. Так что готовьтесь, товарищи, к более широкому взгляду на жизнь, на свою работу... Вот ехал я к вам, посмотрел на поля и подумал: тесно вы живете, расширяться пора, на простор выходить.
– На простор, говоришь? – переспросил Уфимцев и коротко посмеялся. – Может, лес корчевать? Вести подсечное хозяйство?
– Лес корчевать не надо, – заметил ему Акимов и спросил Попова: – Сколько у вас пахотной земли?
– Около полутора тысяч гектаров, – ответил тот.
– Ну вот, всего полторы тысячи на таких гвардейцев. – Он прищурился, посмотрел с любопытством на Попова и Первушина. – А рядом пропадает свыше двух тысяч гектаров первоклассной земли.
– Это где ты обнаружил такой клад? – опять засмеялся Уфимцев, полагая, что Акимов разыгрывает их. – Да еще рядом с нами? Я что-то не замечал таких кусочков по две тысячи.
– Видел да не обратил внимания. Не твое, за межой лежит... В репьевском колхозе, товарищ председатель.
– Не понимаю, – откровенно удивился Уфимцев. – Почему пропадают? И какое отношение имеем мы к чужим землям?
– Самое прямое: объединиться вам надо с репьевским колхозом.
– О! – только и сказал Попов и полез в карман за расческой.
– Объединиться? – еще больше удивился Уфимцев. – Кажется, сейчас тенденция к разукрупнению, а не наоборот?
– Вообще-то да, там, где зря слепили, создали гиганты. А у вас же карликовые хозяйства даже по нашим уральским масштабам.
– А почему раньше не соединили, когда проводилась такая кампания?
– Пытались, да встретили сопротивление и отступились. Думаю, не поздно еще поправить.
В коридоре настойчиво зазвонил телефон, и Попов, недовольно морщась, вышел из кабинета.
– Возможно, не без основания сопротивлялись, – ответил Уфимцев. – Техники было мало, а без тракторов, без автомашин такой махиной, разбросанной по лесам, не так-то просто управлять.
– Николай Петрович, вас к телефону, – сообщил вернувшийся Попов.
– Теперь другое время, техники больше. А управление не должно затруднять вас, специалистов, людей с образованием, – ответил Акимов, поднимаясь.
Вернулся он озабоченный:
– Придется с вами распрощаться, возвращаться в Колташи: завтра пленум обкома... Так вот, подумайте о моем предложении, подумайте хорошенько, взвесьте все за и против, да не с обывательской точки зрения, а с государственной, и сообщите парткому.
Он стал прощаться, подал руку Стенниковой, потом Первушину, Попову, но, подойдя к Уфимцеву, вдруг хлопнул себя по лбу:
– Вот, растяпа, чуть не забыл! – Открыв окно на улицу, он высунулся по пояс. – Вася! Подай сверточек, на сиденье лежит... Вот-вот, этот самый.
Отойдя от окна, Акимов подал Уфимцеву небольшой сверточек, в котором находились, видимо, не то книги, не то журналы.
– Передай, пожалуйста, это жене, – сказал Акимов и со значением посмотрел на него. – Мария послала. И поклон передай от меня и от Марии. Мне следовало самому заехать, да видишь, как случилось: надо поспеть к вечернему поезду.
Он пожал руку Уфимцеву, кивнул остальным и быстро вышел.
Когда машина Акимова ушла, Первушин сказал, обратись к Уфимцеву, все еще стоявшему посреди кабинета со свертком в руках:
– Думается, Николай Петрович внес хорошее предложение. Неплохо бы прикинуть, Георгий Арсентьевич, что получится, если соединить два хозяйства.
– Уверен, хорошо получится! – ответил за Уфимцева Попов. – Во-первых, поля – там прекрасные земли, не чета нашим подзолам. Во-вторых, люди есть, есть кому работать, можно вводить трудоемкие культуры. И наконец, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное: тогда возможна будет специализация. Какая? А вот такая: в Шалашах – свиноферма и откорм крупняка на мясо; в Полянах – молочнотоварная ферма и прифермское хозяйство; в Репьевке – основные зерновые посевы... ну и овцеводческая ферма. Короче сказать так: Шалаши – мясо, Большие Поляны – молоко, Репьевка – зерно.
– Здорово ты расписал! – сказал Уфимцев.
У и его в руках все еще находился сверток, который следовало передать Ане. Сверток жег ему руки, не давая по-настоящему сосредоточиться, подумать о предложении Акимова, которое, похоже, так по душе пришлось его помощникам. Он повертел сверток в руках, потом осторожно положил на стол и сел рядом.
Вскоре все ушли, Уфимцев остался один. Он вновь посмотрел на сверток, даже потрогал его рукой, словно попытался узнать, что там, но не стал развертывать, смирил любопытство. Потом повернулся к окну, взглянул через него на меркнущий день, поднялся, взял сверток, надел кепку и вышел на улицу.
Он пошел вниз по селу, к дому тети Маши. Шагал он ровно, спокойно, будто вышел на прогулку. Прошел возле дома Поздниных, мельком взглянул на окна с опущенными занавесками, на закрытые наглухо ворота, но когда до дома тети Маши оставалось пройти самую малость, вдруг сбился с темпа, сбавил шаг, даже оглянулся назад, потоптался на месте, с лица его исчезла решительность, с которой он вышел из конторы.
Стукнула напротив калитка, он машинально взглянул туда и увидел вышедшую Маринку. Она тоже увидела отца, подбежала, ткнулась лицом в рукав, потерлась, обрадованно подняла глаза.
– Ты где была? – спросил он.
– У девочки сидела.
Он помялся, прежде чем спросить ее о чем-то другом, поглядел в сторону дома тети Маши.
– Мама сейчас где?
– Дома должна быть.
Он опять поглядел вперед, словно измерял, сколько ему еще осталось идти туда, куда он так решительно шел еще совсем недавно, перевел взгляд на Маринку и вдруг протянул ей сверток.
– Унеси это маме. Из Колташей прислали.
Глава одиннадцатая
1
Будто кто подменил Петра Ильича Векшина после памятного ему разговора с женой. Хотя иногда и приходили сомнения, что вряд ли Уфимцев покинет Поляны, если даже жена в город уедет, – женится на Груньке, но остановиться Петр Ильич уже не мог: он готов был на любой шаг, его устраивал любой повод, лишь бы сделать пакость Уфимцеву. А чтобы отвести от себя всякие подозрения, он решил играть роль любезного, радетельного человека даже перед теми, кого не переставал презирать. Эта роль не очень противила ему, это была игра, а такая игра, как говорится в пословице, стоила свеч.
Прежде всего он постарался показать себя во время похорон Позднина. Все видели, как он торжественно, достойно имени покойного организовал похороны, как плакал на кладбище, когда опускали гроб в могилу. Петр Ильич постарался, чтобы не осталось незамеченным жителями села, как он заботливо отнесся к вдове бывшего председателя колхоза: распорядился подвезти дрова на топку, сена на зиму для коровы, – пусть Агафья Петровна живет без хлопот.
А потом в разговорах с людьми неизменно сводил речь к незабвенной памяти Трофима Михайловича, со слезой в голосе говорил о его заслугах, намекал, что теперь, после смерти Позднина, остался лишь он – Петр Ильич Векшин, продолжатель его дела и намерений, который еще думает о колхозниках, беспокоится, не спит ночи. Тем более при таком руководстве, как нынче...
Не зевала и Паруня. Но особенно потрудилась для появления новых сплетен жена Тетеркина. И по селу поползли слухи, что председатель строит дом для продажи, хочет нажиться за колхозный счет. Большинство колхозников не верили слухам – не таков Уфимцев, чтобы заняться спекуляцией. Но были и такие, что засомневались: в самом деле, живет один, а строит себе такой большой дом – на три комнаты с кухней да еще с верандой.
Векшин слушал эти разговоры, ухмылялся про себя и радовался: дело идет на лад! Он и сам при случае авторитетно подтверждал, что да, дом строится за счет колхоза, но как собственность нынешнего председателя, хотя прекрасно знал, решением правления определена его полная сметная стоимость, установлена рассрочка оплаты и Уфимцев регулярно вносит полагающиеся, суммы.
Но слухи о доме – половина дела. Главное для Векшина – добиться, чтобы Аня бросила школу и уехала из колхоза. Пока она тут – Уфимцев не оставит «Больших Полян».
Однажды он нарочно заехал на птицеферму с целью увидеть тетю Машу, попытаться прощупать ее, выпытать о намерениях жены Уфимцева. Птицеферма теперь вышла из его подчинения и вроде причин являться туда не было, но он причину придумал, пока ехал.
Здание птицефермы – дощатый сарай, крытый тесом, – стояло чуть повыше мастерской. Было около полудня, день стоял пасмурный, но бездождный, хотя небо и закрылось сплошной пеленой облаков.
Привязав жеребца к колу изгороди, он прошел по выгульному двору, отпугивая лезущих под ноги кур, и заглянул в комнатку птичниц. Тетя Маша сидела возле теплой печки и вязала носок.
– Здравствуй, Шипкова.
– Здравствуй, здравствуй, Петр Ильич. Проходи, садися поближе к печке. Намерзся небось?
Векшин помедлил садиться, вначале огляделся, хотя оглядывать особенно тут было нечего, кроме столика, кровати с серым одеялом да беленой кирпичной печки.
– А где вторая птичница?
– Отдыхат. Мы теперича посменно, по семь часов работаем: одна – с утра, другая – с обеду. Неделя пройдет – меняемся. Раньше бегали, как трясучки, а ноне новый зоотехник хорошо распорядился.
Тетя Маша приковалась глазами к спицам, к носку и не обратила внимания, как напыжился Векшин, как налились гневом его глаза, – в простоте душевной она не заметила, что обидела заместителя председателя, отозвавшись одобрительно о зоотехнике.
– Вот что... – Векшин сел на табуретку, привалился боком к столику. – Я заехал узнать, как у вас тут... случаем, крыша не течет, починки не требует? И с дровами как?
– Дрова есть, запаслись на всю зиму, – ответила тетя Маша. – И помещение отремонтировали лучше некуды.
– Хм... хм... – похмыкал Векшин. – Ну, если все в порядке, тогда я поехал дальше.
Он сделал вид, что встает, но, будто вспомнив что, вновь опустился, повернулся к тете Маше, уперся руками в коленки.
– Да, чуть было не позабыл узнать, как здоровье у твоей квартирантки учителки?
– Здоровье ее хорошее. Не жалуется она на здоровье, – ответила тетя Маша.
– Оно и видно, – квартирантка твоя с крепкими нервами. Не каждая выдержит такой конфуз от мужа. Ему-то что, сегодня с одной, завтра с другой, а каково ей с детьми?
Он замолчал, выжидательно посмотрел на тетю Машу – не клюнет ли она на его слова, как сорожка на червяка. Так и случилось: тетя Маша бросила вязать, уставилась на Векшина.
– Обожди, чего ты плетешь: с одной, с другой... Ну был у него грех с Грунькой, все знают, а теперь он хорошо живет, к бабам и близко не подходит. Уж я-то знаю, интересуюся.
– Ха-ха-ха! – деланно засмеялся Векшин. – Наивная ты, Шипкова! Разве такой бугай без бабы прожить может?.. С Дашкой он живет, скажу тебе по секрету.
– Не болтай! – замахала руками тетя Маша, но в глазах ее стоял неподдельный испуг. – Станет он вязаться с такой...
– Давно связался, еще как к ней жить перешел... И сейчас ходит, не забывает. Она баба подбористая, мужики таких уважают, не отказываются.
Он опять посмеялся, на этот раз веселее, откровеннее, видя, что тетя Маша стоит на распутье: вот-вот поверит.
– Что-то я не войду в себя, ума не приложу... Ведь вот только трех недель не прошло, была Анна Ивановна, говорила, будто на него с Грунькой напраслину сочинили, а ты тут такова наворочал, что...
Тетя Маша недоговорила, растерянно уставилась на Векшина.
– Ничего не наворочал, – возразил Векшин. – Спроси Афоню. Он сам мне говорил, не раз заставал Егора с Дашкой в постели. Вот позавчера, прихожу, говорит, с фермы домой, – пока овечек убирал, пока корма раздавал, уже и стемнялось. Только зашел в избу, а кто-то в сенях как загремит ведром, а потом дверями стукнул. Я, говорит Афоня, глянул в окно, а наш председатель через прясло в огород лезет... Мне-то что, ни жарко, ни холодно, за что купил, за то и продаю. Женщину жаль, детишки ведь малые. Может, на что-то еще надеется, а он – видишь как...
Кажется, ссылкой на Афоню, мужа Дашки, он окончательно убедил тетю Машу, сломал ледок недоверия.
– Я ей, сучке, покажу! – только и сказала она про Дашку и быстро и зло заработала спицами.
Векшин поднялся.
– Ладно, Шипкова, я пошел, в Шалаши надумал съездить... Только ты уж никому не рассказывай о нашем разговоре, – сказал он тете Маше, но сказал не твердо, не обязывающе. – Егора не переделаешь, каков он есть. А людям – одна неприятность.
Тетя Маша ничего на это не ответила.







