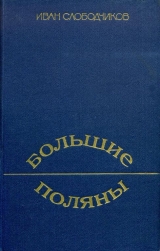
Текст книги "Большие Поляны"
Автор книги: Иван Слободчиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
5
В Шалашах стояли такие же деревянные дома, как и в Больших Полянах; многие из них были с заколоченными окнами, у ворот и вокруг фундаментов росла двухметровая крапива.
Увидев пустующие дома, Уфимцев вспомнил о своем срубе, к которому он так и не удосужился нанять плотников. Прошло десять дней со времени отъезда жены, а он так и не выполнил данного ей обещания. «Надо выбрать время, съездить... Сегодня не смогу, придется задержаться в Шалашах, давно не был. Завтра некогда, приедет представитель «Сельхозтехники» проверять готовность уборочных машин. Может, послезавтра?»
Возле огромного самоваровского дома под зеленой крышей, где размещалась теперь начальная школа, стояла большая, потемневшая от времени изба, рубленная из толстых сосновых плах.
– Ты бывал у бригадира в дому? – спросил Уфимцев Попова.
– Нет, не приходилось, – ответил тот.
Уфимцев подвернул к тесовым воротам, за которыми виднелся сарай под соломенной крышей, за сараем – три березы с пустыми грачиными гнездами.
Когда мотоцикл остановился, над воротами, над забором вдруг появились лохматые ребячьи головы. Они с любопытством глядели на Уфимцева и Попова, вцепившись руками в доски, и мигом исчезли, как только те пошли к воротам.
Ребятишек во дворе не оказалось. Попов осмотрелся и увидел их под сараем, – они, как воробьи, облепили старую телегу без колес и поблескивали оттуда глазенками.
В избе за столом сидела немолодая уже женщина и трое детей-погодков: два мальчика и девочка. На непокрытом столе лежал нарезанный ломтиками хлеб, стояли чугунок, крынка, деревянная солонка, стакан и две синих кружки.
Женщина была в заношенном ситцевом платье и, по-старомодному, в пестром кокошнике, под которым плоско лежали ее тощие косы. Ответив на приветствие, скупо улыбнувшись Уфимцеву, она плеснула из крынки молока в кружки, в стакан, придвинула их детям. Потом вынула из чугунка несколько картофелин, быстро очистила от кожуры, насыпала из солонки три кучки соли и сказала:
– Ешьте. Нечего по сторонам зыркать.
Дети взяли по куску хлеба, по картофелине, обмакнули в соль и принялись есть.
– Не скажете, куда уехал Гурьян Терентьевич? – спросил хозяйку Уфимцев.
– Не знаю. Разве он сказывается? – ответила она и вдруг звонко шлепнула по лбу самого маленького – мальчишку лет трех, курносого, большелобого, опрокинувшего кружку.
Мальчишка был очень похож на Гурьяна, и, глядя на него, Попов вспомнил озабоченное лицо Анны Ивановны Стенниковой и ее реплику в свой адрес: «Помолчи, Алеша!» Неожиданная догадка поразила его. Он торопливо спросил хозяйку, хотя заранее знал ее ответ:
– А во дворе тоже ваши дети?
– Которые мои, – ответила она.
Когда вышли из избы, ребята, окружавшие мотоцикл, бросились врассыпную, но далеко не убежали, остались наблюдать, как Уфимцев заводил мотоцикл.
– Поедем на сенокос, может, там он, – предложил Уфимцев.
Некоторое время они ехали молча, думая каждый о своем.
– Как он с такой семьей размещается в своей избе? – прервав молчание, спросил Попов. – А что если разрешить Гурьяну занять один пустующий дом?
– Ты не знаешь Гурьяна, – крикнул Уфимцев. – Не пойдет он из своей избы в чужую. Предлагали ему... Разве в новую, собственным горбом заработанную.
– Но надо как-то помочь ему, – волновался Попов. – Я понимаю: социализм, каждому по труду... Ведь бросит все, в город уехать может!
– Не уедет. Кто-кто, а Гурьян так и умрет в Шалашах... Ты не был на Шалашовском кладбище? – спросил он Попова.
– Нет... А что?
– Я к тому, что Гурьян уедет... Зайди как-нибудь посмотри. Есть там крест один, здоровый, из тесаных бревен, прочитай на нем надпись.
– О чем?
– Вот об этом самом, о чем мы говорили... Было у Гурьяна четыре старших брата, и все погибли в Отечественную войну. Сам понимаешь, горе родителей, как говорится в романах, было неописуемо. И решили они как-то выразить свою память о павших сыновьях. Вот и поставили на кладбище этот крест, а на нем доску с надписью. Я эту надпись с детских лет наизусть помню: «Милые и дорогие наши сынки Степан Терентьевич, Егор Терентьевич, и ты, Ваня, и ты, голубок Петя! Здесь вас нет, лежат ваши головушки в чужой стороне, здесь похоронены одни наши горькие слезы. Не обессудьте, дорогие, что не памятник вам поставили, а простой крестьянский крест. Вечная вам слава, низкой поклон от всех за ваши великие ратные подвиги. Аминь».
Бил ветер в лицо. Шумели березы, кланялись ветру.
6
Они объездили все сенокосы в поля шалашовской бригады, но Гурьяна так и не встретили. Всюду им отвечали одно и то же: только что был, уехал.
– Вот неуловимый Ян-Гурьян, – рассмеялся Попов, когда они, устав от поисков, расположились пообедать на полевом стане сенокосчиков. Здесь они пробыли до конца дня и вечером прямой дорогой возвратились в село.
День угасал. За Санарой, на далеком горизонте, появилась узенькая темно-лиловая полоска; она росла, окутывала мраком поля и перелески и вскоре заняла полнеба, превратившись в огромную тучу. Все вокруг потускнело, померкло, лишь в селе пламенела крыша на клубе да светилась пожарная каланча в последних лучах солнца.
Въезжая в село, Уфимцев подумал о Груне, о том, как она отнеслась к переводу ее на рядовую работу. Векшин, конечно, сослался на него. И он представил Груню в тот момент, когда она узнаёт о своей судьбе, ее недоумение, встревоженное лицо. «Еще заподозрит, что я нарочно с ней так поступил, чтобы не мешала, не лезла на глаза».
Возле лавки сельпо стоял «газик», у крыльца толпился народ. «Кто бы это мог быть?» – попытался догадаться Уфимцев.
Подъезжая, он узнал Акимова, секретаря парткома, и обрадовался его приезду: когда-то они вместе работали инструкторами райкома, крепко дружили.
Акимов высок, грузен не по возрасту. Крупный нос, широкие бугристые скулы, выбритая до синевы голова, глаза под густыми бровями – все характеризовало его как человека сурового, а на самом деле был он простым и общительным, за что и любили его в районе.
Дождавшись, когда мотоцикл, чихнув, остановился, Акимов, поздоровавшись, сказал Уфимцеву:
– Вот рассуждаем с товарищами колхозниками относительно урожая. Хлеба́ вы нынче вырастили прекрасные, поработали люди на славу, чувствуется, пришел новый хозяин, – и он потрепал по спине поежившегося Уфимцева. – И рожь хороша, и пшеница... А гречиха – просто чудо, каши всему району хватит. Только масло готовь.
Говорил Акимов легко, свободно, тоном заправского оратора, весело поглядывая по сторонам.
– Кстати, – сменил он тон, – объехал ваши поля, а кукурузы не нашел. В чем дело?
– Погибла... списали, – сказал Уфимцев, опуская глаза, рассматривая свои пропыленные штиблеты.
Акимов с недоверием поглядел на него.
Выручил тракторист Никита Сафонов, шедший из мастерской и завернувший в лавку за табаком.
– Разве на наших землях будет эта заморская королева расти? А тут еще каждый год заморозки... Сеем и гадаем: не то уродит, не то нет.
– И уродит так не обогатит и не уродит не разорит, – подал голос дед Селиверст, подошедший послушать, о чем говорит собравшийся народ.
– Семь лет мак не родил и голоду не было, – сказала тетка, и все засмеялись.
На крыльце лавки Уфимцев увидел Никанора Тетеркина. Тот стоял, надвинув на глаза кепку, боком ко всем и, казалось, не слушал разговора.
«Ох, и хитрая бестия! – подумал Уфимцев, и у него заскребло на сердце. – С комбайном не вышло. Где он еще может напакостить?»
Резкий голос Попова, спорившего с Акимовым, привлек его внимание.
– Вы говорите: урожай. Разве это урожай, соберем по пятнадцать-шестнадцать центнеров на круг? А наши земли, если удобрить, по двадцать пять, по тридцать центнеров могут давать. А где удобрения? Навозу мало, потому что скота мало, скота мало, потому что бедная кормовая база, кормовая база бедная, потому что... Вот вы говорите: кукуруза... – Попов споткнулся тут, посмотрел выразительно на Акимова.
Акимов с нескрываемым любопытством слушал разошедшегося Попова, не перебивал. Когда тот замолк, он усмехнулся:
– Кончил?.. Теперь, вижу, придется разобраться, сеяли вы кукурузу нынче или только очки втирали.
Сверкнула молния, и ударил гром. Акимов поднял голову: черная туча тяжело наплывала на село. Стало совсем темно, вот-вот должен пойти дождь. Народ забеспокоился, начал расходиться.
– Пойдемте и мы, – предложил Акимов. – Разговор есть.
В конторе никого не было, кроме Стенниковой, сидевшей над бумагами.
– Ах, Анна Ивановна, сколько лет, сколько зим! – воскликнул Акимов и подал ей руку. – Сидим, глазки портим?
– А что мне остается делать? – усмехнулась Стенникова, вынимая сигарету из пачки. – На танцы ходить – кавалеров нет, всех порасхватали молодые.
Акимов весело захохотал.
– Позвольте, я ваших закурю, дамских, – попросил он. – Говорят, они благотворно действуют на мужчин, делают их мягче.
– Попробуйте.
Стенникова придвинула ему пачку. Акимов закурил, пустил дым носом, покрутил головой.
– Ха-ра-ши! – протянул он.
Уфимцев щелкнул выключателем, зажег свет.
– Вот какой разговор, товарищи, – начал Акимов, когда все уселись вокруг стола Стенниковой. – Объехал я сегодня ваши поля и должен сказать, – зря агроном плачется: урожай действительно отменный, такого нигде в районе нет. Хватит его всем: и государству, и колхозникам. Вам следует подумать, сколько можете продать сверх плана зерна государству, а подумав, принять на себя соответствующие обязательства и выступить инициаторами этого дела по району... Какое мнение на этот счет у партийного секретаря?
– Зерно для продажи сверх плана нынче будет, – ответила Стенникова. – Ну что ж, подсчитаем, подумаем – это в наших интересах, колхозу деньги ой как нужны!
– Не понимаю, о каких обязательствах сейчас может идти речь? – вмешался в разговор Попов. Он вытащил расческу, стал торопливо причесывать свои волосы. – Хлеб еще на корню, об излишках рано говорить.
– Алеша, положи расческу, не мучь волосы, – сказала Стенникова.
– Тут ты не прав. В районе должны знать о наших возможностях, не могут там работать вслепую.
– Тогда без обязательств, просто информировать, что по предварительным данным колхоз может продать сверх плана. А там – как получится, уборка покажет.
Акимов пытливо поглядывал на Попова.
– Ты давно стал агрономом? – спросил он его.
– Скоро год. А что?
– Ничего, просто интересуюсь... Комсомолец?
– Секретарь комсомольской организации колхоза, – ответила Стенникова, ласково глядя на потемневшего Попова.
– Даже? – удивился Акимов. – Вздуть бы тебя, агроном, как следует, снять штаны и вздуть, чтобы помнил не только о своем колхозе, но и об интересах государства. Да не хочется перед уборкой настроение тебе портить.
Попов угрюмо молчал.
– Видимо, мои сигареты оказались слабенького действия, – заметила Стенникова, чтобы разрядить обстановку.
– Какие сигареты?
– Дамские... Которые мужчин мягкими делают.
Акимов уставился в недоумении на нее, потом громко, раскатисто захохотал:
– Виноват, проштрафился!
За окнами погромыхивало, было слышно, как сначала тихо, а потом сильнее и сильнее пошел дождь.
– Давай закругляться, Николай Петрович, – сказал Уфимцев, глянув в окно. – О твоем предложении по сверхплановой продаже зерна мы подумаем и свое мнение сообщим... А сейчас – поедем ко мне, поужинаем да и спать. Хватит на сегодня!
7
Шум ливня и в этом шуме непрерывный грохот и громовые раскаты, когда, кажется, рушится само небо, встретили Акимова и Уфимцева, вышедших на конторское крыльцо.
Юркнув под брезентовую крышу «газика», Акимов проворчал:
– Ну и агроном у тебя, Егор.
– Ты на него не обижайся, – ответил Уфимцев. – Парень он стоящий, но молодой еще, не знает порядков.
– Пижон... Но что-то в нем есть... Да, все дело в кадрах. Кадры руководителей, кадры специалистов – вот кто решает сейчас вопросы сельского хозяйства. Каковы кадры, таковы и дела.
– А мне думается, дело не только в них. Кадры, конечно, решающая сила, но... Вам, руководителям, следует понять и такую простую истину: колхозы нужны не только государству, но и самому колхознику.
– Не понимаю, о чем ты? – искренне удивился Акимов.
Но тот не успел ответить – они подъехали к дому.
– Батюшки! – встретила Уфимцева воплем тетя Маша. – Гостей навез, а у меня ничего нету... Чтобы тебе с кем-нибудь наказать!
– Не беспокойся, хозяйка, – сказал Акимов, раздеваясь. – Нам чайку горячего, душу отогреть, и больше ничего... Ну, здравствуй!
Он подошел к ней, как к старой знакомой, и протянул руку. Тетя Маша сконфуженно обтерла о фартук свои ладошки.
– Здравствуй, здравствуй, – проговорила она радостно. – А я тебя помню, ты у нас зональным инструхтыром был, все на квартиру заезжал...
Умывшись и приведя себя в порядок, Уфимцев позвал Акимова и шофера на свою половину.
– Да, чуть не забыл, – сказал Акимов. – За заготовку сена вам присуждено переходящее Краснее знамя. Поздравляю!
– Спасибо! – улыбнулся Уфимцев. Но что-то тревожнее сквозило в его улыбке, словно он не был рад награде.
Вошла тетя Маша, на столе появились хлеб, масло, вареные яйца, а вскоре и пышущий паром самовар.
– Садитеся, хозяйничайте, – сказала тетя Маша, – а я пойду квашню ставить, угощу вас утром свежими шанежками.
Когда напились чаю и шофер ушел спать в сени, Акимов закурил, пересел к окну. Курил он долгими затяжками, тени ползли по его широким скулам, Глаза непрестанно щурились, как от яркого света.
– О чем задумался? – спросил Уфимцев, перетирая чашки полотенцем.
Акимов выдохнул дым, постучал пальцем по сигаретке, сбивая пепел в горшок с цветами.
– Думаю о твоих словах, Егор. Хочу добраться до их смысла.
– Ну и как?
– Вот ты говоришь, что дело не только в кадрах, а в каком-то другом отношении к колхозам. А какие еще нужны отношения? У руководителей колхозов теперь широкие права, не как раньше.
И он заинтересованно повернулся к Уфимцеву.
– Где они, эти права? – усмехнулся Уфимцев. – Навязывают культуры: то сей, это не смей. Теперь какие-то бобы управление пытается внедрять.
– Тут Пастухов перестарался, мы его поправили. Кстати, долго пришлось убеждать, доказывать, что не прав. – Акимов встал, прошелся по комнате, разминая ноги. – Заладил, как попугай, со ссылкой на авторитеты, дескать, новое, прогрессивное всегда прививается туго. Кто недопонимает, приходится и принуждать, ничего, мол, не поделаешь. Вспомните, говорит, Петра Первого, как он бороды боярам стриг.
Уфимцев убрал посуду, вынес самовар, остатки ужина, вернувшись, открыл окно. Дождь утихал, шум его стал ровнее, спокойнее. Погромыхивало где-то уже вдали.
– Мне думается, – продолжал разговор Уфимцев, – дело тут не только, вернее не столько в Пастухове, как... – Он помолчал, поглядел выжидательно на Акимова.
– Как в ком? – поинтересовался Акимов, вновь садясь к окну.
– Не додумал до конца, – уклонился от ответа Уфимцев, – мозгов не хватает... Но чувствую какую-то неясность, неопределенность в руководстве сельским хозяйством в последнее время, какие-то скачки и повороты. То постановили сады всюду заводить, колхозникам бесплатно посадочный материал отпускали и вдруг огородные участки уменьшили. Кричим: мяса мало производим, город на голодном пайке, и тут же сокращаем нормы поголовья скота у колхозников, которые давали стране четверть всего мяса. Или вот с клеверами, что приказано было распахать, или ликвидация парового клина, а ведь клевера да пары – в наших условиях – хлеб. Я уж не говорю об овсе – культуре урожайной, незаменимой в фуражном балансе, мы привыкли сеять его и выращивать. И вдруг вместо овса – бобы! Вот так работаешь и не знаешь, что завтра? Не появится ли новая директива, скажем, лишить колхозников полностью приусадебных участков или перейти на посев чумизы вместо ржи...
– В твоих словах много правды, – помолчав, отозвался Акимов, – но, к сожалению, от нас это не зависит. Оттуда, – он показал сигаретой на потолок, – оттуда идут директивы.
– Но вы же, районные руководители, не там, не наверху, вы тут, с нами живете, должны как-то реагировать на то, что происходит.
– Сверху виднее, что и как надо делать.
– Ты не обижайся на меня, Николай Петрович, я тебе как секретарю парткома. К кому же я еще пойду со своими думами?
Глава третья
1
На другой день из «Сельхозтехники» приехал инженер с проверкой готовности уборочных машин. Он ходил по двору мастерской, придирчиво проверял каждую жатку, каждый комбайн, вызывая беспокойство у Уфимцева своей бесстрастностью, неразговорчивостью. Но все обошлось, и, подписав акт, инженер уехал.
Время в проверочной суматохе прошло быстро, и, когда все закончилось, оказалось, что уже полдень. Механизаторы пошабашили. Усаживаясь в тени мастерской кто на чем – земля была еще сырой после ночного дождя, – они, негромко переговариваясь, развязывали узелки с едой.
Уфимцев хотел идти домой в надежде, что тетя Маша оставила ему в печи обед, но его не отпустили.
– Что у нас, угостить нечем? – говорил Пашка Семечкин. – Садитесь, Егор Арсентьевич, вот хлеб, вот огурцы, яйца. У Федотовых есть мясо...
– Давай садись, поешь, – поддержал Пашку Коновалов. – Жены дома нету, Маша на ферме, кто тебе приготовит?
Уфимцеву неудобно стало отказываться, к тому же, показалось, – комбайнерам хочется с ним поговорить, вот так, по-домашнему. Он присел на обрубок бревна. Кто-то расстелил перед ним газету, на нее посыпались ломти хлеба, мясо, яйца, огурцы. Уфимцев отметил про себя, что Тетеркин не принимал в этом участия, стоял спиной к нему, прижимая к груди узелок с едой.
– Посмотрим, какой вы за столом работник, – сказал, смеясь, старший Федотов.
– Как нас на уборке кормить будете, Егор Арсентьевич, вот вопрос, – начал Семечкин и скинул с головы кепку, принимаясь за еду.
– За кормежкой дело не станет. Только работайте на совесть... Без бузы.
– За нас не беспокойся, – перешел на «ты» Семечкин. – А про то, что было, – забудь. Говорят, кто старое вспомянет...
– И вы за меня не беспокойтесь, – заверил их Уфимцев. – Кормить будем досыта. А комбайнерам, их помощникам и трактористам дадим еще и по сто граммов перед ужином.
– О! – простонал Федотов набитым ртом. – Фронтовую?
– Вот это я понимаю, вот это по-хозяйски, – заключил Семечкин. – Руку, Егор Арсентьевич!
После обеда Уфимцев задержался в мастерской, и здесь его нашел Векшин.
– Отогнали коров, – доложил он, поздоровавшись. – Вот, прямо с дороги, еще домой не заходил.
Действительно, вид у него был неважный: глаза припухли, сапоги и брюки в грязи.
– Хорошо дошли?
– Какое хорошо!.. Пауты в лесу напали, никакого сладу с коровами. Ладно, твой племяш Серега верхом был.
– Как там в отгоне? Все благополучно?
– Ну! Скотину не узнать. Бычки выправились, аж лоснятся.
Уфимцев допрашивал Векшина, а сам ждал, когда тот заговорит о Груне. Ему не терпелось узнать, как она восприняла известие о снятии с должности. Но Векшин, словно нарочно, молчал об этом, говорил об отгоне, о пастухах, живущих там, о грозе, о грязной дороге, на которой они измучили лошадей.
Наконец, он смилостивился над Уфимцевым:
– А Васькова-то выкинула номерок, ведь отказалась пойти в подменные доярки. Говорит, будем переезжать с мужем на жительство в Репьевку... Я ей объясняю, как же так, ты, наша колхозница, не имеешь права без решения правления выбывать из колхоза. Да и товарищ Уфимцев, говорю, не даст своего согласия на это... А она: передай своему председателю, что я премного благодарна ему за заботы, надолго они мне будут в памяти... Ну, что ты с ней поделаешь? Дура-баба!
Векшин, рассказывая, следил за Уфимцевым, в его цыганской бородке щерилась хитренькая усмешка. Возможно, он и домой не пошел потому, что не терпелось сообщить эту новость Уфимцеву, посмотреть, как председатель отнесется к ней.
И верно, похолодело в груди у Егора, когда он услышал о последних словах Груни. Мысленно обругал себя, что не удосужился поговорить с ней, объяснить положение. Но все же известие об отъезде в Репьевку, где работал ее муж, больше обрадовало: «Так лучше будет».
И он сказал Векшину, ничем не выдавая своего состояния:
– Пусть едет... Не задерживай.
День складывался для него удачно. Эта долгожданная готовность уборочных машин, этот дружеский обед с механизаторами, и вот теперь этот неожиданный конец их отношений с Груней.
В конторе его ждала еще одна радость: письмо от жены. Аня писала, что доехала благополучно, ребята здоровы, ходит с ними на пляж, загорает, скучает по нему, считает дни, сколько их осталось до отъезда домой.
Придя вечером на квартиру, он встретил во дворе дядю Павла. Тот у поленницы колол дрова.
– Здравствуй! – крикнул ему Уфимцев. – Домой заявился?
– Да... Надо вот в баньку сходить. Топить лажусь.
– А тети Маши нет дома?
– Нету.
Дядю Павла Уфимцев редко встречал в летнюю пору дома. Тот работал горючевозом и всегда находился в поле, в пути. Это – молчаливый старик, невысокого роста, с крепкими, выгнутыми колесом ногами и длинными, до колен, руками. Ходил он чуть сгорбившись, тяжело и крепко ступая полупудовыми сапогами. Несмотря на его нескладную фигуру, кажущуюся угрюмость, дядя Павел был человеком редчайшей души и исключительного трудолюбия. Он не отказывался от любой работы, какую бы ни поручал бригадир или кто-нибудь из колхозников, – все, кто хотел, могли им распорядиться. И так уже повелось в колхозе, что дядя Павел никогда не сидел без дела, в то время, когда другие, особенно зимой, не очень себя утруждали работой.
У дяди Павла и тети Маши были сын и дочь. Сын погиб на фронте, дочь уже после войны вышла замуж за горного техника и жила в Теплогорске. Каждое лето зять с семьей наезжал к старикам в гости – «на ягоду», как говорили в народе, – хвалил свое городское житье, манил стариков к себе. Тетя Маша ахала, восхищалась хорошей жизнью зятя, нарядами дочери, белыми личиками внучек Гали и Вали. Она расспрашивала про базар, про баню и церковь, но ехать категорически отказывалась, с чем молчаливо соглашался и дядя Павел. Слишком крепко они были привязаны к земле, к колхозу, которому отдали половину своей жизни и с которым у них были связаны все радости и горести крестьянской жизни.
Иногда, после настойчивых просьб зятя или дочери, тетя Маша, вздохнув, скажет:
– Нет, не зовите, не поедем мы с отцом никуда. Где родились, там, видно, и умирать будем. На своей стороне и умирать легче, и в могилке земля мягче... Хорошо, видать, у вас, и у нас, слава богу, не плохо...
Тетя Маша пришла с птицефермы, где она работала, уже в сумерках и, подойдя к двери, заглянула в горницу к Уфимцеву:
– Ты что делаешь?
– Письмо Ане пишу.
– Пиши, пиши... Да отпиши ей, как ты тут развлекаешься. Ни стыда у тебя, ни совести!
Уфимцев выскочил в переднюю:
– В чем дело, тетя Маша?
Она достала с опечка мыло, придерживая у груди белье, приготовленное к бане.
– Груньку на мотоцикле возил? Валял ее в кустах?
Все потемнело в глазах Уфимцева, лицо помучнело, вытянулось.
– Подожди, тетя Маша...
– Не отпирайся, вся деревня уже знат... Пришла, говорят, на ферму вся в сене. У-у, бесстыжие твои глаза!
Тетя Маша, зло хлопнув дверью, ушла, не слушая оправданий Уфимцева. Он постоял, не зная, что делать, медленно вошел в горницу, увидел недописанное письмо.







