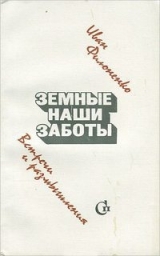
Текст книги "Земные наши заботы"
Автор книги: Иван Филоненко
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
привыкший. Сидел, посматривал в окно и не знал, куда же послать машины на
вывозку скошенных трав. Еще вчера не смогли пробиться ни в одну бригаду, с
полпути тракторами вызволяли, где-то и сейчас еще две машины «сидят». Так то
было вчера, а сегодня – всю ночь лило – и вовсе не проехать.
– Дорог-то в хозяйстве – ни метра, – сказал он, словно бы оправдываясь
перед нами, приехавшими дознаться, почему из отстающих никак не
выкарабкается совхоз. – Поэтому сейчас мы с вами и посмотреть ничего не
сможем. Правда, на новую ферму можно пройти, она тут рядышком. Можно по пути
торговый комплекс посмотреть, – он еще строится.
Вышли опять на поляну. Председатель сельсовета присоединился к нашей не
очень разговорчивой компании, а потом и секретарь партийной организации,
многие годы до этого возглавлявший местный Совет. Оба в здешних местах
выросли, видели Сельцо до войны («Тоже было не крупнее») и после («Ни одной
избы не осталось, все фашисты пожгли. И людей в избах, за помощь
партизанам...»).
– Тут партизаны были?
– Ну как же... Помните обращение Твардовского к партизанам Смоленщины?..
За Починками, Глинками...– начал вдруг читать секретарь парткома тихим
голосом, будто это вовсе и не стихи были, а задушевный разговор с поэтом
пересказывал.
За Починками, Глинками
И везде, где ни есть,
Потайными тропинками
Ходит зоркая месть.
Ходит, в цепи смыкается,
Обложила весь край,
Где не ждут, объявляется
И карает...
Карай!
Мы вышли из строящегося магазина и остановились посреди поляны-площади.
Вернее, были остановлены вот этим задушевным чтением знакомых стихов поэта,
здесь выросшего, здесь начавшего писать и потом много раз бывавшего на этой
земле, вот на этой поляне. Кто-то наверняка видел его здесь и помнит.
Не успел я додумать это, спросить не успел, как сам собой зародился и
потек неспешный разговор:
– Последний раз Александр Трифонович приезжал в Сельцо в 1962 году... —
Это секретарь парткома сказал.
– А не в шестьдесят первом? – усомнился председатель сельсовета.
– И в шестьдесят первом был... Вот на этом же месте остановился, по
сторонам посмотрел... А тут вот, в низинке, где пруд сейчас, болотце было.
Александр Трифонович и говорит: «Думаете прославиться своей миргородской
лужей?» Замялись мы, мол, руки не доходят засыпать эту трясинку. А он: «И не
надо ее засыпать. Копните несколько раз экскаватором, деревьями обсадите – и
вместо грязи красота будет, пруд». Постоял еще, подумал... «А вот тут, выше
пруда, хорошо бы клуб построить... И уж от него по сухому высокому месту
новые дома, которые возводить собираетесь, в один порядок поставить...» И
показал рукой в сторону хутора своего.
– Там что-нибудь было? – спросил я.
– На месте хутора? А ничего. Вот, видно, и хотелось ему, чтобы дома до
бывшего его подворья дошли... Стали мы говорить ему что-то про деньги,
отнекиваться. А он нам: «Вот скоро получу Ленинскую премию за мою новую
поэму и пришлю вам – стройте тут клуб»... Походил он по деревне, со
стариками, бабами поговорил – и уехал. А вскоре и правда денежный перевод от
него приходит – за поэму «За далью – даль» получил он премию. Ну, мы эти
деньги в банк, да потом и построили вот этот клуб. Своих, конечно, добавили.
И болотце вычистили, теперь пруд на его месте. И домики двухэтажные от клуба
в сторону бывшего хутора поставили. Так что выполнили все пожелания нашего
знаменитого земляка...
От «пруда Твардовского» до «клуба Твардовского» скверик высажен, еще не
успевший разрастись. В скверике обелиск, на котором около пятисот фамилий
погибших жителей сельсовета: на войне в далеких отсюда краях, на
партизанских тропах, расстрелянных и заживо сожженных карателями в здешних
деревнях, в Сельце и на хуторе Загорье... Уже потом, дома, я открыл томик
Твардовского и прочитал: «Родное Загорье. Только немногим жителям здесь
удалось избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и так
непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни
деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек, – все занесено
дурной, высокой, как конопля, травой, что обычно растет на заброшенных
пепелищах». Таким увидел поэт отчий край, вступив на родимую землю с
освобождавшими ее боевыми частями осенью 1943 года.
В клуб вошли. В небольшой комнатке – метров десять квадратных – полочки с
книгами Твардовского, стенд с его фотографиями из газет и журналов. Но ни
одного снимка – в родных местах. Не думаю, что районные или областные
газетчики не засняли встречу поэта с земляками. Их искать надо, так что не
музей это, а всего лишь тематический уголок; когда-то давно оформленный и
так же давно заброшенный, поблекший не столько от времени, сколько от
затхлости.
– Не богато, конечно, – словно бы оправдываясь, проговорил секретарь
парткома. – Да и то сказать, заходят сюда только наши ребятишки по большей
части да новоселы, из других мест к нам на жительство приехавшие. Бывают,
правда, и туристы. Однако они в школу идут, там получше музей.
Да, в школе, что рядом с клубом, в одном из классов тоже есть стенды, не
такие вылинявшие, книги с автографами Твардовского, воспоминания
односельчан. И даже шкаф есть, на полках которого стоят книги из личной
библиотеки поэта, подаренные сельцовской школе самим Твардовским. Их было
больше, значительно больше, да многие по рукам разошлись безвозвратно.
Оставшиеся сохранить бы... Однако в классе не так-то легко уберечь не только
их, но и книги с автографом.
Есть в этом классе и книга отзывов о «музее». Благодарят редкие
посетители школу за память о поэте, завидуют ученикам «школы имени А. Т.
Твардовского». То ли по незнанию так пишут (школа не носит имени поэта), то
ли полагая, что так Когда-нибудь она и будет именоваться.
Хотелось мне задержаться здесь подольше, однако класс не музей.
Сели мы в клубном зале – в комнате не поместиться. Над нами, на потолке,
мокрое пятно со старыми и свежими потеками. Сели и вспомнили, что не далее
как на прошлой неделе, 21 июня, здесь могло состояться торжество, могли быть
литературные чтения по случаю дня рождения Александра Трифоновича
Твардовского. Могли приехать писатели и почитатели таланта знаменитого
поэта, оставившего глубокий след в советской литературе, как едут в
Михайловское к Пушкину, в Карабиху к Некрасову, в Сростки к Шукшину. Да, уже
и к Шукшину. Только к Твардовскому почему-то, по какой-то странности судьбы,
не едут ни писатели, ни многочисленные почитатели. Тихо было в этот день в
Сельце, ни из дальних краев, ни из ближних никто не заглянул сюда, чтобы
дань уважения отдать, чтобы послушать незамысловатые рассказы его земляков,
природу послушать, которая языком чувств тоже может поведать много.
«...Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка – все это
для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, свято
особой, кровной святостью. Все это часть его собственной жизни, что-то
глубоко внутреннее и бесконечно дорогое».
Сидели мы в зале под мокрым потолком, и местные руководители озабоченно
говорили, что надо бы новый Дом культуры строить, а «клуб Твардовского»
отремонтировать и целиком отдать под музей, что надо бы и на месте дворища,
пока не забыли, где оно было, что-нибудь поставить, хотя бы камень для
начала. Да все некогда, все руки не доходят.
– А мне в Починке говорили, что поставлено что-то...
– Разговоры... Ничего нет и не было...
Хотел я сказать: а вы-то, здесь живущие, что же ничего не делаете, чтобы
память о знаменитом своем земляке увековечить? Но язык не повернулся
упрекнуть, когда узнал, что в совхозе всего-то работников половина едва
набирается, половина от нужного для ведения хозяйства работников. Стоят
трактора и машины без механизаторов, на ферме люди не знают отдыха, а
руководители не знают, кто будет завтра доить коров, если какая доярка
приболеет вдруг или вовсе уволится. И сколько еще будет мучить бездорожье,
на котором за один сезон изнашивается новая техника, из-за которого
срываются все работы, а люди уезжают в другие края, оставляя тут
...притихшие подворья,
Дворы, готовые на слом,
И где семья, чтоб в полном сборе
Хоть в редкий праздник за столом?
И не свои друзья-подружки,
А, доносясь издалека,
Трубило радио частушки
Насчет надоев молока...
Земля родная, что же сталось,
Какая странная судьба:
Не только юность, но и старость —
Туда же, в город, на хлеба.
И все же не хлебом единым жив человек. Не хлебами одними да льнами славен
край. Надо, сами понимают, что надо («Вот только бы хозяйство на ноги
поставить») именем Твардовского что-то назвать, сделать музей, памятник на
поляне воздвигнуть, а может, и избу срубить там, где был хутор.
– А помнит кто-нибудь, какая изба была?
– А как же, даже макет есть, в смоленском музее он. Брат Твардовского
сделал.
Хочется, чтобы поняли это и в нашем Союзе писателей. Может, совместными-
то стараниями все это получилось бы быстрее и лучше?
Осенью того же 1943 года, ступив на разоренную отчую землю, Твардовский
думал: «Если так стерто и уничтожено все то, что отмечало и означало мое
пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я становлюсь вдруг
свободен от чего-то и ненужен».
И тут же: «Но потом подумаешь и так: именно поэтому я должен жить и
делать свое дело. Никто, кроме меня, не воспроизведет того неповторимого и
сошедшего с лица земли малого мира, мирка, который были теперь есть для
меня, когда ничего от него не осталось...»
Не знаю, по каким причинам не «воспроизвел» он этот мир. Наверное,
потому, что неловко было ему, живому, на месте исчезнувшего хутора, а потом
и распаханного, затевать строительство. Но мы знаем, какая была у
Твардовских изба – макет есть. И поле, и пашня на косогоре не пострадают,
если мы поставим на взгорке рубленую избу. Избу, а не дворец из стекла и
бетона, от которого никогда не уловишь запаха крестьянского подворья. В ней
и музей создать.
Это надо здесь живущим (помню я, какую гордость вызывало у нас,
мальчишек, лишь упоминание о том, что мимо нашего поселка проезжал или
останавливался знаменитый человек). Нужно здешнему краю.
Это нужно всем нам, нам и нашим потомкам. Потому что нет, не может быть
поэта без родины, как нет реки без истока.
«Без своей Ясной Поляны, – писал Лев Толстой, – я трудно могу себе
представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть,
яснее увижу общие законы, необходимые для моего Отечества, но я не буду до
пристрастия любить его».
А мы? Если хотите узнать поэта, побывайте у него на родине, советовал
Гёте. Потому что, признавался великий наш Н. А. Некрасов, посетив родовое
Грешнево, «Всему начало здесь, в краю моем, родимом!..». Там начало, исток
человеческой жизни. Там мы лучше поймем поступки и мысли, волновавшие
человека всю его жизнь.
«Для всякого художника, в особенности художника слова, писателя, наличие
этой малой, отдельной и личной родины имеет огромное значение», – писал
Твардовский. Для понимания художника – тоже. Тем более такого, для которого
все то, что было заложено в детстве, в ранней юности, в родном краю, играло
такую большую роль на всем его творческом пути. И связь эта со своим началом
не слабела с годами, хоть уже и не было «неповторимого и сошедшего с лица
земли малого мира», а лишь переосмысливалась.
И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал!
Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы.
И счастлив тем, что я не чудо.
Особой, избранной судьбы.
– Вот здесь изба и кузня стояли, на этом месте... – показали мне еще раз,
но теперь уже не издали, а ступив ногой.
По косогору, по бывшему подворью волновался на ветру поникший от влаги
ячмень. За подворьем березки грустно роняли капли с листьев. Дождь кончился,
а тут, под деревьями, он словно бы еще продолжался.
И повеяло летом,
Давней, давней порой,
Детством, прожитым где-то,
Где-то здесь, за горой.
Я смотрю, вспоминаю
Близ родного угла,
Где тут что: где какая
В поле стежка была,
Где дорожка...
Мне показалось, я услышал живой голос. Нет, я не был знаком с
Твардовским. Это листья, капли, травы, хлеба нашептали. И мы вроде бы
познакомились, поговорили...
* * *
Возвращались в Починок через Лучесу – так дорога пролегала. На пологом
косогоре увидел большой фруктовый сад – общественный, стелу, словно бы из
клумб вырастающую, а в саду – не громоздкое, а отовсюду видное здание —
музей истории Лучесы. Я бывал в нем несколько раз, подолгу стоял перед
экспонатами и старыми фотографиями, читал вырезки из пожелтевших от времени

газет и выписки из протоколов крестьянских сходов. И постепенно привыкал,
что музей – явление для Лучесы обычное, потому даже не упомянул о нем.
Однако увидел его теперь и подумал: надо исправить свою оплошность, надо
спасибо сказать Сергею Ивановичу Бизунову. В трудной, беспокойной должности
хозяина большой колхозной усадьбы он действительно ничего не забыл сделать,
чтобы людям жилось и работалось хорошо, чтобы любили они родимый край свой и
землю.
7. БЫЛА ДЕРЕВНЯ НАД РЕКОЙ…
Еще месяц назад не помышлял, не собирался Михаил
покинуть свой дом, поставленный собственными руками.
Поставленный за лето. Но еще дольше готовился к этому
важнейшему в его жизни событию. Годами накапливал
кирпич, складывая его в углу двора, подкупал по мешочку
цемент и – под навес у старой хатенки. Туда же волок на
плече и рулон рубероида, и доску, и лист шифера, – все,
что могло сгодиться и добротно лечь в стену ли, на пол
или потолок. Лишнего, знал Михаил, не будет. Все надо ставить заново. Ни
хатенку, ни сарай, да и летнюю кухоньку ни к чему уже не приспособишь,
нечего и разбирать: спихнуть да и только. Разве на дрова что сгодится. Так и
оказалось.
Новый дом на крепком каменном фундаменте поставил окнами к реке,
просторно разместив его среди яблоневого сада. Поставил и сказал коротко:
– Всё.
Молодая жена поняла это как выдох намаявшегося человека, избавившегося
наконец-то от бесконечных хлопот, усилий и напряжения.
Мать-старушка всплакнула, припомнив всю свою жизнь, и согласилась:
– И можно бы лучше, да некуда – и крепкий, и просторный, два века
простоит.
Это же подтвердили и деревенские старики, приходившие поглазеть на
Михайлов дом.
– Много хороших дворов в Ясеневке, – рассуждали они, сидя на лавочке под
ивами, – однако этот, пожалуй, получше и попросторней других будет.
Рассуждали не без гордости за свою деревню. Вроде бы и невелика, всего
сотня дворов, однако же вон как новеет.
А стояла Ясеневка, если смотреть с востока, от реки, так высоко, что все
сто дворов четко обрисовывались на небесной голубизне. От этого даже в
непогодь деревня казалась светлой и чистой, вовсе не знающей вязкой грязи на
улицах. Стояла, как утверждали те же старики, со дня сотворения земли. Река,
мол, потекла здесь потом. Дотекла прямиком до здешних мест, а тут-то на пути
Ясеневка ей попалась. Вот Ворожея и изогнулась дугой вокруг домов, садов и
огородов, словно обняла.
Так, казалось им, и было. Во всяком случае так, словно бы нехотя,
изогнулась автострада, которую проложили совсем недавно, каждый малец
помнит. Уж куда прямее! Не дорога – стрела, на деревню направленная! Так и
казалось, рассечет Ясеневку надвое. Геодезисты трубы уже нацеливали. С
рейками через дворы ходили. А потом все же влево вдруг подались перед самой
деревней. Обошли ее, а уж потом снова выпрямили. Вот как! Ни один двор не
потеснили насыпью.
Этот факт частенько побуждал дедов на обстоятельные беседы и размышления.
Сверяя поступок строителей со своим крестьянским трудом, они подводили под
него вовсе даже не экономические или иные какие расчеты, а чисто
нравственную основу.
– Вот так и на косовице бывало. Смотришь, чтобы ненароком гнездовье не
порушить. А уж когда не углядишь, то вся душа изболится. На двор сено
свезешь, радуешься: все, мол, управился. Однако перед глазами нет-нет да и
трепыхнется птаха, пискнет жалобно. Чему ж ты, мол, радуешься, дурень. Дело-
то ты сделал, да меня разорил.
Но только отстроился Михаил, только промолвил: «Всё» – и, сходив на речку
искупаться, побродив по саду, взял в руки газету, чтобы отдохнуть и
приобщиться к событиям внешнего мира, как наткнулся на карту района.
«Так, где тут Ясеневка?» – подумал он. И вдруг, как утверждала потом
мать, вроде бы простонал и выругался. Должно быть, наломался, вот поясницу и
схватило, решила она и присоветовала укрутиться шерстяным платком.
Михаил не слышал ее. Он смотрел на кресты, которыми пестрела карта.
Одному не нашлось места, прилепился внизу, а через черточку разъяснялось и
его значение: «Неперспективные села».
«Ай да-да», – только и подумал Михаил, еще не понимая всего значения этих
крестов и слов, но чувствуя, что они затрагивают его, грозят ему,
предупреждают и посмеиваются над ним, презрительно выговаривая: «Не-пер-
спек-тив-ный...»
Однако постепенно успокоился, так как время шло, а действий никаких не
замечалось. Должно быть, ошибка какая-то. А если не ошибка, то мероприятие.
Одно из тех, о которых тут же забывают. Ясеневка жила, как и до креста на
ней. Одни в поле работали, другие на ферме, которую, кстати, колхоз построил
всего три года назад.
Анализируя этот факт, Михаил приходил к успокоительному и вполне
логичному выводу: не стал бы колхоз ферму у Ясеневки грохать, если бы и
правда она на переселенье намечалась. Да и зачем переселять ее, если дворов
в ней не уменьшается, стоят один к одному, и все кирпичные, просторные,
заново отстроенные: одни вскоре после войны, другие и вовсе недавно, а
потому добротные. Не деревянные, не разберешь, на полоз не поставишь. Нет,
чушь какая-то.
К такому же выводу пришел и сосед. Завез уже было кирпич, чтобы сарай
подновить, но его припугнули штрафом: запрещено, мол, в неперспективном селе
не только строить, но и ремонтировать.
– Это почему же? Мой двор, мой дом, что хочу, то и делаю.
– Запрещено, и все тут,– отвечали и в сельсовете, и в правлении колхоза.
Конечно, Михаил мог бы жить и, как говорится, не тужить. Что из того, что
запрещают. Ему и не надо ничего строить, не предвидится и ремонт. Однако
уверенность покинула его. Он уже не чувствовал той радости и прочности в
жизни, какая была в нем, когда сказал решительно и коротко: «Всё».
Выходит, еще не все, рано успокаиваться, что-то предстоит еще, и, быть
может, самое трудное, так как истратил и сбережения, и силы, и мечту. Уложил
их, как говорится, со старанием и любовью под каждый кирпичик, под дощечку
каждую. По крупице всюду распределил, чтобы не только крепким был дом, но и
уютным, теплым, видом своим радующим хозяина и прохожего.
Теперь уже ничто не радовало его: ни просторный дом, в котором он
собирался женить будущих детей своих, ни сад, который отец, недавно умерший,
не решился вырубить даже в те годы, когда каждое фруктовое дерево облагалось
налогом и когда все вокруг предавали сады топору. Поселилось какое-то
щемящее чувство обиды и все усиливающейся апатии.
А обида была не только на тех, вовсе неизвестных ему людей, почему-то
пометивших Ясеневку крестом и пожелавших ликвидировать ее из каких-то
непонятных ему побуждений. Обидно было и за себя: надо, надо было думать,
умом жить, а не сердцем. И в райцентре было место, и в городе, однако ж
вот...
Не мог Михаил простить себе этого, потому что давно ходили слухи о
сселении и укрупнении. Слышал, что сселение одних деревень и укрупнение
других вызвано заботой о благоустройстве и ликвидации различий, что для
этого предстоит переселить каждого второго сельского жителя. Но он не
полагал, что это будет выражено вот так категорично: «Запрещено, и все тут»,
что благоустройство потребует переселения не только хуторов и деревень-
малодворок, но и Ясеневки.
Свою деревню он считал большой и благоустроенной, не по-городскому
благоустроенной, но вполне прилично. Почти в каждом дворе была скважина, так
что воды хватало. В домах стояли плиты, а газ к ним хранился в баллонах за
стеной. Не слишком утруждало и индивидуальное водяное отопление. Во всяком
случае, все это пока устраивало Михаила. А если что и требовалось
«ликвидировать» так это, по его мнению, чтобы жена уходила на ферму не в
четыре утра, а возвращалась не в двенадцать ночи. Чтобы он, механизатор,
имел летом если не свободные вечера, то хотя бы выходные, о которых он пока
только слышал. Пусть не по два дня, как в городе, а один, для начала.
Что из того, если он и переселится в Лазурное – на центральную усадьбу
колхоза? Ну, полюднее и посуше на улице. Магазин рядом и Дом культуры. Да
ему-то что до этого Дома, если работа останется той же, если и он и жена все
так же будут возвращаться домой, только чтобы выспаться? «Нет, не то что-то,
– рассуждал Михаил. – Не с того боку благо надумано делать».
Однако и сидеть больше не мог. Сколько ни выжидай, а получалось теперь,
что живет он в Ясеневке вроде бы временно. И как бы снова не оказаться в
дураках. К тому же кое-кто, махнув на все, уже съехал молчком. Так что
деревенский ряд оказался вдруг щербатым. И теперь, по всему видно, будут
выпадать дома из стройного ряда один за другим. А раз так, то когда-то
придет и его черед. Пусть и не скоро, пусть эта канитель протянется еще лет
десять—двадцать. Но потом, на старости-то что? Нет, жить в неопределенности
он тоже не мог. Нужно было что-то придумывать, на что-то решаться.
Легко сказать: придумать, решиться. Для него это значило бросить родной
дом, в который он вложил свою душу и думу о благополучии, покинуть привычный
уют, оставить деревню с погостом на холме. Это значило начинать жизнь
заново, в чужом месте, где надо привыкать к людям, ко всему, что будет
окружать. Не будет привычных тропинок к реке, на которых каждую ямку он
знает. Не будет двора, в котором вырос. И яблонь не будет. И брат не всякий
раз приедет в гости. Что ему новое место? Не будет родины.
Если бы не знал всего этого Михаил, может, и легче было бы. А он помнит, как
в армии по этим тропинкам тосковал, по речке, саду, по голубому горизонту,
на фоне которого четко вырисовывалась милая, тихая, родная Ясеневка. Должно
быть, оттого и название у нее такое. Во всяком случае, ни одного дерева
ясеня в деревне не было.
Выручало Михаила лишь то, что он не сомневался в какой-то высшей
разумности всей этой затеи, о которой даже председатель сельсовета Иван
Сергеевич Петров знал одно: за ремонт и застройку в неперспективном селе он
не только имеет право, но и должен штрафовать нарушителей, то есть жителей
этого села.
Правда, эту строгость пробовал было смягчить председатель колхоза, – на
ферме-то, которая рядом с селом, нужны люди! Мол, как же это так, чтобы
человеку нельзя было жить там, где... Но и Семен Иванович вынужден был
умолкнуть и отступиться, получив из района выговор и внушение, что это вовсе
не временная кампания, а «важнейшая социальная задача по сближению уровней».
Так что и Семену Ивановичу ничего не оставалось, как пригласить в кабинет
Михаила Матвеева и завести разговор о кредите, о материалах, которыми колхоз
готов пособить ему при строительстве дома на центральной усадьбе.
Михаил сидел и думал, поглядывая в окно. Думал о том, что, пожалуй, мог
бы и еще раз построиться, если бы, скажем, пожар случился. Но построиться в
своем дворе. Там каждый выдавшийся свободный час – твой, что-то положил,
что-то прибил. И под рукой все, и на глазах. А в соседнем селе дом заложить
– дело долгое, несподручное и рискованное. Без присмотра не оставишь. Все,
что завез, надо быстро в дело, иначе не навозишься. Значит, нанимать кого-то
надо. А ему это теперь не по карману. Что из того, что кредит председатель
обещает. Кредит тоже надо будет возвращать. Да и что ж это он, так и будет
всю жизнь на дом работать? Сначала на один, теперь на другой?
– Нет, председатель, – проговорил Михаил таким голосом, словно только что
родного человека похоронил. – Я так думаю: бери мой дом, а мне давай
казенный. Не сам Ясеневку покидаю, не сам я и новый дом свой оставляю. Вот и
устрой, значит, лучшую для меня жизнь. Второй раз с фундамента начинать не
хочу, руки ослабли...
«Дорогой ты мой Матвеев, – думал председатель.– Если не кричишь, не
ругаешься, значит, силы в тебе ой как много. А может, это уже и не сила в
тебе, а безразличие?.. Тогда плохо дело. Тогда лишится колхоз еще двух
работников».
А терять Матвеевых председателю не хотелось. И не только потому, что
трактор останется без механизатора, а ферма – без доярки. С горем пополам
замену им можно будет найти. Но и работа будет с тем же горем пополам.
Потому что приехавшего со стороны человека надо сначала научить землю
любить, труд свой, а уж потом все прочее от него требовать. Однако кто со
стороны приезжает, тот всегда на сторону и съехать может, ему все равно, где
работать и что делать.
– Ладно, Михаил, – проговорил Семен Иванович.– Есть у меня несколько
свободных квартир. Какую выберешь, та и твоя.
Знал эти квартиры Матвеев. Много раз уже обдумывал свою жизнь в одной из
них. Обдумывал с неохотой, на тот случай, если все же придется, если не
будет иного выхода.
– Это в четырехэтажке-то?
– Можешь в восьмиквартирном посмотреть, – ответил председатель, уловив
явную иронию в голосе Михаила.– Однако и четырехэтажку зря хаешь, и газ и
ванна есть. Тепло, хорошо, водой хоть залейся. Так что и выходить на улицу
нет нужды...
Михаил усмехнулся. И эта усмешка смутила председателя, потому что сам он
жил в обычном одноэтажном домике без половины тех благ, которые он только
что перечислил, переезжать из него не собирался.
– Посмотри, – повторил Семен Иванович. – Ключи у коменданта возьмешь.
Погодь, сейчас записку ему напишу.
Вечером, разыскав коменданта, Михаил взял ключи, открыл свободную
квартиру на третьем этаже, сел на подоконник и затих в задумчивости.
Да-а, тесновато, две комнатушки всего лишь. И это от дома-то
собственного, в котором кроме четырех просторных комнат еще и гостиная, и
утепленная веранда широченная, и летняя кухонька в саду. Есть где гостей
принять, будет где детям покойно спать и резвиться. Однако что это он
замечтался: есть-то есть, да, видно, скоро не будет.
Где-то за стеной гомонил телевизор. Где-то прыгали, а может, отплясывали.
Кто-то гулко отстукивал молотком: то ли вбивал гвозди, то ли делал что-то.
Это мешало ему думать, и он начал прислушиваться, пытаясь понять, откуда
эти звуки. Особенно почему-то раздражал его молоток, Словно стоял Михаил,
прислонившись затылком к железобетонной плите, по которой остервенело
шарахают кувалдой.
Надоедливая стукотня эта слышалась ему то сверху, то сбоку, то откуда-то
снизу. Он ходил по комнате – и стук перемещался. Не поймешь, кого и
отругать. Отец, бывало, давал ему подзатыльник за такие проделки и выгонял
из хаты: в сарае стучи, хоть оглохни, а тут тебе не кузня.
Правда, куда ж из такого дома выгонишь, если что сделать человеку надо
или руки чешутся. Так и будет грохать, пока самому не надоест...
Пришел комендант.
– Ну что, Матвеев?
Михаил пожал плечами. Эта неопределенность обидела коменданта.
– О такой квартире в городе и мечтать не каждый может, вот что я тебе
скажу, куркуль ты деревенский. Хоть меня возьми. Всю жизнь в городе прожил,
а доживать сюда вот приехал, потому что ютиться надоело.
– Значит, плохим работником был, если и в такой-то коробке места не
нашлось, – проговорил Михаил, которого раздражала покровительственная
болтовня коменданта.
– Ишь ты, какой хороший явился. Квартирка с комфортом полным, а он еще
плечиками пожимает. Ему, куркулю ясеневскому, коттедж подавай, чтобы в
погреб, как крот, мог всякой всячины напихать, в сарае свинство развести, в
навозе на огороде покопаться.
– А что ж на свежем-то воздухе и не покопаться, если не лень? —
согласился Михаил. – Неужто лучше из угла в угол слоняться? Однако ж вот
слоняетесь, а посмотри, у дома-то ни одного деревца никто воткнуть не
догадался. Значит, я так понимаю, не думают тут обживаться.
Сказав это, Михаил положил в оттопыренный карман коменданта ключи и
вышел.
На лестничной площадке Михаилу бросилась в глаза застарелая грязь, пахло
гнилой картошкой, поэтому он торопливо выскочил на улицу – и очутился словно
на пустыре. Ни у подъезда, ни вокруг дома действительно не было ни кустика.
Лишь густой бурьян жирел.
Во всем этом было что-то барачное, казарменное, вовсе даже непривычное
для глаза деревенского жителя, для которого жилье – это не только то, что
под крышей, но и что вокруг дома. И не только в пределах, обозначенных
забором, но и за калиткой, на улице. А здесь весь комфорт, как выразился
комендант, кончался за дверью квартиры, потому что состоял из кухонной
плиты, отопительных радиаторов, двух кранов и ванны с туалетом. Все это было
и в его доме; правда, не от центральной сети.
Блуждая взглядом, Михаил натыкался лишь на такие же голые коробки,
ободранные двери подъездов, вывернутые набок детские качели, изорванную
сетку на двух покосившихся столбах да на мусорные кучи, рядом с которыми
мальчишки гоняли по земле консервные банки, оглашая двор грохотом и криками,
пытаясь хоть этим разрядить накопившуюся в них молодую силу.
Невольно вспомнив свое детство, вовсе даже не беспечное, Михаил
представил себя на их месте – и не позавидовал! От одной этой мысли, что и
он мог бы вот так же бесцельно слоняться по пустырю, ему стало вдруг скучно
и тоскливо. Значит, не узнал бы, как пахнет только что вскопанная тобой
земля, как мечтается в загадочном ночном саду, как приятно что-то сделать
своими руками, нужное в хозяйстве. Не увидел бы, как проклевываются из земли
нежные ростки, как изо дня в день наливаются и розовеют яблоки, как птаха,
свившая гнездо в малине, кормит птенцов, как ласково лижет корова своего
телка. Многого не узнал бы, не увидел, потому что на пустыре, да еще в
гвалте и грохоте, мимо бы пробежал...
Вернувшись в Ясеневку и войдя в калитку, Михаил с еще большей тоской и
болью почувствовал покой и красоту своего двора. Сад встретил его ночной
прохладой, пахло свежестью, какими-то цветами, зеленью и землей, омытой
недавно пролившимся дождем.
«Как человек после бани», – почему-то подумалось ему.
И дом, утопавший в зелени, запахах и тишине, показался ему вовсе даже не
каменным, а каким-то живым и добрым существом, молчаливо поглядывающим на
мир доверчивыми детскими глазенками.
Михаил любил природу. Но любил не созерцать, а общаться с ней: вскопать,
полить, а вскопав и полив, слушать, как пьет земля, наблюдать, как растет,
набирает силу ухоженное дерево. Возвращаясь с работы домой, он выходил в
сад, садился за столик и отдыхал, любуясь таинственной красотой вечера,








