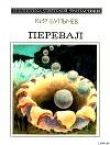Текст книги "Курский перевал"
Автор книги: Илья Маркин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
XV
Гаркуша лежал под голым кустом терновника и, лукаво посматривая на командира расчета, дурашливо распевал:
Ой ты, доля, моя долюшка, доля разнесчастная!..
– Что ты ноешь? – не выдержал Чалый. – Завел волынку и тянет без конца!
– Эх, товарищ сержант, – подчеркивая новое звание Чалого, с притворной горестью отозвался Гаркуша, – тут не то что заноешь, а по-волчьи взвоешь! Вон они, – кивнул он в сторону редкой рощицы, где приглушенно урчали танковые моторы, – ревут, як оглашенные, гусеницами скрегочут, а пид ними наш брат солдатик дрожмя дрожит и матку ридну вспоминае. Ох ты, мати, моя мати, зачим ты мэнэ родила? – вновь несуразно затянул Гаркуша.
– А ну, прекратить кривлянье! – грозно прикрикнул Чалый.
Алеша Тамаев, полузакрыв глаза, смотрел на расстеленные в необъятной вышине серебристые облака. Утреннее солнце ласково пригревало. Только натруженные руки и ноги все еще ныли, напоминая о долгих ночах рытья окопов и траншей. Никогда еще Алеше не приходилось столько перекопать и перебросать земли. С темноты и до рассвета солдаты долбили черную, неуступчивую землю. А утром, позавтракав и поспав всего три часа, вновь разбредались по лощинам и рощицам, отрабатывали перебежки, переползания, стрельбу, маскировку, метание гранат, рукопашный бой и еще многое-многое, что может потребоваться на войне.
В последнюю неделю характер занятий резко изменился. Теперь не кололи больше соломенные чучела, не зубрили до отупения параграфы уставов и наставлений, не повторяли десятки раз взаимодействие частей пулемета и причины неисправной работы механизмов. Теперь началось совсем другое.
В часы занятий, перед обедом, во время отдыха, перед ужином везде и всюду, как только находилась минута свободного времени, командиры, парторги, комсорги, агитаторы по плакатам, брошюрам, газетным статьям и листовкам изучали с бойцами новые немецкие танки, их слабые, уязвимые места. В кустарнике за деревней понарыли окопов, поставили деревянные щиты с прямоугольными просветами, соорудили фанерные макеты танков.
Целыми днями солдаты метали гранаты лежа, с разбегу, из окопа, сидя; метали в круг, в прямоугольники дощатых щитов, в темное углубление окопа и, наконец, в макет танка, который то шагом, то рысью тащила пара лошадей.
Новые занятия властно захватили Алешу. Жадно ловил он каждое слово о немецких танках, до боли в руках бросал гранаты и первым сдал зачеты сержанту Чалому, помкомвзвода и, наконец, взводному командиру лейтенанту Дробышеву. Подступало самое важное, о чем всюду говорили и рядовые и командиры, – «обкатка» настоящими боевыми танками. Об этом теперь, лежа на спине и глядя в бездонное небо, и думал Алеша.
Из рощицы, где проходила «обкатка», доносилось урчание моторов, приглушенный скрежет гусениц, неясные людские голоса.
– Сержант Чалый, расчет на «обкатку»! – прокричал чей-то незнакомый голос.
Эта резкая, отрывистая команда словно подхлестнула Алешу. Он торопливо бежал, то натыкаясь на спину Гаркуши, то отставая от него.
Лейтенант Дробышев первым нырнул в траншею и взмахом руки приказал пулеметчикам делать то же.
Прыгнув вниз, Алеша противогазной сумкой зацепился за выступ обрубленного корня и, освобождаясь, увидел на его толстом срезе прозрачные капли свежего сока. Осторожно, почему-то боясь потревожить их, он пригнул обрубок, высвободил лямку, но неловко повернулся, встряхнул корень, и капли одна за другой крупными слезинками упали на утоптанный песок. Алеша невольно вздохнул, вспомнив вдруг старую березу на окраине родного села, на стволе которой каждую весну мальчишки из свежих порубов собирали сок. Это ребячье занятие, раньше такое увлекательное, показалось сейчас Алеше варварским и диким. Он снова взглянул на мокрый от сока срез корня и комочком глины старательно залепил его.
– Танки слева, из-за бугра! Гранаты и бутылки – к бою! – прокричал лейтенант Дробышев.
Алеша вздрогнул, взглянул на лейтенанта и, мгновенно сообразив, что нужно делать, расстегнул сумку и выложил на бруствер деревянные подобия гранат и бутылок.
– Гранатами бить в гусеницы, бутылками – в моторную часть, – тревожным шепотом напоминал Чалый, – только без суетни, спокойно, точно, с расчетом.
– Да где же они? Что не движутся? – нетерпеливо пробормотал Ашот.
– Не торопись пэрэд батьки в пэкло, – съязвил Гаркуша. – Придут да как навалются, как начнут гусеницами утюжить, и света белого не взвидишь!
– Прекратить разговоры! – прикрикнул Чалый.
Гаркуша смиренно потупился и лукаво подмигнул Алеше, неповторимо копируя рассерженного командира расчета. Алеша фыркнул от смеха и вдруг всем телом вздрогнул, прижимаясь к стене траншеи. Неизвестно откуда налетевший гул задавил все, и только через минуту Алеша понял, что это взревели танковые моторы. Он воровато оглянулся и, убедившись, что никто не заметил его испуга, неторопливо переложил болванки. Гул моторов постепенно становился ровнее и тише, но вдруг снова взвихрился до предела, и послышался металлический лязг гусениц. Не то лейтенант, не то сержант прокричали какую-то команду, но Алеша не расслышал и вопросительно посмотрел на невозмутимо спокойного Гаркушу.
Сержант опять что-то крикнул, и только по движению губ Алеша понял: «Не волноваться! Не спешить!»
«А я и не волнуюсь, – мысленно сказал себе Алеша, – и спешить не буду. Ударю точно, без промаха».
Совсем неожиданно из-за желтого бугра вынырнули три танка. Средний шел прямо на Алешу. Неуловимо мелькали его отполированные гусеницы. Черный кружок поднятой пушки угрожающе перемещался то вправо, то влево. Серая с темными пятнами броня холодно отблескивала под лучами солнца. Вся тяжелая, сотрясавшая землю громадина шла, казалось, с невероятной скоростью. Алеша пытался сообразить, сколько же пройдет времени, пока танк приблизится к траншее, но рука сама по себе потянулась к болванке.
Танк двинулся еще быстрее. Намереваясь первым же броском сразить его, Гаркуша схватил болванку, злобно сжал губы и, упираясь ногой в ступеньки траншеи, выполз на бруствер.
– Гаркуша убит! – крикнул Дробышев.
– Як так убит?! – зло огрызнулся Гаркуша.
– Пулей танкового пулемета, – спокойно ответил лейтенант и строго приказал: – Укрыться!
Гаркуша, кряхтя, сполз в траншею и тайком от лейтенанта погрозил танкистам кулаком.
Алеша и Ашот побросали свои болванки раньше, чем танк приблизился к траншее. Дробышев резко махнул флажком, и танк вернулся на новый заход.
Опустив глаза и от стыда боясь поднять голову, Алеша собрал болванки и расслабленной походкой вернулся на свое место.
– Гранаты нужно бросать не бессмысленно, не просто, лишь бы швырнуть, – встав между Алешей и Ашотом, вполголоса говорил Дробышев. – Нужно выбрать место, куда вы сможете добросить гранату, ждать, когда именно к этому месту подойдет танк, и только тогда бросать. Мы же отрабатывали это на фанерном макете. Так что же вы сейчас спешите, бросаете преждевременно?
«И в самом деле отрабатывали, – вспомнил Алеша, и все вокруг сразу посветлело. – Нужно выбрать точку прицеливания и ждать. Так это же проще простого! Мои гранаты падали вон там, у той ямки с кустом полыни. Значит, и бросать нужно, когда танк подойдет к тому кусту. Это будет наверняка».
Он стиснул болванки в руках, весь напрягся и, совсем не слыша грохота наползавшего танка, всем телом подался вперед.
– Спокойно, спокойно, – как сквозь сон, доносился тихий говорок лейтенанта. – Не спешить, помнить, что промах – гибель. Бить точно, без промаха.
«Ударю, не промажу! – не сводя взгляда с танка и куста полыни, беззвучно шептал Алеша. – Гранатой остановлю, а бутылкой подожгу».
Руки все так же мелко дрожали и тянулись назад, но Алеша, стиснув зубы, пересилил себя, выждал и со всей силой метнул болванку, когда танк правой гусеницей почти наехал на полынок. Он отчетливо видел, как, мелькнув в воздухе, прямо на гусеницу упала его болванка, как под второй гусеницей и рядом с ней легли еще две гранаты, брошенные Гаркушей и Ашотом. Словно пораженный в самом деле, танк резко остановился, и на его броню упали еще три болванки. Только через секунду Алеша сообразил, что одна из трех болванок была его условная бутылка с горючей смесью.
– А-а-а! Бензин с керосином! – махая третьей, уцелевшей болванкой, кричал Гаркуша. – Угомонился! Ну, двинься только, двинься, у нас боезапаса вдосталь!
Курносый танкист высунулся из башни и задористо прокричал:
– Представление еще не окончено. Сейчас утюжить будем. Держись, пехотка!
– Не икри, не икри! – парировал Гаркуша. – Сам нос не расквась, барабулька чумазая!
В новый заход танк ринулся на огромной скорости, вздымая клубы пыли и грозно ревя мотором. Но сколь ни стремителен был его натиск, весь расчет Чалого еще метрах в сорока от траншеи забросал его болванками, а уж совсем близко ударил условными зажигательными бутылками. И лишь когда тяжелая машина, сотрясая землю, надвинулась на траншею, Алеша и Ашот, не выдержав напряжения, упали на дно, ничего не видя, что делалось над ними. Гаркуша и Чалый только пригнулись и, когда танк прогрохотал над траншеей, послали ему вслед еще по одной болванке.
– Молодцы! – радостно кричал Дробышев. – Так и надо действовать! Отлично!
Оглушенный, запорошенный землей, Алеша поднялся и никак не мог понять, кого хвалил лейтенант.
– Пропустить танк через траншею, бить в моторную часть! – скомандовал лейтенант.
Эта команда вернула Алеше уверенность. Неотрывно глядя на стремительно наползавший танк, он инстинктивно пригнулся, когда танк уже почти наполз на траншею. Оглохший от рева и грохота над собой, он распрямился и со всей силой одну за другой бросил в заднюю часть танка все три болванки.
– Есть, товарищ лейтенант, есть! – закричал Алеша, увидев, как его болванки упали точно на сетку, прикрывавшую мотор, и совсем непочтительно схватил Дробышева за руку.
– Замечательно! – так же взволнованно и гордо воскликнул взводный. – И вы, Карапетян, действовали чудесно! Вот так и в бою нужно! Тогда никакие «тигры» и «пантеры» не страшны.
Еще дважды танк на полной скорости перескакивал траншею, и теперь, уже не цепенея, не врастая в землю, Алеша встречал и провожал его точными ударами болванок.
– Выползай, браток, из своей раковины! – крикнул Гаркуша вылезавшему из башни знакомому танкисту. – Покурим, побалакаем. Землячок, может?
– Конечно, земляк! – весело отозвался танкист. – Ты сам-то откуда родом?
– Одессит коренной, – стукнул Гаркуша кулаком в свою эффектно выпяченную грудь.
– Точно, земляки! – важно подтвердил танкист. – Ты одессит, а я пензенский.
– Тю, – разочарованно протянул Гаркуша, – у вас там, в Пензе, и курице утонуть негде, а у нас простор черноморский. Ну ладно, все равно на одной земле родились, – снисходительно уступил он. – Давай знакомиться, коль уж ты меня в землю втоптал, а я тебя пять раз подбил и трижды сжег. Наводчик станкового пулемета, – приосанясь, важно протянул он руку, – рядовой Гаркуша Потап Потапович.
– Командир танка, – встряхнув руку Гаркуши, в тон ему гордо ответил танкист, – гвардии лейтенант Малышев Антон Андреевич.
От неожиданности Гаркуша попятился, выдергивая свою руку из руки лейтенанта, потом вдруг озорно улыбнулся, взмахнул свободной рукой и по своему обыкновению задиристо воскликнул:
– Рядовой, лейтенант – все одно бойцы одной армии!
– Верно, пулеметчик, – ответил танкист. – Не в званиях дело, а в умении фрицев бить наповал. А бить, видать, ты мастак, чуть мне башню своей болванкой не разворотил. Кройте так же фрица, чтобы не только на фронте, а в самом Берлине земля дрожала!
– Уж будьте уверены, промашки не будет! – строго заверил Гаркуша. – Мы этих «тигров» и «пантер», как котят, передушим и в землю вобьем на веки вечные!
XVI
Много хлопот доставляла Листратову единственная на весь район МТС. Она ютилась в домах и сараях бывшей помещичьей усадьбы, где до МТС сначала была коммуна, затем совхоз и склады утильсырья. Перед войной начали было сараи перестраивать под цехи, но работу закончить не удалось, и МТС так и жила в полубеспризорном состоянии.
В МТС Листратов пробыл весь день. Набранные с горем пополам курсы трактористов застряли на изучении общего устройства мотора и никак не могли двинуться дальше. Шустрые на вид девчата из районного центра и пригородных сел, казалось, лезли из кожи вон, чтобы освоить новую специальность, но механик – недавно оправившийся от ранения танкист – категорически заявил, что они ничего не соображают и вместо серьезной учебы думают только о танцульках. Больше двух часов провел Листратов на курсах и убедился, что вся беда не в девушках, а в бывшем танкисте, который и сам толком не знал не только трофейных, но даже отечественных машин. Пришлось обращаться в стоявшую на формировании воинскую часть и просить хоть на пару недель выделить своего специалиста.
Уладив дела на курсах, Листратов зашел в ремонтные мастерские. Шефская бригада тульских рабочих уже пускала в ход четвертый трактор. Листратов от радости чуть не расцеловал седоусого бригадира и с яростью набросился на директора МТС, узнав, что рабочие целую неделю питаются только тем, что привезли с собой из Тулы.
– Где, ну, где я возьму продукты?! – отчаянно защищался директор. – В МТС никаких фондов нет. А в городской столовой одна свекольная бурда.
На свой риск и страх Листратов приказал директору мельницы отпустить два мешка муки, а заготпункту – бычка-двухлетка и центнер картошки. Повеселевшие туляки, окружив Листратова, наперебой заверяли, что будут работать день и ночь, но к посевной поставят на ноги не меньше пятнадцати машин.
Возбужденный Листратов размечтался, как выйдут эти тракторы и тягачи на колхозные поля, и незаметно дошел до райисполкома.
«Фу ты, черт, хоть бы домой заскочить, перекусить что-нибудь, – подумал он, входя в наполненную людьми свою приемную, – тут, видать, до полночи просидишь».
Опять началось то, что нескончаемо продолжалось изо дня в день. Председатели сельсоветов и колхозов осаждали его требованиями на семена и машины. Заведующий районо вопил о нетопленных школах. Больница требовала хоть какого-нибудь дополнительного помещения для ликвидации буйной вспышки гриппа. Райвоенком категорически настаивал на ремонте квартир для семей фронтовиков. Древняя старушка в изорванном ватнике молила о выдаче ей пособия.
Листратов, привычно подавляя в себе раздражение и усталость, выслушивал просьбы, давал указания, советовал, звонил по телефону, вызывал нужных людей и только в двенадцатом часу ночи, до изнеможения отупев, закончил дела.
На пустынных улицах городка торжественно сиял лунный свет. Листратов не торопясь миновал центральную площадь, обогнул развалины разбомбленной в прошлом году школы и удивленно остановился против своего дома. Окна столовой ярко светились. У палисадника лениво похрустывала сеном чья-то лошадь.
Еще в прихожей Листратов услышал смех жены и басистые раскаты голоса Гвоздова.
– Наконец-то! – увидев мужа, пропела Полина Семеновна. – Мы с Алексеем Мироновичем второй самовар допиваем, а хозяина все нет и нет.
– Напрасно я, как собирался, в райисполком не поехал, – отвечая на приветствие удивленного Листратова, с улыбкой на потном лице говорил Гвоздов. – Думаю, поздновато, в кабинете не застанешь, и вот такая промашка.
– Ну, садись, садись, – не дав мужу опомниться, подхватила его под руку Полина Семеновна, – яичница свеженькая, с ветчиной, а потом чаек с настоящим липовым медом.
«Яичница, ветчина, мед липовый, черт те что…» – растерянно подумал Листратов, под напором жены присаживаясь к столу.
– Неужели каждый день так: с утра и до полночи, без обеда, без ужина? – сожалеюще спросил Гвоздов, умиленно глядя на Листратова.
– Бывает и хуже, – горячо подхватила Полина Семеновна, – до рассвета заседают, а утром опять за дела.
– Как Слепнев? – торопливо проглотив несколько кусков яичницы, спросил Листратов.
– Пласт пластом, не поднимается третью неделю, – с надрывом в голосе ответил Гвоздов.
– И кто же за него?
– Можно сказать, никто. Девчушка у нас, знаете, секретарем в сельсовете. Ну, она и сидит. Справки какие срочные заверить или бумаги подписать – к нему домой бегает. Подкосила болезнь нашего председателя, – с горестным вздохом продолжал Гвоздов. – А бывало, заедет, посоветует что-либо, ну, покритикует за промашки – враз чувствуешь и оживление и ответственность большую. А теперь… – укоризненно развел он руками, продолжая настойчиво смотреть на Листратова. – Как-никак в нашем сельсовете четыре колхоза и народ – ухо держи да держи.
Листратов оторвался от еды и пристально посмотрел на Гвоздова. В чистеньком военном обмундировании сидел он на краешке стула, положив руки на колени, обтянутые длинными голенищами добротных чесанок в новеньких галошах. Серенькие глазки смотрели искательно и настороженно.
«Фу ты, черт, какой он весь маслянистый! – с неожиданным раздражением подумал Листратов. – И зачем он приехал?»
Словно поняв его мысли, Гвоздов еще ближе придвинулся и, помявшись, глухо заговорил:
– Я тут по делам хозяйственным в разные места ездил. А к вам… – нерешительно потупил он глаза, – дело у меня не совсем служебное и, можно сказать, вроде и не личное…
Листратов тайком кивнул жене и, когда та понимающе скрылась в детской комнате, заинтересованно спросил:
– Говорите, говорите, какое у вас дело?
– Вы, Иван Петрович… Я, Иван Петрович… Меня, Иван Петрович, – то ли намеренно, то ли действительно в полнейшей растерянности бормотал Гвоздов. – В общем, Иван Петрович, вы меня, по сути дела, чуть ли не с малых лет знаете. Я вроде как ваш выдвиженец. В общем, Иван Петрович, я надумал в партию поступить и хочу попросить у вас характеристику, рекомендацию, так сказать.
– Рекомендацию? – испытывая какое-то странное раздвоение и не зная, что сказать, переспросил Листратов. – Что ж… Вот в следующую пятницу приедете на совещание…
– Спасибо, Иван Петрович! – вскочив со стула, схватил руки Листратова Гвоздов. – Век вашим должником буду, всем отблагодарю.
– Ну ладно, ладно, – пробормотал Листратов, высвобождая свои руки. – Вот чай, пожалуйста, пейте.
– Премного благодарен. Сыт, больше некуда. Спешить надо, время-то – скоро вторые петухи запоют.
– Алексей Миронович, куда же вы? – выплыв из детской комнаты, нараспев запричитала Полина Семеновна. – Мы вас не отпустим. Отдохните до утра, а там и в дорожку.
– Нет, нет, Полина Семеновна, никак не могу. Дела, знаете, целый колхоз на шее висит. Итак, почитай, сутки отсутствую. Мало ли что случиться может! – с почтительной вежливостью отказывался Гвоздов, натягивая новенький черной дубки полушубок с серым каракулевым воротником.
– Какой человек, какой человек! – распевала Полина Семеновна, когда Листратов, проводив Гвоздова, вернулся в столовую. – Душевный, отзывчивый, прямой. И тебя он так уважает, так ценит, только и говорит все про тебя и про тебя.
– Ну, ладно, ладно, спать пора, – недовольно проговорил Листратов.
– Да ты чаю-то хоть выпей. Такой изумительный мед! Алексей Миронович полный жбан привез.
– Что?! – побагровев от неожиданности, выкрикнул Листратов. – Какой жбан, какой мед?
– Пчелиный, самый настоящий, с липовых цветков, – нисколько не смутясь, спокойно сказала Полина Семеновна.
– Что, может, и ветчину и лица тоже Гвоздов привез?
– И ветчину, и яйца, и мешок крупы первосортной…
– Да ты что! – взревел, подскакивая к жене, Листратов. – Ты в уме или совсем ополоумела!
– А ты что! – кричала Полина Семеновна. – Ты думаешь твоими пайками, хоть они и начальнические, прожить можно? Да с них с голоду опухнешь и детей переморишь. Все люди как люди, достают, где удается. А он, чистюля, размазня, целыми днями по колхозам носится и крохи продуктов для семьи не привезет. Кто только выдумал тебя на мою голову?
– Прекрати немедленно! – страшным шепотом выдохнул Листратов и, чувствуя, как в груди разгорается жгучая боль, пошатнулся.
– Ваня, Ванечка! – пролепетала Полина Семеновна, подхватывая падавшего мужа…
XVII
Всю дорогу от Курска и до родной деревни Андрей Бочаров никак не мог поверить, что отец умер. Больше двадцати лет Андрей жил самостоятельно, вдали от родителей, редко виделся с ними, да и переписка тянулась еле-еле, по одному, по два письма в месяц, но он всегда отца чувствовал рядом и в самые важные моменты жизни мысленно советовался с ним.
Прошлым летом, когда Андрей после госпиталя заезжал домой, отец был здоров, весел, работал наравне с молодыми, ничем не выказывая даже признаков старости. И вдруг это страшное известие. Нет! Не может быть! Вероятно, произошла какая-то нелепая ошибка. Чем ближе подъезжал Андрей к Дубкам, тем эта спасительная мысль все настойчивее овладевала им.
Увидев все те же придавленные соломенными крышами избы с подслеповатыми оконцами, одинокую лозину на плотине заиленного пруда и веселый дымок над белой трубой родного дома, Андрей вновь почувствовал, как остро защемило в груди.
– Скорее, скорее! – торопил он шофера и, еще не подъехав к дому, выпрыгнул из машины.
Острый, пронзительный крик нестерпимой болью толкнул его назад. Он пошатнулся и увидел мать. С распущенными до плеч седыми волосами, с неузнаваемо черным, искаженным болью морщинистым лицом, она остановилась на пороге, словно не узнавая Андрея, и надрывно, с рыданием и стонами выкрикивала:
– Нету больше, нету нашего Платоныча!.. Покинул нас на веки вечные… Осиротил-обездолил своих детушек и меня горемычную…
Видя только огромные, налитые страданием глаза матери, Андрей обнял ее худые вздрагивающие плечи и, не зная, что делать, что говорить, бессвязно прошептал:
– Не надо, мама… Успокойся… Сама заболеешь… Не надо…
Судорожно всхлипывая, мать стихла, мокрым лицом прижалась к груди Андрея и горячими пальцами гладила его подбородок. От этой короткой, скупой ласки у Андрея потемнело в глазах и по щекам покатились слезы. На мгновение ему показалось, что скрипнула дверь и в сени вышел отец… Он встряхнул головой и на гвоздике у окна сеней увидал старый отцовский картуз. Этот самый картуз много лет назад привез ему Андрей в свой первый отпуск из армии. До войны отец носил его только по праздникам. И теперь этот серый, с лакированным козырьком картуз одиноко висел на стене.
– Пойдем в избу, – сквозь слезы, едва слышно проговорила мать, – пойдем, сынок.
«А где же Алла?» – вспомнил Андрей о жене и, распахнув скрипучую дверь, на постели под окном увидел бледное, почти белое, с поникшими щеками и заостренным носом лицо Аллы. Болезненно-усталыми глазами смотрела она на него и, видимо силясь что-то сказать, беззвучно шевелила поблекшими губами. Слабой рукой она обвила шею Андрея, робко и неуверенно притянула к себе и на ухо прошептала:
– Вчера у нас родилась дочь…
В порыве благодарности Андрей прижал к щеке влажную, болезненно-горячую руку жены и, не замечая, как по его щекам опять покатились слезы, робко проговорил:
– Родная моя, как ты устала…
– Нет, нет, – перебила его Алла, – все уже позади. Первый раз, тогда, с Костиком, было страшнее. А теперь я не так боялась…
– Посмотри, посмотри, Андрюша, вот она, новорожденная наша, – позвала Андрея мать, качая покрытый белым голубенький сверток.
Андрей откинул тонкое покрывальце и среди голубого увидел два туманных глаза и розовый, не больше горошины крохотный носик. И опять волна радости качнула Андрея. Он поцеловал тепленькое существо и, вспомнив отца, тяжело опустился на скамью.
– Когда похоронили? – глухо спросил он, чувствуя, как горькие спазмы снова сдавливают горло.
– В воскресенье, пятый день сегодня, – прошептала Алла.
– И не болел?
– Два дня пролежал в жару, последнюю ночь все метался, бредил, тебя звал, а к утру умер.
– А где же Костик? – тревожно осмотрелся Андрей.
– Наташа его взяла к себе, Круглова, – сказала Алла и, густо покраснев, добавила: – У нас же тут, сам понимаешь, что было. А с Наташей мы подружили. Она очень помогла нам, такая душевная она…
* * *
Перед обедом прибежал с работы Ленька и, пряча блестевшие от слез глаза, поздоровался с Андреем. За минувший год он раздался в плечах, посуровел лицом и привычкой теребить пушок едва пробившихся усов разительно повторял отца. Андрей расспрашивал его о делах в колхозе, но Ленька нехотя бросал скупые слова, явно чем-то недовольный и даже озлобленный. Пока мать готовила обед, братья вышли во двор и сели на кругляк заматерелого ясеня, который еще много-много лет назад Андрей с отцом приволокли из дальнего леса.
– Как же, Леня, случилось это? – вполголоса спросил Андрей.
– Из-за рыбы все, из-за мальков карпа зеркального, что в озере нашем плавают, – с трудом проговорил Ленька. – В рыбный совхоз мы ездили, с бочками водовозными, на трех подводах: отец, Ванек Бычков и я. Далеко это, за Тулой, целых четыре дня ехали. Туда-то ничего добрались. А вот обратно, как мальков в бочки с водой пустили, вконец измаялись. Грязища по самую ступицу. Отец шибко ехать не дает, говорит: «Мальков побить можно, шажком, шажком поедем». И тащились мы шажком почти неделю.
Ленька закурил, раз за разом жадно глотнул дым, поперхнулся, багровея худым, остроскулым лицом, но справился с удушьем и, отчаянно взмахнув стиснутым кулаком, продолжал:
– И уж тут вот, недалеко, километров сорок, и речка не речка и ручей не ручей, а разлилась во всю луговину, и ни мостика, ни переезда. Две подводы мы кое-как пропустили, а третья захрясла. Канава там вроде глубоченная, передок осел, и бочку чуть водой не подхватило. Ванек лошадей нахлестывает, а они ни в какую. Потом рванули, повозка шатнулась, отец закричал и бросился в воду…
Ленька жадно опять затянулся дымом, приглушенно вздохнул и виновато взглянул на Андрея.
– А ветрище-то был ледяной, – хрипло продолжал он, – так и пронизывал насквозь. Когда выехали на берег, с отца ручьем льет. Ну, костер мы развели. Да где там! – отчаянно махнул рукой Ленька. – Разве обсохнешь? Ведь он по самую шею в воде был. Переодеться бы в сухое, а во что? Ничего с собой нет, и до ближней деревни километров двенадцать. Ну, поехали. Я впереди был. Нахлестываю лошадей, чтобы скорее до деревни добраться, а он не пускает, кричит: «Шагом, шагом, рыбок погубим». Так и тянулись еле-еле. Да еще раз десять останавливались, воздух в бочки накачивали. Знаешь, насосом автомобильным. Мальков-то, их в каждой бочке тыщи, воздуха для всех не хватает, вот и подкачивали. Я говорю: «Поедем скорее, не будем останавливаться», – а он: «Нельзя, рыбки маленькие, нежные, погибнуть могут». Погибнуть могут!.. – повторил Ленька и, не выдержав, громко всхлипнул.
Андрей с удивительной ясностью видел эту грязную, унылую дорогу, три одинокие повозки в безлюдном поле и мокрого отца, насосом качавшего воздух в бочки с мальками.
– Пока до деревни добрались, – подавив слезы, продолжал Ленька, – он совсем продрог. В одном доме остановились, у старика. Вредный такой, за все деньги подавай. А откуда у нас деньги – больше недели в дороге. Выпить бы отцу, прогреться, а на что купишь? Я все дома обегал, просил, чуть не плакал. Никто не дает, за все деньги либо вещи требуют. Забежал я в сарай, чтобы отец не видел, сбросил свои кальсоны теплые, вязаные, что ты прислал, и рубаху вязаную и променял на самогонку. Растерли мы с Ваньком отцу грудь и спину, остатки выпить дали и на печку уложили. Отогрелся он вроде. А утром, как выехали, смотрю, руки у него трясутся и пятна красные по всему лицу. Я опять твержу: «Поедем быстрее», – а он свое: «Рыбок беречь надо, слабенькие они, погибнут». И останавливались, почитай, через каждый час, все воздух в бочки накачивали… Вот и… Рыбок-то всех вон целехонькими привезли, а он…
Ленька судорожно икнул и, уткнувшись лицом в колени Андрея, отчаянно зарыдал.
* * *
Еще издали заметив Андрея Бочарова, Гвоздов надвинул на лоб выцветшую артиллерийскую фуражку, в знак глубоких переживаний склонил голову и, подойдя ближе, заговорил глухим, полным горести голосом:
– И кто бы мог подумать! Такой был крепкий, здоровый – и вдруг на тебе!
– Не надо, Алексей, не надо, – хмуро остановил его Бочаров и вяло пожал руку Гвоздова.
– И все эта поездка распроклятая! – с сочувствием и возмущением продолжал Гвоздов. – Говорил ему, отговаривал: «Ну что спешишь? Сольет вода, подсохнет, и поезжай». Он же, знаешь, какой был…
От нахлынувшей боли Бочаров с трудом удержался, чтобы не закричать на Гвоздова. Тот, видимо, понял это и торопливо, заглядывая Андрею в глаза, дружески спросил:
– Ну, а ты-то как? Как здоровье? Глаз ничего, не болит?
– Слезится иногда, а вообще вижу нормально.
– Ну и слава богу. У меня вот тоже рука. Так вроде нормальная. А чуть к перемене погоды – заноет, заноет, хоть топором руби. О-о! Настоящий «Беломор», – взял он папиросу из пачки Андрея. – А мы все на махре да на самосаде пробиваемся. Как на фронте? Скоро на запад двинемся?
– Видимо, скоро, – нехотя ответил Бочаров. – А твои дела как? Что в колхозе?
– Эх, Андрей, – безнадежно махнул рукой Гвоздов, – дела, прямо тебе скажу, никудышные…
– Что так?
– Известно что! Народ-то у нас, знаешь, какой: ни дисциплины тебе настоящей, ни сознательности глубокой. Каждый так и норовит увильнуть от работы. Вот и приходится день и ночь мотаться. Одного уговоришь, другого приструнишь, а третьего… – помахал Гвоздов туго сжатым кулаком. – Одним словом, Николаич, хоть завязывай глаза и убегай без оглядки. А тут еще сверху давят. Вот оно, видишь, само начальство мое непосредственное жалует, – пренебрежительно кивнул он головой на костылявшего по улице Сергея Слепнева. – И фамилия-то у него во всем соответственная. Прилепится к чему – хоть махай, хоть бейся, не отлипнет.
Опираясь на костыли, Слепнев шел неторопливо, пристально осматриваясь по сторонам и, видимо, кого-то отыскивая. Увидев Бочарова и Гвоздова, он заторопился, на выбоине дороги неловко поставил костыль, пошатнулся и чуть не упал.
– И в чем только душа держится, – укоризненно сказал Гвоздов, – все мечется, мечется, вроде ему больше всех надо.
Бочаров с интересом смотрел на Слепнева и, когда тот подошел, радостно поздоровался с ним, невольно чувствуя и сожаление и гордость к этому так покалеченному войной совсем молодому мужчине с неугомонной и кипучей душой, которую не сломили ни инвалидность, ни тяжелая болезнь. Андрей был рад, что Слепнев, как обычно бывает при встречах, не выразил соболезнования потере Бочаровых, не справился о здоровье и самочувствии, а просто пожал руку, улыбнулся зоркими глазами и тут же, сурово нахмурясь, обратился к Гвоздову:
– Алексей Миронович, что это у тебя с Дарьей Семиной?
– А что, жаловалась? – насторожился Гвоздов.
– Что же ей еще делать? Ты поставил ее в такое положение…
– Какое положение? Работать заставлял, да? Это, значит, положение, да?