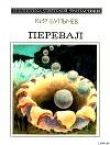Текст книги "Курский перевал"
Автор книги: Илья Маркин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
В каждом письме Алла с душевной теплотой говорила о Сергее Слепневе. Андрей знал его еще мальчишкой, а теперь он был председателем сельсовета и, как писала Алла, «душой целых пяти деревень».
«Да, жизнь везде идет – трудная, сложная, тяжелая, но бурная и неугомонная, – думал Андрей. – Алексей Гвоздов – председатель колхоза, Сергей Слепнев возглавляет сельсовет. А Листратов…»
Вновь вспомнив Листратова, Андрей никак не мог поверить, что этот так уважаемый им в юности человек стал теперь совсем другим.
V
В Дубки Листратов приехал перед обедом. Прикорнувшая на взгорке деревушка весело сияла подслеповатыми оконцами. Внизу, пересекая широкую лощину, темнела та самая плотина, о которой столько лет мечтал Сергей Слепнев. Первые ручейки, пробиваясь с полей и береговых круч, стекались в лощину. Уходящий вдаль ледяной простор уже затопила еще не взмученная илом светлая вода, отчетливо вырисовывая извилистые контуры будущего озера. Никогда, даже слушая романтические мечтания Слепнева, не представлял Листратов, что на месте кочкастой луговины возникнет такая красота.
– Величаво, Иван Петрович, а? Величаво? – на ходу расстегивая шинель, прокричал спешивший к плотине Гвоздов.
За ним, тяжко опираясь на костыли, неторопливо шел худенький, в коротком ватнике и порыжелой кепке Сергей Слепнев.
– Да, да! Именно величаво! – отозвался Листратов, зачарованно глядя на озеро.
– Это еще что! – щуря заплывшие глазки, напористо продолжал непомерно располневший Гвоздов. – Это всего-навсего вода пустая, без жизни совсем. А вот как рыбку в нее пустим да гусей с уточками разведем! Я так прикидываю, что с этого самого озера, значит, доходцев поболе, чем с полей, получим. Перво-наперво рыба, конечно. А рыба в наших краях, прямо сказать, штука редкостная. Любой с руками оторвет и наличными выложит. И гусики и уточки – тоже вещь деликатная, дорогая.
При виде молчаливого, бледного Слепнева Листратову была неприятна говорливость дородного Гвоздова.
«И что ты разоряешься? – раздраженно подумал он. – Вот кто душа этого озера, а не ты».
– Как дела, Сережа? – чувствуя властно наплывавшую жалость к Слепневу, мягко сказал Листратов.
– Ничего, – задумчиво отозвался Слепнев. – Инвентарь отремонтировали, людей расставили. Вот только семян не хватает и лошадей кормить нечем. Сена осталось на два-три дня, а овса-то и осенью не было.
– Да… – глухо проговорил Листратов. – Семена, корм… Ну, семена дадим, а вот с кормами сами выходите из положения.
– Да выйдем, Иван Петрович, беспременно выйдем! – с жаром воскликнул Гвоздов.
– А как? – вновь испытывая раздражение от слов Гвоздова, спросил Листратов.
– Сенцо пока какое-никакое, а есть малость, – уверенно ответил Гвоздов, – соломки добавим, а там, глядишь, и травка прорежется.
– Нам бы хоть на неделю трактор, Иван Петрович, – сказал Слепнев и вдруг так надсадно и удушливо закашлялся, что Листратов обнял его за плечи и с дрожью в голосе проговорил:
– Подлечиться тебе надо, Сережа, в больницу поехать или хотя бы дома отлежаться.
– Ай, ничего, – тяжело дыша, отмахнулся Слепнев, – само собой пройдет. На фронте куда труднее, а терпят же.
Он хотел было сказать еще что-то, но мучительный приступ кашля остановил его.
– Иди домой, Сережа, и в постель. Я завтра врача пришлю, – отводя взгляд от посинелого лица Слепнева, сказал Листратов и, взяв его под руку, усадил в свои санки.
Слепнев, продолжая кашлять, не возражал и, только когда санки остановились около его дома, решительно отстранил руку Листратова и твердо сказал:
– Сам я, Иван Петрович, хоть и немного силенок, а все же есть.
– Вот всегда он такой, – не то с обидой, не то с укором проговорил Гвоздов, когда Слепнев скрылся за дверью. – В чем только душа держится, а упорствует.
– Помогать ему надо, – мрачно сказал Листратов.
– Да как, чем помочь-то? Вы же знаете его характер: с ног валится, а все мечется из колхоза в колхоз.
Гвоздов говорил доброжелательно, даже с сожалением, и это понравилось Листратову. Он зашел в правление колхоза, просмотрел сведения о наличии лошадей, инвентаря, семян и, все продолжая думать о Слепневе, сказал:
– На курорт бы его или хоть в больницу.
– Конечно, Иван Петрович, – подхватил Гвоздов. – Это бы враз его на ноги поставило.
– Конечно, конечно, – нахмурился Листратов. – Где они, эти курорты, война все съела, а больница так переполнена, что самых тяжелых положить негде. Да и в сельсовете заменить его некем.
– Известно, таких, как наш Сергей Сергеевич, раз, два – и обчелся. И грамотный и толковый, а главное – кремень человек! Всегда на своем стоит, за дело общее душой болеет.
Листратов искоса взглянул на Гвоздова, поморщился, но ничего не сказал. Гвоздов понял это как неверие в искренность того, что он говорил о Слепневе, и решил как можно скорее изменить столь скользкую тему разговора.
– Иван Петрович, может, на конюшню пройдете, в сарай сбруйный, к инвентарю? – деловито предложил он, догадываясь, что Листратов спешит и едва ли согласится на его предложение.
– Поздновато заскочил-то я к вам, – взглянул на часы Листратов. – Вечером бюро райкома. А мне еще двадцать километров петлять по ухабам.
– Хоть закусите малость. Вы же целый день небось в дороге.
– Нет, нет. Времени в обрез.
– Ну, немного, на скорую руку. Это же минутное дело. Моя Лиза все в момент спроворит.
– Ну ладно, кружку молока, если есть, не возражаю. Только быстро.
– Есть, есть, все есть: и молоко, и яички свежие, и ветчинки уцелело немного. Осенью боровка заколол, только больше половины продать пришлось. Сами знаете, налогов-то сколько, да и одежонка и у меня, и у жены, и у ребятишек пообтерхалась.
Пятистенный, с тремя окнами на улицу и одним в переулок дом Гвоздова понравился Листратову чистотой и каким-то особенным запахом не то свежеиспеченного хлеба, не то привкусом сушеных трав. Сама хозяйка ходила на последних неделях беременности, но была опрятна и приветлива. Листратов невольно сравнил ее со своей женой. Жена его, Полина Семеновна, была примерно тех же лет. Так же, как и у Гвоздова, было у Листратова трое детей. Но не было у Полины того спокойствия и привета, которые так и сквозили в каждом движении Елизаветы.
– Все о делах районных тревожитесь, – прервал раздумье Листратова Гвоздов. – Беспокойная работа у вас, Иван Петрович, небось и передохнуть-то некогда.
– Какие тут передышки, – поддаваясь лести Гвоздова, вздохнул Листратов. – Война, разруха во всем: одно залатал – другое рвется, тут наладил – там разваливается.
Бесшумно хлопотавшая в доме Елизавета неуловимо быстро накрыла стол чистой скатертью, расставила тарелки с огурцами, капустой, ветчиной, дымящейся яичницей и, поймав решительный кивок мужа, достала из шкафа поллитровую бутылку водки.
– Это ни к чему, – запротестовал Листратов.
– Да что вы, Иван Петрович, вам же часа четыре по морозу трястись! Даже солдатам на фронте и то в морозы водочную норму увеличивают. Это же для согрева, для здоровья только.
Упорство Гвоздова победило Листратова. Он выпил две рюмки и, закусывая, впал в то безмятежное настроение, которое овладевало им, когда после напряженной работы приходилось выпивать. Он не слушал, что говорил Гвоздов, не заметил даже, как тот что-то поспешно и сердито объяснял жене, и, выпив еще рюмку, окончательно разомлел. Все, что было беспокойного, тревожного и трудного, исчезло, и вся жизнь казалась теперь простой и легкой. Он рассказывал Гвоздову о своих планах весеннего сева, о твердом намерении обогнать другие районы и добиться если не первого, то уж наверняка второго места в области.
Гвоздов старательно слушал, поддакивал и незаметно одну за другой налил еще две рюмки.
Когда уже Листратов совсем захмелел, Гвоздов осторожно приступил к давно обдуманному разговору.
– А Слепнева-то жалко, Иван Петрович, до боли жалко, – склонясь к Листратову, участливо шептал он. – Израненный он весь, инвалид, больной совсем. Если по правде сказать, он же воспитанник ваш, вы ведь его на ноги поставили.
– Да, да, – с гордостью подтвердил Листратов. – Сережу я с детства знаю, немало повозился с ним.
– Вот вам-то и пожалеть бы его. Мучается человек, ни за что вконец здоровье свое погубит. Освободить бы его от председателей, передышку дать, здоровье подправить.
– Да, да. Его нужно, нужно освободить, – послушно согласился Листратов, но тут же опомнясь, поддел вилкой кусок ветчины и сурово сказал: – Освободить-то немного ума потребно, а где замена?
– Да что, у нас людей, что ли, нет? Разве кто из председателей колхозов не смог бы стать на место председателя сельсовета?
– Ну, а кто, например?
– Кто? Мало ли кто, всякий.
– Ты, например, смог бы руководить сельсоветом? – не отводя взгляда от лица Гвоздова, еще настойчивее спросил Листратов.
– Да как сказать-то. Если, конечно, вы поможете, подучите, как и что делать, то, пожалуй, и смог бы.
– Смог бы, смог бы, – склонив голову, шумно вздохнул Листратов и, с минуту помолчав, поспешно встал. – Спасибо за угощение. Мне пора.
– Иван Петрович, вот, пожалуйста, не обидьтесь, – подал Гвоздов какой-то сверток Листратову, – вам, жене вашей, семье.
– Что это? – нахмурился Листратов.
– Продуктов малость: яички, ветчины кусочек, мед засахаренный.
– Ну, к чему это, к чему?
– Иван Петрович, мы же знаем: в городе-то покупное все, а у нас свое, домашнее. От чистого сердца мы.
– Нет, нет, – решительно отстранил Листратов сверток и, еще раз поблагодарив хозяев, поспешно вышел из дома.
* * *
Надсадный, удушливый кашель обрывал дыхание, сотрясал все тело, тугой, неутихающей болью давил грудь. Мокрый, с полыхавшим от жара лицом Сергей Слепнев с трудом сбросил пальто, стянул сапоги и, совсем обессилев, свалился на кровать. В хаотичном беспорядке, как обрывок тяжелого сна, метались бессвязные мысли.
Листратов приехал, но поговорить так и не удалось. Гвоздов может черт те что наплести ему. Ну и пусть! Дров в школу опять не подвезли. Холодище в классах, позастудятся ребятишки и будут вот так же… На финской в снегу валялся – и ничего, вышел как новенький. Сугробы-то, сугробы… Морозище – воробьи на лету коченели. «Сколько же мы там лежали? Ночь, день, еще ночь. А потом та ночь, когда ползли к доту. Снег, снег… Если бы не снег, всех перещелкали… Как же там, в «Красном утре»? Снегу-то по колено, и твердый, заледенел, хоть на автомобиле катись. Вывезли они удобрение на поля или опять лежит на дворах? Промешкают, дождутся, когда таять начнет, раскиснет, что и пешком не пройдешь, и в это лето опять посевы останутся без удобрений. Завтра же с утра в «Красное утро»! Нет, утром надо обязательно отправить хоть две подводы за дровами для школы… Да, черт возьми, а скандал в «Дружбе». Тоже придумали название – «Дружба», а сами грызутся день и ночь. И хоть бы по делу, а то из-за чепухи. То солому не поделят, то трудодни не так запишут. Ну хоть колхоз-то был бы как колхоз, а то шестнадцать хозяйств, и ужиться не могут. Все в начальники рвутся, а на полях женщины да подростки. Завтра же, обязательно завтра – в «Дружбу». Собрать всех, поговорить по душам и окончательно. Понимать надо: война идет. Жестокая, страшная. Все силы собрать нужно, в кулак стиснуть, а у них скандалы. Да теперь все должны быть, как один, все только для войны, для фронта… Что же там на фронте?»
Сергей ослабевшей рукой дотянулся до книжной полочки и вытащил старенькую географическую карту с множеством заплат на изгибах. Эта истрепанная карта была второй – после семьи и сельсоветских дел – жизнью Сергея Слепнева. Получив свежие газеты, Сергей перечитывал фронтовые сообщения и красным карандашом отмечал на карте, где шли бои. С ноября прошлого года, когда в красных отметках обозначилось огромное кольцо между Волгой и Доном, карта словно расцвела, наливаясь свежими соками жизни. Стремительно проносились дни, и красные отметки все глубже растекались по карте, сметая синие черточки, которыми отмечал Сергей вражеское продвижение в сорок первом и сорок втором годах. Они уже решительно перешагнули Дон, от предгорий Кавказа потекли по Ставрополью и Кубани, от Воронежа двинулись к Орлу, Курску и Белгороду, призывно заалели, наконец, у Великих Лук, у Вязьмы и Дорогобужа.
Всю зиму, как чудодейственная святыня, кочевала карта по всем пяти колхозам сельсовета. Сколько горячих споров и великих надежд вызывал ее каждый новый значок, обозначавший освобожденные советские города, станции, поселки!
Но в начале марта отметки на карте стали появляться все реже и реже, и вскоре старенькая отобразительница фронтовых событий вновь укрылась на книжной полочке Сергея. Прочитав фронтовые события, Сергей лишь изредка развертывал карту, молча смотрел на ее цветное поле и, вздыхая, вновь прятал на полку. На всем фронте стояло затишье.
«Что же это? – все чаще и чаще задумывался Сергей. – Или выдохлись и немцы и мы, или затишье перед бурей?»
Во время этих раздумий кошмарным видением всплывали в памяти охваченный пламенем Минск, вереницы беженцев на дорогах и дикий, все сметающий скрежет немецких танков.
«Неужели опять повторится такое? – вспыхивала отчаянная мысль. – Неужели они снова пойдут, а мы, как тогда, под Минском, будем все катиться и катиться назад, оставляя города, села, теряя людей, технику? Нет! Не может больше такое повториться! Не может? А почему же в сорок первом и в прошлом году случилось? Почему тогда мы их сразу не остановили? Сил-то много было, и вся страна целая наша. А теперь-то и Украина, и Белоруссия, и Прибалтика, и столько областей исконно русских под немцем. А там же хлеба какие! Не то, что у нас – жиденькие поля ржи да гречихи. Там пшеница в рост человека вымахивает. И все это захватил немец. Чем теперь кормить нашу армию? Только и надежды на нас да на Сибирь с Дальним Востоком. Дадим хлеба армии вдоволь, и не повторится сорок второй год. И должны, должны дать! В этом спасение и нас самих и всей страны».
Охваченный раздумьем, Сергей не услышал, как скрипнула дверь в сенях и в избу неторопливо вошел Николай Платонович Бочаров в своем неизменном перешитом из шинели пиджаке с заячьим воротником и потертой военной шапке-ушанке.
– Что, опять плохо? – тревожно спросил он, протягивая Сергею худую жилистую руку. – О, да ты весь как в огне. Лежать надо, Сережа, отлеживаться и лечиться.
– Да что ты, Николай Платонович, – бодрясь, приподнялся Сергей, – я совсем здоров! Так, малость придавило…
– Придавило! Да ты зеркало возьми, погляди-ка, на кого похож.
Старик сам посмотрел в тусклое, надтреснутое зеркало, висевшее в простенке, и ладонью старательно пригладил остатки волос на облысевшей голове.
– Говорят, лицом на отца смахиваю, а глазами точная копия матери, – шутливо ответил Сергей.
– Копия, копия… Всыпать тебе надо, хоть ты и в начальниках ходишь, тогда, может, за ум возьмешься!
– Дядя Николай, ты что такой воинственный? С Гвоздовым, что ли, схлестнулся, а на мне отыгрываешься?
– Что мне твой Гвоздов! Я папашеньку его в молодости не раз колачивал. А он ни дать ни взять, как ты говоришь, копия папашеньки и физиономией и душонкой торгашеской.
– Так что, это правда, что Гвоздов с тульскими спекулянтами связался?
– Я не хожу по пятам за Гвоздовым и под окном у него не караулю, – сердито буркнул старик и, тряхнув когда-то рыжей, а сейчас совсем белой бородой, озлобленно прокричал: – И вообще тыщу раз тебя просил: отстань ты от меня с этим Гвоздовым! Ты начальник и сам распутывайся. А меня не тревожь, не тревожь! Вот так. Уразумел? Да ты не гляди, не гляди на меня. Я и так тебя насквозь вижу. Думаешь, я про Гвоздова из-за обиды, что меня из председателей долой, а его на мое место?
– Да что ты, дядя Николай…
– Глупыш неразумный, если такое подумал. Ну какой из меня председатель, сам поразмысли! Грамотешки никакой, и годков шестой десяток. У меня уж старшему сыну под сорок.
– Как Андрей-то, пишет? Как он там?
– Известно как, воюет на фронте. А в письмах-то много ли расскажешь… Приветы да поклоны, жив да здоров – вот и все, – нехотя ответил Бочаров, обычно не упускавший ни малейшей возможности вдоволь поговорить о своем сыне-полковнике.
– Хорошие у вас сыновья, и Андрей Николаевич и Ленька.
– Ну, насчет Леньки-то – утро еще не наступило. Сумрак пока смутный. Дубить да дубить надо, и дубинкой хорошей. Сладу нет. Так и крутится вокруг Гвоздова. Того и гляди пойдет вместе с ним поллитровки по дворам сшибать.
Услышав о поллитровках, Слепнев нахмурился. Он часто замечал, что Гвоздов ходит под хмельком. Подмерзший ранней осенью картофель и на колхозных полях и на приусадебных участках во многих домах шел на самогон. Слепнев несколько раз на собраниях уговаривал и предупреждал самогонщиков, но каждую ночь где-нибудь на деревне пробивался сладковатый запах самогонной гари. Слепнев с участковым милиционером обошел все дома, еще раз предупредил каждого, отобрал и разломал семь самогонных аппаратов, но и это не помогло, а, наоборот, обернулось против самого Слепнева. Ярые самогонщики обозлились на него, поналадили новые аппараты и варили сивуху тайком, скрываясь в сараях, подвалах и даже в лесу. Сам Гвоздов самогон не варил, но знал каждого самогонщика и, как говорили в деревне, нюхом чуял, где закипала пахучая жидкость. Как-то само собой установилось некое подобие дани самогонщиков Гвоздову. Самый крепкий первач шел ему как откупное за молчание и попустительство. Но опять все это делалось тайно, и, сколько ни пытался Слепнев уличить Гвоздова в этом взяточничестве, никто из самогонщиков не выдавал его.
Укоренился своеобразный неписаный закон, что любой колхозник, прежде чем просить у председателя колхоза лошадь для поездки по делам или гнившую на полях солому, должен был угостить Гвоздова. Об этом знала вся деревня, но, как только Слепнев пытался установить факт взяточничества, колхозники отмалчивались или равнодушно говорили:
– Да брось, Сергей Сергеевич, какие там взятки! Верно, заходил Гвоздов, выпивал, но пришел он, когда мы сидели за столом. Ну и поднесли ему, это у нас испокон веков заведено: пришел человек – угостить надо…
– Так почему же, почему ты молчишь?! – не выдержав, вскипел Сергей, в упор глядя на старика Бочарова. – Все говорят: «Гвоздов поллитровки сшибает, Гвоздов пьянствует», – а как дойдет до дела, все в кусты?
– А чего бы ты хотел от меня? – с хитринкой ухмыльнулся Бочаров.
– Факты, факты давай! Где, когда, у кого, что?
– Ишь ты, факты! А потом сам же подумаешь: «По злобе Бочаров подкапывается под Гвоздова».
– Политически это называется беспринципностью. Нельзя терпеть взяточников. Нужно одернуть, а не поймет – гнать в три шеи.
– И опять нового председателя выбирать?
– Безусловно!
– Нет, не безусловно! – выкрикнул Бочаров, и обычно добродушное, изборожденное морщинами лицо его стало жестким и злым. – Совсем не безусловно. Новый председатель – новые порядки. Накуролесит черт те чего, а колхоз и колхозники отдувайся. Помнишь, прошлым летом начудил Гвоздов с хлебозаготовками и половину урожая в поле оставили? А это же хлеб, хлебушек, – всей грудью горестно вздохнул старик. – Без хлебушка-то и солдат не навоюет и рабочий не наработает. А воевать-то надо, надо их, проклятых, хотя с земли нашей вытурить.
Слушая Бочарова, Сергей смотрел на его так поразительно постаревшее лицо, на исхудалые руки, на сутулые, когда-то широкие, могучие плечи и думал:
«Сильна в тебе закваска народная, Платоныч. Как ни терла тебя жизнь, как ни ломала, а душой ты, хоть и годков тебе под шестьдесят, остался чист. На таких, именно на таких, как ты, Платоныч, и держится земля наша».
– Да по мне хоть черт, хоть дьявол председателем будь, – разгорячась, продолжал Бочаров, – лишь бы в делах хоть малость разбирался и за хлебушек, за хлеб воевал, как на фронте. – Услышав шаги за окном, он остановился. – Никак твоя молодка!..
– Галя? – встрепенулся Сергей и, поспешно встав с постели, натянул сапоги, одернул рубашку, поправил одеяло на кровати.
– Что, приструнила тебя жена молодая, – усмехнулся Бочаров, – или виду показать не хочешь, что нездоровится тебе?
– Зачем расстраивать? Она и так всю душу мне отдает.
– Правильно, Сережа. Если она друг настоящий, лучше в себе, внутри все перетерпеть. Мы все же мужчины, мы сильнее. А жену беречь надо.
– Ты дома? – с маху открыв дверь, воскликнула Галя. – Я и не знала, давно пришла бы… Это все ты, ты никак не уймешься с этими утями и гусями, – с укором повернулась она к степенно вошедшей вслед за ней Наташе Кругловой.
– Кто же мог подумать, что средь бела дня сам товарищ Слепнев дома! – отшутилась Наташа, веселыми карими глазами лукаво посматривая на Сергея. – Он же днюет и ночует в колхозах и в сельсовете. Домой его и с борзыми не загонишь.
– Есть хочешь? Сейчас обедать будем, – словно не замечая ни Наташи, ни старика Бочарова, влюбленно хлопотала Галя около Сергея.
Полгода замужества удивительно изменили ее. Худенькое веснушчатое лицо округлилось, хрупкие плечи раздались, в серых застенчивых глазах светилась нескрываемая радость.
– Да не балуй, не балуй ты его! Им, мужикам, строгость нужна, – ласково и одобрительно глядя на Галю, с нарочитой грубоватостью сказала Наташа. Вдруг веселое, румяное лицо ее помрачнело, голос сорвался, и вся ее плотная, стройная фигура в ладной стеганой куртке сникла.
«Эх, Наташка, Наташка, – с горечью глядя на нее, подумал Бочаров, – сгубили твою жизнь родители, не за понюх табаку исковеркали. Пашка Круглов! Да разве такой тебе муж-то нужен был?»
– Сергей Сергеевич, – оправясь от волнения, вновь гордо распрямилась Наташа, – что же нам с птицей делать?
– А что, случилось что-нибудь?
– Пока нет. Но еще недельки две, и передохнут все.
– В чем же дело? И озадков и чистого зерна для них оставили.
– Было зерно, да сплыло, – презрительно отмахнулась Наташа. – Забыл, что еще под Новый год сверх плана сдавали?
– Не все же сдали, осталось и для птицы, – неуверенно возразил Слепнев, припоминая, сколько же кормов было выделено для вновь заведенных гусей и уток.
– Да перестаньте вы! Все про дела да про дела… – настойчиво перебила их Галя. – Зима бы скорее кончалась, тогда все наладится.
– Верно, Галинка, – согласилась Наташа, – нам бы до весны дотянуть. А там травка зеленая и водичка вольная враз оживят и уточек наших и гусиков.
Она запахнула стеганку, подтянула концы серой шали и, кокетливо подмигнув Сергею, сказала Бочарову:
– Пойдемте, дядя Николай. Не будем мешать. Пусть голубки поворкуют.
– Никуда не пущу, – схватила ее за руку Галя. – Обедать с нами.
– Нет, нет! У меня там детей целая куча, да и старики хуже ребятишек малых.
– И мне пора. Отдыхайте, молодежь, – поднялся Бочаров.
– Волнуется она, – проводив Бочарова и Наташу, сказала Галя. – Все из-за Привезенцева из-за этого, из-за Феди-капитана. Бывало, что ни день, то письмо. А теперь вот вторую неделю ловит почту, и ничего нет. И я… я тоже волнуюсь, – робко добавила она, прижавшись лицом к груди мужа.
– Не надо, маленькая, не тревожься, – пропуская между пальцами ее волосы, прошептал Слепнев, – все будет хорошо, а подойдет время, в больницу поедем.
– Да нет, я не о том, – еще плотнее прижалась Галя к груди мужа. – Я про Наташу. Воюет этот Федя, а на войне-то мало ли что? Я знаю, Сережа, нехорошо так думать, но после того, как Наташа узнала, что Павел погиб, она вроде переродилась.
– Тяжелый был человек Павел Круглов, – хмурясь, проговорил Слепнев. – Трое детей народилось, а жизнь так и не наладилась.
Слепнев нежно гладил теплые плечи жены и впервые почувствовал, как внутри Гали шевельнулось и тут же затихло что-то трепетное, живое. Он ладонями сжал ее щеки, приподнял голову и в глубоких, счастливых глазах увидел, что и она впервые ощутила в себе новую, едва зародившуюся жизнь.