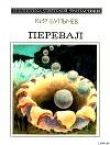Текст книги "Курский перевал"
Автор книги: Илья Маркин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– Ты не кипи, не кипи! Она всегда работала хорошо.
– А теперь не хочет. Да! Отлынивает. Да!
– Но, пойми ты, не может она по неделе дома не бывать. Муж погиб, свекор без вести пропал. Осталась одна-единственная с четырьмя малышами и беспомощной старухой.
– Не такая уж беспомощная старуха. Есть и похуже ее, а не хнычут.
– Горе сломило ее. Враз потерять и сына и мужа…
– Ну, ладно, ладно. Ты же как прицепишься, так житья все равно не будет. Пошлю другую женщину в лес, а Дарью твою оставлю тут.
– Вот и чудесно, – улыбнулся Слепнев. – И еще вот что…
– Опять жалоба? – вскрикнул Гвоздов.
– Нет. Вроде совета.
– Ну, ну! Умный совет всегда польза.
– Почему ты решил картошку сажать за осинником, а гречь посеять за огородами?
– Ну, так и знал! – беззлобно всплеснул руками Гвоздов, но в побуревшем лице его Бочаров заметил тревогу. – А говоришь, не жалоба! Старики накляузничали? Говори прямо: они, бородатые?
– Нет, не старики и все безбородые, – рассмеялся Слепнев. – Старики насчет парников беспокоятся.
– И про это наклепали! – со злостью воскликнул Гвоздов и повернулся к Бочарову. – Ну, ты скажи, можно так работать? Что ни сделаешь, что ни скажешь – все поперек идут. Ну на черта сдались мне эти самые парники?
– А где возьмешь рассаду капустную, помидорную? – спросил Слепнев.
– В городе куплю, на рынке.
– Втридорога, да и качества сомнительного. Вся беда, видно, в том, что боишься за это дело взяться.
– Я? Боюсь? Да я дома такую рассаду выращивал…
– А ты и в колхозе вырасти.
– И выращу! Будь здоров, и для посадки и для продажи выращу! – явно для успокоения уязвленного самолюбия с вызовом выкрикнул Гвоздов и, горячась, подступил к Слепневу. – Ну что еще, что? Выкладывай до конца, отбрешусь за все сразу. Только не тяни, не тяни. У меня дела стоят…
– Ты пока насчет гречихи скажи. Почему ты ее к огородам придвинул? Земелька там самая пригодная под картофель. А ты гречь туда.
– Ах, вот оно что-о! – насмешливо протянул Гвоздов и, сузив глаза, укоризненно продолжал: – Умный ты мужик, Сергей Сергеевич, коммунист, руководитель. А поддаешься каждой сплетне. Неужели ты думаешь, что эту самую гречку сею за огородами потому, что моя пасека рядом, чтобы пчелкам моим поближе мед таскать? Думаешь? Да? Спасибо за доверие. Премного благодарен, Сергей Сергеевич.
Гвоздов говорил с обидой, с горечью, но по его бегающим глазам, по тревожному голосу Бочаров понял, что гречиху он в самом деле подтянул к своей пасеке. Несомненно, так думал и Слепнев, но не высказал этого, а спокойно продолжал:
– Чтобы не было лишней болтовни, собирай-ка вечером собрание. Обсудим, где и что посеять, поговорим, как лучше сделать.
– Это можно, – поспешно согласился Гвоздов, стараясь поскорее прервать неприятный разговор. – Пока все, да? Ну, я бегу – дела, дела. Ты, Андрей, ко мне загляни хоть на полчасика. Потолкуем, вспомним прежнее. А то с этой работой так замотаешься, и про себя вспомнить некогда.
– Ох, и деляга! – глядя вслед уходившему Гвоздеву, проговорил Слепнев. – То одно отчудит, то другое. А в районе авторитет завоевал, лучшим председателем считается.
– Листратов поддерживает? – спросил Бочаров.
– Не только Листратов. Он умеет пыль в глаза пустить! А черт с ним, – пренебрежительно махнул рукой Слепнев, – не на нем – на людях колхоз держится… Андрей Николаевич, как на фронте?
– В общем хорошо, я бы сказал – очень хорошо.
– Неужели опять немцы наступать будут?
– Возможно, но прошлое больше не повторится.
– Знаете, Андрей Николаевич, как люди воспрянули, когда окружение на Волге свершилось! А теперь затишье, и опять тревога нарастает. И у всех одна дума: «Неужели снова, как в сорок первом, как прошлым летом?»
Этот мучительный вопрос, который много раз слышал от других и задавал самому себе Андрей Бочаров, в словах Сергея Слепнева прозвучал особенно тревожно. В глазах его было столько надежды и ожидания правды, что Бочаров потупился и не знал, что ответить. Сказать о решении Советского командования он не мог, не имел права, но и перед этими искренними, раскрывавшими всю душу глазами нельзя было отговориться общими, шаблонными словами.
– Понимаю вас, Андрей Николаевич, – прервал неловкое молчание Слепнев. – Я сам чувствую, что сила на нашей стороне. И так говорю всем, каждого убеждаю. Но человек-то, – застенчиво улыбнулся он, – существо любопытное, глазам не всегда доверяет, хочет все руками пощупать.
– Правильно, Сережа, – радуясь деликатности Слепнева, сказал Бочаров. – Летом свершатся такие события, которые окончательно повернут ход войны в нашу пользу. И сил у нас много и планы замечательные. Но борьба предстоит трудная, возможно, еще невиданная в истории.
Слепнев жадно ловил каждое слово Бочарова. Болезненно-бледное лицо его розовело, глаза раскрывались все шире, худые, жилистые руки все крепче сжимали костыли.
Бочаров рассказывал, с каким упорством и настойчивостью готовятся фронтовики к боям, как они, забывая о сне и отдыхе, осваивают новую технику, новые приемы борьбы с врагом, какое вдохновенное настроение царит на фронте.
– И наши люди, Андрей Николаевич, наши колхозники – тоже! Хоть и мало мужчин… Откуда только силы берутся? Понимаете, слов не подберу… В общем вы помните, как было до войны? Да вот я вам… Просто цифры…
От волнения Слепнев никак не мог достать из кармана записную книжку, но, вытащив ее, тут же сунул в другой карман.
– Что записи, и так все в голову врезалось. Вот, Андрей Николаевич, – успокоясь, неторопливо продолжал Слепнев, – в начале войны в четырех колхозах нашего сельсовета было триста пятнадцать трудоспособных мужчин. А сейчас? – понизил он голос. – Сорок три. Да и те кто больной, кто после ранения, кто совсем инвалид. А земля-то, земля вся обработана! – с гордостью воскликнул он. – Ни одного клочка не пустует. А чьими руками обработана? Женщин да подростков! Ну, еще старики помогли. И чем обработана? Война взяла не только мужчин. В плуги-то мы до войны запрягали почти четыре сотни лошадей. А теперь и сотни набрать не можем. Тракторов почти совсем нет. И все же хлеб даем. Со слезами, с горем пополам, а даем.
– Да, горький этот хлеб, – в раздумье проговорил Бочаров.
– Нет, Андрей Николаевич, не горький! – воскликнул Слепнев. – Горько достается он, но в него душа вложена. Люди по двенадцати, по четырнадцати часов, а то и больше в поле, на работе. И не потому, что, как любит говорит Гвоздов, он всех приструнил. Из-под палки такое не сделаешь. Люди наши, колхозники, женщины особенно, душой понимают, что хлеб – это жизнь. Лучше самим недоспать, недоесть, но дать хлеб нашим воинам, дать рабочим в города. Вот отец ваш, Николай Платонович, – сказал Слепнев и сразу же смолк. – Простите, Андрей Николаевич, – глухо проговорил он, – я всей душой любил отца вашего.
Ком горечи опять подступил к горлу Бочарова.
– Спасибо, Сережа, – с трудом передохнул он и положил руку на костлявое плечо Слепнева. – Хорошая у тебя душа, и сам ты человек настоящий.
Слепнев потупился, долго молчал и, подняв на Бочарова сияющие глаза, с дрожью в голосе сказал:
– Эх, Андрей Николаевич, как хочется сделать все, все возможное, чтобы скорее победить, скорее войну закончить!
XVIII
В хлопотах с прибывшим пополнением, в напряжении боевой учебы и томительных окопных работах по ночам пролетел месяц. Второй стрелковый батальон из резерва вновь вышел на передовую. Это тяжкое для всех событие радовало Черноярова. Он на животе оползал весь батальонный район обороны, убедился, что старые огневые позиции расположены неудачно, выбрал для пулеметов новые места и доложил об этом Бондарю. Молодой комбат, как и всегда, опустив глаза и не глядя на Черноярова, выслушал его. Потом он сам проползал по всем огневым позициям и, доложив командиру полка, сказал:
– Новые места огневых позиций выбраны очень удачно. Приступайте к оборудованию.
Эта маленькая, косвенно выраженная похвала праздничным звоном отозвалась в душе Черноярова.
– Все сделаю, – взволнованно ответил он. – Такого насооружаем!.. Только разрешите на заготовку леса самому поехать.
Утром, оставив за себя Дробышева, Чернояров с десятком самых здоровых пулеметчиков на всех шести повозках выехали в рощу. Низкие тучи плотной завесой прикрыли землю, но дождя не было. На переправе через взбаламученную Ворсклу беззаботно раскуривали у своих орудий зенитчики. Усатый сапер, пропуская повозки, добродушно проговорил:
– Давай, давай, хлопцы, поторапливайся! А то развеет облака, и опять гансы нагрянут.
В густом сосняке на взгорке под сплошным ковром рыже-зеленой хвои было сумрачно, по-домашнему уютно и тепло. Весь лес, казалось, обнимал, голубил людей, истосковавшихся по спокойной мирной жизни.
Чернояров, распахнув шинель и сняв фуражку, долго ходил меж деревьев. Тихая грусть и какая-то странная нежность охватили его. Прошло уже больше часу, а он все никак не мог решиться начать работу. Только услышав стук топоров в западной части леса, где работали другие подразделения, он оглядел так же бродивших по сосняку пулеметчиков и угрюмо сказал:
– Что ж, начнем.
– Эх, товарищ командир, – воскликнул Гаркуша, – рука не поднимается губить красу такую!
– Война, ничего не поделаешь, – вздохнул Чернояров.
– Ну, – резко взмахнул топором Гаркуша, – послужите, родненькие, нам свою последнюю службу!
Вслед за Гаркушей и другие солдаты взялись за топоры. Деревья звенели, ухали, стонали, с тяжким шелестом, шумом падали вниз.
Чернояров вместе со всеми валил дубы и сосны, обрубал сучья, чувствуя, как все тело молодеет, наливается свежей силой. Не было ни мыслей определенных, ни забот, ни тревог, ни тягостных воспоминаний. В беззаботном, празднично-трудовом порыве незаметно пролетели полдня. Чернояров нехотя оторвался от работы, когда ездовые привезли обед.
– Эх, теперь вздремнуть бы минуточек шестьсот! – перевернув пустой котелок, воскликнул Гаркуша.
– Шестьсот многовато, а вот девяносто можно, и в самую меру, – сказал Чернояров.
Пулеметчики натаскали кучу хвои и под веселые присказки неугомонного Гаркуши улеглись отдыхать.
– Товарищ командир, пожалуйста, в мою повозку. Сено там, две попоны, – предложил Черноярову старенький, с морщинистым лицом ездовой.
– Нет, нет. Не нужно сена, не нужно попон, я здесь буду, – отказался Чернояров и, запахнув шинель, прилег рядом с солдатами. Снизу от наваленной хвои тянул густой смолистый запах. Вверху на фоне низких седых облаков плавно качались макушки сосен. Глядя на них, Чернояров почему-то вдруг вспомнил жену. Он так редко и так холодно думал о ней, что сейчас, вспомнив ее, сам удивился своим мыслям. Еще давно, сразу же после женитьбы, он убедился, что, связав свою жизнь с Соней, поступил легкомысленно. Все, как он считал, произошло случайно и нелепо. Был он тогда совсем молодой, едва вступивший на командирский путь лейтенант. Жизнь текла беззаботно и весело. После службы по вечерам и в выходные дни ходил он на танцы, в кино, изредка в театр, встречался с девушками, но всерьез ни одной не увлекся. Через два года, растеряв своих поженившихся друзей, он стал считаться переростком среди молодежи. Мысль о собственной семье даже в голову ему не приходила. Все силы были отданы службе. Он со своим взводом много занимался, был требователен и суров с подчиненными, на годовой проверке занял первое место в полку и был назначен командиром роты. С этого времени он все реже и реже ходил на танцы, а затем и вовсе перестал, считая неприличным ротному командиру протирать подметками клубный пол. Почти ежедневно с подъема и до отбоя он находился в роте. С ротой же проводил большинство выходных дней и лишь изредка и то чаще всего вместе с ротой бывал в кино и в театре.
Однажды (это было ранней весной) он позже всех пришел ужинать в командирскую столовую. Все официантки уже разошлись, и обслуживала только одна, самая молоденькая, белокурая Соня с дымчатыми глазами и тоненькой, словно выточенной фигуркой. Чернояров не раз ловил на себе ее внимательные взгляды, но не придавал им значения. И только теперь уловил и в голосе и в ее сияющих глазах особенное, теплое и душевное отношение к себе. Они перебрасывались ничего не значащими словами. Из столовой вышли вместе.
Ночь была безлунная, тихая, напоенная запахами ранней весны. По-прежнему продолжая говорить о пустяках, они прошли в парк и присели на скамью в пустынной аллее. От близости молодой, привлекательной девушки у него туманилось в голове. Он обнял ее и почувствовал, как она вздрогнула и доверчиво прижалась к нему. В густой темноте мягко шуршали ветви, над головой чуть слышно шелестели волны недалекой реки, изредка вскрикивали какие-то птицы… С этой ночи Соня каждый вечер ждала, когда освободится Чернояров, и они уходили или в тот же парк, или к нему на квартиру.
Так прошло полгода. О женитьбе, как и раньше, Чернояров не думал, дорожа личной свободой и считая глупцами всех, кто заводил семью раньше тридцати лет. Отношения же с Соней он поддерживал потому, что, во-первых, она была молода и привлекательна, а во-вторых, потому, что не в пример другим, прежним знакомым девушкам Соня была мягка характером, послушна и нетребовательна. Она без тени упрека могла часами ожидать, когда он освободится от служебных дел, терпеливо слушать его рассказы об одних и тех же ротных делах, нисколько не обижаться, когда он, огорченный чем-либо, целый вечер был мрачен и молчалив, с удивительным тактом улавливая даже малейшую перемену в его настроении. Все эти полгода близости с Соней Чернояров чувствовал себя особенно хорошо и спокойно. Ничего другого он не желал и желать не хотел.
Гром, как всегда, грянул неожиданно. В один из субботних вечеров, когда Чернояров раньше обычного ушел из роты и, взяв бутылку вина, настроился на тихий отдых, Соня, опустив голову и как-то сразу став маленькой и неприятно робкой, призналась, что она беременна. Весть эта была так неожиданна, что Чернояров несколько минут находился в полнейшей растерянности.
– Может… Может, что-нибудь сделать можно? – наконец невнятно пробормотал он.
– Я ходила, спрашивала, говорят: «Поздно», – едва слышно ответила Соня, не поднимая головы и сутуля худенькие плечи.
От этих слов и особенно от униженного вида Сони Черноярову стало холодно и неуютно. Одна за другой стремительно мелькали тревожные мысли. Освободиться, освободиться любыми путями! Но как, как освободиться? Отправить куда-нибудь Соню, перевезти в другое место. Но куда? Родственников у нее нет, специальности хорошей тоже нет. Куда она пойдет с ребенком на руках и что будет делать? А беременность ее скоро откроется, и все будут говорить, что виновник этого он, Чернояров. Да и одними разговорами дело не обойдется. Совсем недавно подобное случилось с командиром второй роты, который увлек девушку из полковой библиотеки, а потом, узнав о беременности, порвал с нею. Все тогда обрушились на него, да и сам Чернояров не меньше других возмущался и негодовал. Кончилось все тем, что командир второй роты стал посмешищем всего полка, а затем был снят с роты и оказался в презрительной должности командира хозяйственного взвода. От мысли, что и с ним может случиться подобное, Черноярова бросало то в жар, то в холод.
– Ну что ж, – толком сам не понимая, что говорит, с неестественной бодростью сказал Чернояров, – будем жить, вместе будем жить.
Соня от радости прильнула к нему и замерла.
А через неделю в кругу сослуживцев по батальону состоялась свадьба. Соня сияла, с удивительной ловкостью угощала гостей. Сам Чернояров притворно бодрился, пил одну рюмку за другой и часа через два окончательно опьянел. Он не помнил, как закончился вечер, как очутился в постели, и только утром, увидев рядом с собой безмятежно спавшую Соню, понял, что в его жизни произошел крутой перелом. Грустно, неловко и почему-то обидно стало ему. Вспомнились давние мечты о женитьбе на образованной девушке, которая представлялась ему не иначе, как самой обаятельной женщиной в городе. И вот теперь рядом с ним жена, его жена… Официантка столовой. Сейчас она с ним, а завтра опять пойдет на работу, подвяжет свой беленький фартук и будет улыбаться всем, кто сядет за ее столики. От этих мыслей весь хмель сразу исчез. Он поднялся, выпил кружку холодной воды и, присев на постель, всмотрелся в розовое от сна лицо Сони. Оно было так спокойно и так довольно, что он не мог долго смотреть на него, отвернулся, потом оделся и ушел в парк.
Был хмурый, придавленный тучами осенний день. Холодный ветер безжалостно гонял по дорожкам почернелые листья. Та самая скамейка, на которой впервые сидели они с Соней, была сплошь обрызгана грязью. Взглянув на нее, Чернояров опустил голову и, словно убегая от опасности, поспешно ушел из парка.
Когда он вернулся в свою комнату, Соня уже все убрала и сама чистенькая, веселая, с сияющими, счастливыми глазами бросилась к нему, ни о чем не спрашивая и помогая снять шинель.
Чернояров в тот же день потребовал, чтобы она уволилась с работы, и Соня взяла расчет. Домой он часто возвращался хмурый, мрачный, обозленный неудачами и промахами. А она, все так же ни о чем не спрашивая, бесшумно скользила по комнате, взглядом и всем своим существом угадывая каждое его желание. Уже через месяц эта безропотная покорность начала тяготить Черноярова. Вместе с женой ему было тоскливо и скучно. И он частенько без особых причин задерживался в роте, заходил то в клуб, то к кому-нибудь из сослуживцев и домой возвращался поздно ночью.
Рождение ребенка не только не приблизило Черноярова к Соне, а, наоборот, отдалило. Девочка была на редкость неспокойна, кричала по ночам. Чтобы не тревожить мужа, Соня уходила с ней на кухню и просиживала там до утра. Отношения немного изменились, когда девочка подросла и стала забавной, игривой куколкой, с точно такими же, как у Черноярова, большими серыми глазами и выпуклым лбом. Она смешно картавила, забиралась к отцу на колени, крохотными пальчиками теребила его волосы, бесконечно задавая самые неожиданные вопросы. Они целыми вечерами шумно играли, а Соня, хлопоча по хозяйству, молча смотрела на них и так же молча улыбалась.
Может, семейная жизнь и вошла бы в нормальную колею, но грянула война и Чернояров вместе с полком уехал на фронт. Через каждые два-три дня получал он от Сони длинные, чистенькие, с прямыми и ровными буковками письма, торопливо читал их, никогда не перечитывая, сам же отвечал на ее письма редко, с трудом набирая подходящие мысли на одну-полторы странички.
И вот сейчас, разморенный физической работой и сытным обедом, убаюканный коротким душевным спокойствием, он совсем в ином свете увидел свою жену. Как наяву, вставало перед ним ее всегда спокойное нежное лицо, слышался мягкий, ласкающий голос, шуршали ее тихие, неторопливые шаги. Он вспомнил о трудностях жизни в тылу и впервые подумал, как нелегко приходится Соне с теми семьюстами рублями, которые получает она по его аттестату. На эти деньги, в сущности, ничего нельзя было купить. И ни в одном письме Соня не жаловалась, не напоминала, что приходится переживать ей. Только теперь до него со всей ясностью дошло, почему она, робко и вскользь сообщив ему, пошла работать в столовую детского сада, куда устроила и дочку. При мысли, что его маленькая дочка, его игрушечная Таня не имеет многого, что должен получать ребенок, остро защемило в груди. С этим ощущением и непрерывно набегавшими мыслями о жене и дочке проработал он вторую половину дня и, возвратясь в батальон, сразу же после доклада Бондарю сел писать письмо. Он не заметил даже, как исписал целых восемь страниц, и, когда все перечитал, почувствовал удивительную легкость. И позднее, обойдя все расчеты и возвратясь в свою закрытую плащ-палаткой щель, Чернояров лег на соломенный тюфяк и думал о жене и дочке. И во сне он видел Соню – тихую, с нежным, ласкающим блеском в глазах; видел Танюшу – все такую же, как и три года назад, с белыми кудряшками, неугомонную и говорливую; видел и самого себя вместе с ними, но какого-то совсем другого, без теперешних морщин на лице, совсем спокойного и так же, как и они, радостного, веселого, без раздражения и недовольства, которое в те прежние годы так часто охватывало его, когда приходилось бывать вместе с женой.
С этими совсем новыми, окрепшими во сне чувствами встал он утром и начал приводить в порядок давно не чищенное обмундирование. Бензином и щеткой убирая пятна, он радовался, что сразу же по приходе в роту отказался от ординарца и начал делать все сам, к чему раньше даже не притрагивался.
За этим занятием и застал его Дробышев. Возбужденно веселый, с хриплым после ночного дежурства голосом, он одним духом доложил, что за ночь происшествий в роте не было, что противник огня не вел, а только до самого утра светил ракетами и копал траншеи.
– Все копает, значит? – добродушно переспросил Чернояров, с удовольствием глядя на раскрасневшегося лейтенанта.
– Так точно, товарищ старший лейтенант, – с залихватским удовольствием подтвердил Дробышев, – всю землю изрыл и все роет и роет.
Из троих взводных командиров пулеметной роты Дробышев был самым молодым, но Чернояров больше всех доверял ему и всегда с радостью говорил с ним. В свои двадцать лет Дробышев был по-юношески непосредствен и прост, а полгода пребывания на фронте, тяжелые бои минувшей зимы дали ему ту необходимую закалку, которая делает человека привычным к самым резким неожиданностям. Сочетание этих двух качеств и дало Дробышеву легкость и непринужденность в обращении с подчиненными и с начальниками. Как и все, он знал историю крушения Черноярова, но воспринимал ее не как другие офицеры, с сожалением или с презрением к Черноярову, а просто и обыденно, как ошибку человека, который рано или поздно может исправиться. Поэтому и Черноярову было так легко разговаривать с ним.
И еще одно сразу же привлекло внимание Черноярова к Дробышеву. Из рассказов тех, кто раньше служил в пулеметной роте, Чернояров знал, что был во взводе Дробышева злой, язвительный солдат Чалый, который изводил молодого лейтенанта насмешками, каверзными вопросами и оскорбительным недоверием. Узнав, что Дробышев и Чалый вернулись из госпиталя, Чернояров решил Чалого определить в другой взвод. Но, к его удивлению, Дробышев настойчиво потребовал, чтобы Чалого оставили в его взводе и оставили не наводчиком пулемета, кем он был раньше, а назначили командиром расчета и присвоили ему звание сержанта. Он с юношеским жаром доказывал, что Чалый и пулеметчик прекрасный и человек замечательный, что, став командиром, он сделает свой расчет лучшим и не дрогнет в самом тяжелом бою. Под напором Дробышева Чернояров впервые в своей командирской деятельности отказался от прежнего решения и сделал так, как просил подчиненный.
– Значит, все роет и роет? – зная, что Дробышев устал и задерживать его нехорошо, но не желая отпускать его, проговорил Чернояров. – Ну что ж, и мы не меньше копаем. Что это у вас? – увидев в руке Дробышева толстую книгу, спросил он.
– Томик Куприна достал, замечательная книга! – воскликнул Дробышев. – Я давно мечтал прочитать его, да как-то не попадалось больших сборников, все брошюрки тоненькие. А тут смотрите: «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся» и рассказов штук, наверно, пятьдесят. Хотите почитать, товарищ старший лейтенант? Я еще «Войну и мир» не дочитал.
– Да некогда читать-то, – смущенно пробормотал Чернояров, вспомнив, что уже много лет, кроме уставов, наставлений и различных пособий, никаких книг не читал, – дела все, работа.
– Да в перерывах, знаете, затишье когда… А у нас теперь все время затишье. Бои-то неизвестно когда начнутся, – пылко убеждал Дробышев. – В этой книге такие вещи, такие вещи… Только читать начните – не оторветесь. Просто дух захватывает.
– Если книга свободна, давайте, – решив доставить Дробышеву хоть маленькое удовольствие, согласился Чернояров, – почитаю, если время будет.
После ухода Дробышева Чернояров дочистил костюм, протер и смазал сапоги и, зная, что завтрак будет еще не скоро, раскрыл книгу. Он не посмотрел названия того, что начал читать, но с первых же строк почувствовал вдруг какое-то удивительное, никогда не испытываемое наслаждение. Обычными словами описывалось ненастье на Черноморском побережье, потом резкая перемена погоды и подготовка княгини Веры Николаевны к именинам. Все было просто, обыденно, буднично, но Черноярова охватила праздничная радость. Он физически ощутимо чувствовал и нудный моросящий дождик, и прозрачные, насквозь пронизанные солнцем морские дали, и тихую радость счастливой именинницы. Он не помнил, сколько прошло времени, забыл, где находится, весь уйдя в переживания Веры Николаевны и влюбленного в нее несчастного Желткова. Когда он дочитал последнюю строчку и, лихорадочно перелистав книгу, увидел название «Гранатовый браслет», невыразимое, и грустно-тоскливое, и безмятежно-радостное состояние овладело им. Он сидел на соломенном тюфяке, опустив голову на руки, и с трудом сдерживал слезы.
С этого дня он не упускал ни одной свободной минуты, чтобы не взяться за книгу. Его внезапно вспыхнувшую жадность к чтению перебарывало только одно – письма к жене и дочке, которые писал он теперь через каждые два-три дня.