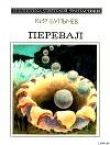Текст книги "Курский перевал"
Автор книги: Илья Маркин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
XVIII
Что-то теплое, трепетно-нежное коснулось лица Привезенцева, и он проснулся. Прямо на него смотрели точно такие же, как у Наташи, карие глаза.
– Говорил, не подходи! Разбудила, дуреха! – с укором прошептал где-то рядом ломкий мальчишеский голосок.
«Матвейка Ксюшу воспитывает», – радостно подумал Привезенцев, дружески подмигнув склонившейся к нему кудрявой, с пухлыми щечками и вздернутым носиком пятилетней дочке Наташи.
– И вовсе не разбудила, – ободренная ласковым взглядом Привезенцева, решительно отразила Ксюша начальнический наскок брата, – он давно проснулся. Правда, дядя Федя, вы уже не спите?
– Конечно, кто же спит до такой поздноты! – вставая, поддержал девочку Привезенцев.
– Здрасьте, дядя Федя, – выдвинулся из-за Ксюши круглолицый крепыш в клетчатой, совсем новой рубашке с отложным воротником.
– Здравствуй, Мотя, – как взрослому, протянул ему руку Привезенцев и, не сумев сохранить взрослой серьезности, погладил стриженую головку мальчика.
Матвейка застенчиво улыбнулся и, очевидно еще не решаясь приласкаться к чужому дяде, смущенно покраснел.
– А мама яичницу жарит, – сообщила более смелая Ксюша, – ой, какая яичница, с луком зеленым, с ветчиной, как на праздник! Вы любите яичницу, дядя Федя?
– Очень, – серьезно заверил девочку Привезенцев, – больше всего на свете.
– И я тоже, – весело прощебетала Ксюша. – А еще я репу люблю. Только бабушка ругается, когда я из грядки дергаю.
– Это она зеленую не дает рвать, – уточнил заметно посмелевший Матвейка, – а как поспеет, ешь сколько влезет, и никто ни слова.
«Что же за человек был Павел Круглов, погибший Наташин муж? – глядя на льнувших к нему Ксюшу и Матвейку, думал Привезенцев. – И года не прошло после смерти, а его даже дети родные, видать, не вспоминают. Неужели он был так черств и тяжел? Каково же им, его детям, смотреть на отцов других ребятишек?»
У него заныло в груди и всколыхнулась такая жалость к этим еще малосмышленышам, что он, чувствуя, как слезы наплывают на глаза, прижал к себе послушных Ксюшу и Матвейку и, чуть не заговорив вслух, поклялся:
«Все сделаю, все, чтобы заменить вам отца, чтобы не коснулись вас сиротство и нужда, чтобы жили вы, как все дети, и радостно и в достатке».
Подняв голову, он встретился с сияющими, слегка подернутыми влагой, удивительно счастливыми глазами Наташи. Она, видимо, стояла давно, видела все и все понимала. Встретясь с глазами Привезенцева, она на мгновение побледнела, сморщилась, словно борясь с какой-то внутренней болью, и, шумно вздохнув, с нарочитой строгостью прикрикнула на детей:
– Это что же вы поспать-то не даете? Ну-ка, марш отсюда!
– А он наш, наш дядя Федя! – задорно выкрикнула Ксюша. – И мы не будили его, он сам проснулся. Правда, дядя Федя?
Привезенцев плотнее прижал детишек к себе, притворно строго взглянул на Наташу и, подражая ломкому голоску Ксюши, так же задорно ответил:
– Да, да! Мы самые большие друзья.
– Вот, – сияющими глазенками стрельнула Ксюша на мать, – дру-зь-я!
– Ну ладно, ладно, – с трудом прогоняя улыбкой подступавшие слезы, проговорила Наташа, – завтракать пойдемте. Ксюша, Матвейка, огурчиков свеженьких, живо!..
Отпустив Привезенцева, дети с шумом выбежали на улицу, а Наташа, поглядев им вслед, подошла к постели.
– Федя, – прошептала она и, не владея больше собой, глухо зарыдала.
– Не надо… Успокойся… – растерянно пробормотал Привезенцев, обнимая ее вздрагивающие плечи.
– Ничего… Я так, – прошептала Наташа и мокрым, горячим лицом уткнулась в шею Привезенцева. – Если бы всегда, всегда было так вот, легко, просторно…
– Будет, будет, всегда будет так! – страстно, как самую верную клятву, прошептал Привезенцев. – Поверь только и ни о чем плохом не думай. Выбрось все мысли тревожные. Начнем жизнь сначала. Все, что в прошлом было, начисто позабудь.
– Я уже все вырвала, все вытравила, – глядя прямо в глаза Привезенцева, сказала Наташа. – Теперь у меня только ты, один-разъединственный, на всю жизнь. Только ты и… – помолчав, добавила она, – ты и дети.
– Ну меня, у меня тоже… Поверь этому, поверь навсегда, без всяких сомнений…
* * *
– А-а-а! Товарищ начальник штаба! – еще издали, шагов за тридцать от Наташи и Привезенцева, протяжно прогудел Гвоздов, одергивая гимнастерку и поправляя сбившуюся на затылок артиллерийскую фуражку. – Рады, рады, всем колхозом рады приветствовать вас. И надолго к нам? – прищурясь, протянул он руку.
– Вроде навсегда, – пристально разглядывая сиявшего довольным лицом Гвоздова, ответил Привезенцев. – Как примете? Не покажете от ворот поворот?
– Вас? – еще шире расплываясь в улыбке, воскликнул Гвоздов. – С превеликим удовольствием, с распростертыми, как это говорят, объятиями!
Наташа недовольно отвернулась, стараясь не встречаться взглядом с Гвоздовым, но овладевшая ею радость была так сильна, что она забыла все плохое о Гвоздове и дружелюбно пожала его руку.
– А Наталья Матвеевна наша враз расцвела, – подмигнул он Привезенцеву. – То, бывало, мрачнее тучи ходит, а теперь вон как щечки-то полыхают! Не обижайся, не обижайся, – заметив, как Наташа недовольно передернула плечами, извиняюще проговорил он. – Мы же тут все свои, и я по-дружески, как это говорят, без подначки. Просто от души рад и от души поздравляю. Значит, в самом деле, Федор Петрович, у нас в деревне остаетесь? – помолчав, озабоченно спросил Гвоздов. – И в город не хотите?
– Я, собственно, и житель-то чисто деревенский, – ответил Привезенцев, нисколько не таясь Гвоздова. – Куда же мне еще рваться? Город как-то не привлекает меня.
– И совершенно справедливо, абсолютно точно, – подхватил Гвоздов. – Что такое город: пылища, духотища, суматоха. Ни тебе простора, ни воздуха вольного. А у нас-то раздолье!
Еще вчера узнав, что Привезенцев решил навсегда осесть в деревне, Гвоздов всю ночь думал об этом неожиданном событии. В прошлом году, хотя и редко встречаясь с ним, Гвоздов отметил, что Привезенцев деловит, не глуп и решителен характером. Такой человек в деревне, конечно, будет сразу замечен и, несомненно, влезет во все колхозные и сельские дела. Хорошо, если он еще отвлечется чем-то, ну, будет, к примеру, выпивать частенько или уйдет в свое домашнее хозяйство. Но если он сразу врежется в сельскую жизнь по-военному, да и самогоном не будет баловаться, то множество дел может натворить. Нерадостные, тревожные думы всю ночь терзали Гвоздова. Но к утру само собой пришло спасительное решение.
«А что, – успокоенно думал он, – это же даже расчудесно! Пусть станет председателем колхоза и расхлебывается со всеми делами этими распроклятыми. А я место Слепнева займу. Все одно не жилец он, да и в районе его не больно жалуют, а меня враз поддержат. Буду из колхоза в колхоз разъезжать и мозги председателям вправлять. Ни тебе беготни по домам при сборах людей на работу, ни ругани то за лошадей, то за инвентарь, то за корм какой-то разнесчастный, ни ответственности за поля, за хозяйство. Разлюбезная жизнь будет! Когда захотел – домашними делами занялся, когда освободился – в сельсовет зашел, в колхозы заглянул. Вот и все».
Эти мечты так овладели Гвоздовым, что он не выдержал и прямо в открытую сказал Привезенцеву:
– Очень замечательно, Федор Петрович, что вы в деревне решили обосноваться. Достойный, прямо скажу, благородный поступок! Вот отдохните малость и давайте-ка на мое место. Человек вы грамотный, опытный, целым полком верховодили. А колхозом-то так завернете, что ахнут все!
Наташа в недоумении смотрела на Гвоздова и никак не могла понять, всерьез говорит он или только для отвода глаз.
– Нет, Алексей Миронович, – так же сбитый с толку словами Гвоздова, сказал Привезенцев, – председательское кресло не по мне. Я педагог, учитель, мое дело с детишками возиться.
– Ну, учителей-то проще простого найти. А председателей колхозов раз, два – и обчелся. Там, в школе-то, по книжкам все расписано. А в колхозе руководить надобно, головой кумекать, да и рука нужна твердая, могутная, чтобы не дрогнула. А у вас она как раз военная, на больших делах отвердевшая.
– Да что ты агитируешь-то? – сердито оборвала Гвоздова Наташа. – Прежде дай человеку осмотреться и передохнуть. А к тому же, – сурово сдвинула она брови, – не твоя забота, где ему работать.
– Ну, все, все, молчу, – замахал руками Гвоздов, – я так это, к слову. Пойдемте-ка лучше ко мне домой. Медком угощу, да и белоголовая найдется…
– Нет, – резко остановила его Наташа, – мы к Слепневым идем.
– Ну, тогда вечерком милости прошу, – не сдавался Гвоздов, – попросту, без всяких церемоний.
– Там видно будет, спасибо за приглашение, – сказала Наташа и решительно взяла Привезенцева под руку.
* * *
Неторопливый, с ясными, слегка прищуренными глазами и серебристой проседью в волосах секретарь райкома партии в военной гимнастерке без погон и черной перчаткой на правой руке сразу пришелся Привезенцеву по душе. Он деловито и строго, без надоедливых расспросов и сожалений выслушал Привезенцева и, поглаживая здоровой рукой выбритый до синевы крутой подбородок, неторопливо заговорил:
– Очень хорошо, что вы хотите взяться за свою прежнюю работу, за учительство. Это сейчас исключительно важно, я бы сказал, что хороший учитель сейчас дороже председателя колхоза и даже сельсовета. Война много наделала бед и в образовании. Только у нас в районе, а район сравнительно небольшой, в этом году не ходило в школу более двух тысяч подростков. А на будущий год эта цифра может удвоиться. И если вам удастся всех ребят из окрестных деревень привлечь к учебе, вы сделаете великое дело. Помощь вам будет, – легким кивком головы остановил он хотевшего было заговорить Привезенцева, – многое не обещаю, но кое-что сделаю. Доски для парт дадим, известь для ремонта, дрова для отопления, но главное – ваша инициатива и напористость. Нужно поднять и все колхозы и всех колхозников. Думаю, что энергии и решительности у вас хватит.
– Постараюсь, – выдержав настойчивый взгляд секретаря райкома, сказал Привезенцев. – Я, собственно, с детства мечтал быть настоящим педагогом. До войны не получилось, в армию призвали. Теперь вложу все силы.
– Вот и чудесно! – одобрил секретарь и еще пристальнее всмотрелся в Привезенцева. – Теперь один весьма важный вопрос, вернее – поручение. В вашем сельсовете нет партийной организации, и это остро чувствуется во всех делах. Есть там два члена партии, но двое – это еще не организация. Вы будете третий, и вам районный комитет поручает создать первичную партийную организацию. И не просто создать, а развернуть настоящую партийную работу, сплотить вокруг себя лучших людей и повести самую решительную борьбу за укрепление колхозов, за налаживание жизни, за искоренение всех недостатков. А их у нас, – устало прикрыл он глаза синеватыми веками, – и считать не пересчитаешь. И еще я хочу вам дать одно очень неприятное поручение. Что-то нехорошее с Гвоздовым происходит. Я всего третий месяц в районе, из госпиталя, как видите, – кивнул он на руку в черной перчатке, – толком еще не разобрался во всем. Район-то по размерам хоть и средненький, а хозяйств различных – море. Одних колхозов сотня, да еще совхозы, кое-что из промышленности. Одним словом, руки до всего еще не дошли. Так вот о Гвоздове. О нем много говорят, даже пишут. Лучший председатель колхоза в районе. И вдруг на днях обнаруживается махинация. С лесником спутался, всем колхозом сено косил, исполу, как до коллективизации: половину в колхоз, половину леснику. А лесник – чистейший спекулянт. Ну, это дело разбирает прокурор. Виноват Гвоздов – будет отвечать. Появилось другое. Письма вот, – достал он из стола пачку бумаг, – все о Гвоздове, и все анонимные. Терпеть не могу анонимок, но тут приходится подумать. Или клевещут на Гвоздова, или он так зажал колхозников, что просто боятся его. Очень прошу вас, Федор Петрович, вы человек новый, свежий, возьмите-ка эти письма, разберитесь во всем и приезжайте ко мне. Только объективно, честно, без малейшего влияния кого бы то ни было. Не обижайтесь, что я вас с места сразу пускаю в карьер.
– Нет, что вы, – улыбкой на улыбку ответил Привезенцев, – я очень рад доверию.
– Вы же офицер и коммунист, как же я не буду доверять вам! Но учтите, – строго погрозил он пальцем, – я тоже офицер и коммунист. Поэтому и спрошу за все жестко, без скидок на объективности. Да, вы ели что-нибудь? Может, закусим?
– Что вы, спасибо, – взволнованный искренностью и теплотой секретаря райкома, сказал Привезенцев, – меня жена продуктами на целую неделю снабдила.
– Значит, хорошая у вас жена?
– Очень хорошая! – воскликнул Привезенцев, совсем забыв, что говорит с человеком, которого знал всего лишь около часа.
* * *
Поручение секретаря райкома было настолько серьезным, что Привезенцев долго раздумывал, как его выполнить. Все осложнялось тем, что письма о злоупотреблениях Гвоздова были анонимные, без подписей, а в подтверждение фактов в них перечислялось много имен колхозников. Привезенцев хорошо знал, что разговор даже с двумя-тремя из этих колхозников эхом отзовется по всей деревне, вызовет множество толков и кривотолков, а это может отразиться на работе Гвоздова и резко подорвать его авторитет.
Всему помог случай. Под вечер, когда большинство колхозников возвращалось с работы, Привезенцев пошел на конюшню, надеясь встретить там кого-либо из нужных ему людей и словно невзначай, издали завязать разговор. Едва миновал он полуразвалившийся сарай, как от распахнутых ворот конюшни послышался приглушенный гневом и мольбой женский голос:
– Совести у тебя нет! Жалости ни капельки! Ты же знаешь, что делом этим я ни в жизнь не занималась. Где я возьму тебе самогонки?
– Ну, поллитруху-то раздобудешь, – уверенно, с чувством несомненного превосходства прозвучал голос Гвоздова. – А закусить – и огурчиком обойдемся.
– Да нету же, нету! Ни денег, ничего. На что купить-то? – с горечью проговорила женщина.
– Ну, эти разговорчики вовсе ни к чему. Лошадь тоже на весь день оторвать стоит немало, – с еще большей настойчивостью ответил Гвоздов.
Услышав этот разговор, Привезенцев остановился.
О случаях вымогательства Гвоздова с колхозников сообщалось в трех письмах. Об этом как раз и шел сейчас разговор.
– Оглоед ты окаянный! Душа твоя бесстыжая! – видимо закипев от возмущения, выкрикнула женщина.
– Ну ты, полегче, полегче на поворотах! – заметив Привезенцева, в замешательстве пробормотал Гвоздов. – Уж и пошутить нельзя.
– Ишь ты, какой шутник выискался! – так же увидев Привезенцева, громче и напористее продолжала женщина. – Твои шутки эти слезьми для людей оборачиваются. В кабалу всех вгоняешь, на кажном что ни на есть пустяке пользуешься.
– Я не позволю клеветать! – багровея, вскрикнул Гвоздов.
– Клеветать? – гордо подбоченясь, гневно проговорила Арина. – Бабы! – пронзительно крикнула она возвращавшейся с прополки группе женщин. – Бабоньки, давайте сюда! Да скорее, скорей же!
С тяпками и вязанками травы женщины послушно свернули к конюшне.
– Клевета, значит? – зло и насмешливо повторила Арина. – А ну, Федосья, – обернулась она к женщинам, – сколько самогонки стребовал с тебя этот самый вот Гвоздов за тую повозку, что ты дочь на станцию отвозила? Говори, говори, что жмешься?
– Ну, было, зашел, выпил, – робко проговорила пожилая женщина, скрываясь за спинами подруг.
– Выпил, значит! – укоризненно воскликнула Арина. – Ах, какая ты добренькая и жалостливая!.. А ты, Марья, что глаза опустила? Не с тебя ли он литру за воз соломы содрал? А ты, Марфуша? Ты, Анна? Нечего в молчанку играть да по углам шептаться! Этого паразита на чистую воду надо…
– Я не позволю!.. – задыхаясь от ярости, прокричал Гвоздов. – Да за такие слова… Да советская власть за оскорбление руководителей колхозных…
– Ты, Гвоздов, советской властью не прикрывайся, – прервал его незаметно подошедший Слепнев. – Советскую власть народ выбирает, и советская власть служит народу.
– А-а-а! – насмешливо протянул Гвоздов. – Вот откуда ветерок-то дует. Сам товарищ Слепнев все подстроил. За дело Гвоздова подкусить нечем, так давай несознательный элемент настраивать.
– Заткнись! – с хрипом выскочила из толпы высоченная женщина с темным остроскулым лицом. – Не смей марать Сергея Сергеевича! Он своей души за народ не жалеет. А ты только и знаешь, что тянуть с народа. Хватит, бабы, – призывно махнув рукой, крикнула она женщинам, – довольно молчать, натерпелись от этого толстомясого, и будет! Вот и Сергей Сергеевич тут и Федор Петрович. Он, говорят, теперь партийный руководитель. Давай собрание требовать!
– Правильно! Собрание! Нечего терпеть! – зашумели женщины. – Он вконец обнаглел. Пчел – как у помещика! Спекулянт без подделки…
Под гневными криками толпы Гвоздов сник, потом резко поднял голову, злобно взглянул на Слепнева, на женщин и, видимо поняв, что всякое сопротивление бесполезно, с хрипом проговорил:
– И пожалуйста, и собирайте и снимайте, в ножки поклонюсь, что избавился от должности от такой…
– Нет, ты запросто от нас не уйдешь, – остановила его Арина, – мы с тебя за все спросим, и не как-нибудь, а сполна…
* * *
Колхозное собрание закончилось под утро. Наташа с Галей и Слепнев с Привезенцевым вышли из душной, продымленной конторы и, не сговариваясь, направились сизым от росы пригорком к озеру. Говорить никому не хотелось, и все четверо шли молча, думая о совсем необычном, шумном и горячем собрании. Огромная луна свалилась почти к самому горизонту, и распластавшееся по лощине озеро тускло розовело в прозрачном тумане.
– Нет! Никак не могу опомниться, – остановясь на плотине, сказала Наташа. – Ну как можно такое? Что за председатель из меня? И выдумают тоже!
Наталья Матвеевна, вам известна такая пословица: «Не боги горшки обжигают»? – шутливо спросил ее Слепнев.
– Во! Видали? – кивнула Наташа Гале и Привезенцеву. – Уже Натальей Матвеевной величает! То была Наташка, Наташа, а теперь вдруг Матвеевна!
– А как же иначе, ты же теперь не кто-нибудь, а председатель колхоза. Верно, Федор Петрович?
– Ох, председатель, председатель! – горестно вздохнула Наташа. – Как натворит этот председатель делов несуразных и полетит вверх тормашками вроде Гвоздова и с должности и под суд! А я судов-то этих и в глаза не видела.
– Да что ты? – вступилась Галя. – Гвоздов жулик настоящий, а ты… Ты же как слезиночка…
Привезенцев слушал разговор и все еще никак не мог опомниться от всего, что произошло на собрании. Его нисколько не удивило, что почти все колхозники яростно обрушились на Гвоздова, решили снять его с должности председателя колхоза и отдать под суд. Совсем неожиданным, ошеломляющим было шумное единодушное требование женщин на место Гвоздова избрать Наташу. Вначале от радости у него запылало лицо, но, подумав, что за работа ляжет на ее плечи, он внутренне похолодел, жалея ее. У него даже мелькнула мысль выступить и попросить всех не наваливать на нее такую непосильную ношу. Но было уже поздно. Частокол поднятых рук окончательно сбил его мысли.
«Остается только одно, – встревоженно думая, решил он, – всеми силами помогать ей, на каждом шагу, в каждом деле. И главное – учить, учить. Она хоть и окончила семилетку, но, видать, многое перезабыла».
– А вы что, Федор Петрович, загрустили? – спросил Слепнев.
– Загрустишь, – весело рассмеялась Галя, – жена-то, чай, теперь не кто-нибудь, а председатель! Ой, Федор Петрович, и вредные же эти председатели! По себе знаю. Мой председатель ни днем, ни ночью покоя не знает. Только вы не горюйте. Пусть они председатели, а мы с вами вдвоем против них.
– Это что же, вроде заговора? – усмехнулся Слепнев.
– Конечно! – задорно воскликнула Галя. – Критику на вас наводить будем, чтобы не очень-то нос задирали.
– Точно, Галя, – оживился Привезенцев, – мы в обиду себя не дадим.
– Милые вы мои, – восторженно прошептала Наташа, – а хорошо-то как! Озеро – и конца не видно! Рыбки там плещутся, сил набираются, утятки подрастают. Ведь это же благодать, озеро это наше!
– Тихо, – легонько подтолкнул Слепнев Привезенцева, – в эту минуту рождается новый председатель колхоза.
XIX
Четыре странички бисерного почерка Веры Нина прочитала, почти не дыша, и, ошеломленная нахлынувшей радостью, прижала письмо к мокрому от слез, разгоряченному лицу. И сразу же, как наяву, она увидела его, его самого, Сережу Поветкина! Нет! Теперь он не тот вихрастый, всегда чем-то занятый детдомовский Сережа и не тот строгий секретарь комсомольского комитета техникума Сергей Поветкин. Теперь он не Сережка, не Сережа и не Сергей, а Сергей Иванович, подполковник, командир воинской части! Неужели все это правда? Неужели два года надежд в этой страшной безвестности войны и оккупации не обманули ее? Неужели наконец-то все мучительные раздумья, призрачные, как сон, ожидания, вспышки одинокого, таимого от всех отчаяния сменились светлой радостью сбывшейся мечты?
Нина еще раз жадно перечитала письмо подруги юности. Нет! Никакой ошибки! Никакого обмана и ложных иллюзий! Все правда! Долгожданная, светлая правда! Жив, жив Сережа Поветкин! Год назад он был в Москве, заходил к Вере домой, говорил с нею. А зимой, прошлой зимой вместе с Петром Лужко воевал на фронте и теперь чуть ли не каждую неделю присылает Вере и Петру письма. Жив Сережа, жив и ничего не забыл, все помнит и хранит. Два года, все эти два года войны он разыскивал ее и не мог найти. Как это не мог? Почему не мог?
Нина не заметила, как по щекам потекли слезы и соленой горечью скатились в уголки рта. Она всхлипнула, сквозь застилавший глаза светлый туман посмотрела на письмо и улыбнулась и осуждающе, и радостно, и виновато.
Дурочка! Где же он мог найти тебя, когда ты и сама не знала, кто ты есть сегодня и что будет с тобой завтра? Ты же в мире была вроде невидимое «ничто», и настоящую тебя знали всего несколько человек, да и те и хотели всей душой, но не могли сказать, где ты и что с тобой.
А он ждал, надеялся, разыскивал. И Вера искала и Петро… Бедный Петро! Инвалид, без ноги, на протезе… А может, и с Сережей что? Нет, нет! Этого не случится, не может случиться!
Нина, как в полусне, встала с замшелого пенька, торопливо поправила волосы. Косые лучи послеобеденного солнца упрямо пробивались сквозь толщу густого сосняка. Легкие блики мягко скользили по иглистому ковру прошлогодней хвои. Изредка в разморенной тиши леса, едва уловимо возникая, тут же замирал ласковый перешепот ветвей. В густой тени узенькой просеки Нина увидела Васильцова. Видимо не замечая ее, он шел неторопливо, в раздумье склонив лысеющую голову. В военном обмундировании, без погон, в ярко начищенных сапогах и с командирской сумкой в руке, он был совсем не похож на того Степана Ивановича, который вывел ее из Орла.
– А-а-а, Ниночка… – увидев ее, приветливо улыбнулся Васильцов и, мгновенно погасив улыбку, спросил: – Получили? От него?
– Нет, – в порыве радости встряхнула головой Нина и, словно оправдываясь за неладный ответ, тихо добавила: – От подруги, от Верочки. Жив он, жив, Степан Иванович! – захлебываясь словами, торопливо выговорила она, устремляясь к Васильцову. – Воюет на фронте! Меня разыскивал… Но война же, понимаете, везде отвечали, что я… Что про меня… Неизвестно…
– Рад за тебя, дочка, – мягко пожал ее трепетные пальцы Васильцов. – Уверен, что будешь счастлива.
– Буду, буду, Степан Иванович! – с жаром воскликнула Нина. – Все прошло… Теперь все другое будет.
Васильцов пристально смотрел на ее разгоревшееся лицо, и какое-то гнетущее предчувствие охватило его. Он отпустил ее руку, отвел свой взгляд от ее наполненных счастьем сияющих глаз и встревоженно подумал:
«Нельзя тебя на задание сегодня пускать. Ты взволнована, и это может погубить тебя».
– Тебе, Нина, отдохнуть нужно, – мягко сказал он, опять беря ее руку, – ты столько пережила, столько ожидала этого…
– Нет, нет, – с обидой и мольбой перебила его Нина. – Мы же идем сегодня. Я пойду, обязательно пойду. У меня сейчас столько сил, – спокойнее и тверже продолжала она, глядя на Васильцова уже совсем другими – требовательными и решительными – глазами. – Мы готовились. Все идут. Я понимаю, что будет трудно, но это нужно, это важно. Там, – резко взмахнула она рукой, показывая на восток, – на фронте, наше задание, может, не одну жизнь спасет. – Она смолкла, сурово сдвинув брови, и вдруг улыбнулась, до наивности просто и бесхитростно, и с дочерней откровенностью воскликнула: – Да что вы, в самом деле, Степан Иванович! Все пойдут, а я останусь. Да ни за что на свете!
Этот откровенный, искренний порыв победил Васильцова. С нежной радостью смотрел он на нее и думал о своей дочке.
– Только, Степан Иванович, вот это разрешите с собой взять, – показывая письмо, умоляюще попросила она, – я понимаю, я знаю, нельзя это. Идешь на задание – ничего личного. Но это… Это я не могу оставить.
* * *
Группа Артема Кленова из партизанского лагеря ушла первой. В прозрачных июльских сумерках безмолвно шагали позади Артема Сеня Рябушкин, Нина и Кечко. Узкая лесная просека глухим коридором скатилась к тихому и задумчивому ручью с обильной россыпью белых лилий, поднялась на взгорье и, пропетляв километров шесть по чахлому мелколесью, оборвалась у кочкастого болота.
– Передохнем, – остановился в густом кустарнике Артем и мягко опустил на мшистую землю мешок с толом, – да и покурим последний раз.
– И мне, что ль, задымить? – деловито сдвинув жиденькие брови, с озабоченной серьезностью проговорил Сеня. – Где наша не пропадала!
Улыбаясь, Нина ожидала строгого окрика Артема, никогда не позволявшего пареньку баловаться куревом, но тот молча подал Сене кисет и свернутую гармошкой газету. С видом заправского курильщика Сеня оторвал клочок газеты, захватил щепоть табаку и худенькими пальцами начал неумело мастерить самокрутку.
– Брось щас же! – гневно выкрикнул всегда равнодушный Кечко. – Брось, тебе говорят!
– Пусть побалуется, – ласково вступился за своего питомца Артем, – табачишка-то дрянненький, трофейный. От него и дите малое не закашляется.
– Да нет, я так просто, попробовать, что за курево фрицы применяют, – равнодушно сказал Сеня и, едва коснувшись губами самокрутки, презрительно отбросил ее. – Ух, и дрянь же! Вот бы нашего, елецкого, самосадика! Хватнешь – и душа в пятки!
Ни Артем, ни Кечко, казалось, не слышали его слов. Они лежали на траве, подложив под головы свои мешки, и раз за разом часто затягивались табачным дымом.
– Знаешь, Сеня, – поймав тревожный взгляд паренька, посмотревшего на сурового Кечко, сказала Нина. – Вот кончится война, я тебе целый набор самых хороших папирос подарю. И «Казбек», и «Беломор», и эти, как их, видела я в магазине до войны…
– Нет! – решительно прервал ее Сеня. – Ни дым этот противный, ни горилку и в рот не допущу. Это же яд, отрава. Заживо организм сжигает. А я спринтером буду.
– Кем, кем? – оживясь, повернулся к нему Кечко.
– Сприн-те-ром! – явно желая рассчитаться с Кечко за окрик, с дерзким вызовом ответил Сеня и, помолчав, снисходительно пояснил: – Бегуном, понимаешь, спортсменом. Только не обычным, так это, шаляй-валяй, а особенным, таким, что пулей бегает. Во! А что, сомневаешься? – возмутился он ехидной усмешкой Кечко. – Да я уже лет пять готовлюсь. Во! Глянь, – протянул он худенькие ноги в стоптанных ботинках, – одни мускулы и ни кусочка мяса!
– Ну ладно, спринтер, – вздыхая, поднялся Артем, – готовься рекорды ставить, а пока что забрасывай котомку за спину, и пошли. Да смотри только сухари и сахар не подмочи. А то на целый месяц сладочного довольствия лишу, и будешь пустой водичкой с воздухом вприкуску чаевничать.
Стало уже совсем темно. Над болотом поднимался промозглый туман. Со всех сторон неслись противные перехрипы лягушек. Известная только одному Артему вихлявая тропинка тянулась томительно долго. Сеня часто спотыкался, попадал в воду, натыкался на кочки.
– Иди за мной шаг в шаг, – сердито прошептал Артем. – Что ты какой-то разболтанный сегодня! Впервой, что ли, по болотам бродить?
Вскоре едва уловимо потянуло запахом хвои, сырость заметно уменьшилась, и, наконец, под ногами приятно зашуршала твердая земля.
– Вы с Сеней здесь посидите, – войдя в густую темь леса, сказал Нине Артем, – а мы с Иваном пройдем осмотримся.
– Нина, – робко прошептал Сеня, – у тебя нет хоть какой-нибудь тряпочки?
– Зачем тебе? – удивилась Нина.
– Ногу, понимаешь, стер, тогда еще, помнишь, немецкий обоз перехватывать ходили. И вот болит и болит.
– Почему же ты Артему не сказал?
– Боялся, не возьмет.
– Ну, знаешь!.. – возмутилась Нина.
– Что «знаешь»? – обидчиво перебил Сеня. – Все идут: кто рельсы рвать, кто стрелки. Нам самое труднее задание, а я сиди, как инвалид? Артем же, он чуть скажи, и враз подпаском к этому Круглову.
– Ты просто невозможен. У меня бинты есть, лекарства, хоть сказал бы. Ну, снимай ботинок.
Щиколотка правой ноги была так растерта, что, бинтуя, Нина дивилась терпению Сени.
– Скорее, Нина, скорее, – умоляюще шептал он, – Артем вернется, увидит…
– А ты что, и сейчас скроешь от Артема? – возмущенно воскликнула Нина.
– Нельзя говорить… Назад отправит… Он же такой, я вытерплю… И совсем ничего особенного… Других вон ранят смертельно, а они все равно воюют.
По-детски наивное бормотание паренька и возмущало Нину и вызывало жалость к нему. Артем, конечно, ни на шаг не пустит его, и это сильнее тяжелой раны поразит простодушного и до безрассудства восторженного Сеню. На всю жизнь повиснет на его совести этот нелепый случай. Но нельзя и скрывать. По плану Сеня должен идти с Артемом взрывать переезд, а Кечко и Нина остаются в прикрытии.
– Ниночка, дорогая, прошу тебя, молчи, не говори, – поняв раздумье Нины, жарко шептал Сеня. – Клянусь всем, всем, что есть: ни разу в жизни ничего больше не скрою, ни самой малости.
– Нет, – сурово проговорила Нина. – Артем должен все знать. И ты ему сам скажешь.
– Не могу… Нельзя.
– Прекрати! – оборвала Нина его жалобные вздохи. – Мы не на прогулку идем, а задание важное выполнять.
Сеня испуганно отстранился от Нины, торопливо надел и зашнуровал ботинок и вдруг, приблизясь прямо к ее лицу, с убийственным презрением зашептал:
– Сухарь! Вобла копченая! Лягушка у тебя вместо сердца! Говори, передавай! Я тебе как самой, как самому дорогому человеку открылся. А ты… Эх!.. – Он, весь дрожа, гневно отвернулся, сорвал с головы кепчонку и, швырнув ее на землю, опять резко повернулся к Нине. – Пусть, пусть я пропаду, но тебя и после смерти ненавидеть буду!
– Сеня, глупенький, – обняла паренька Нина, – я же тебе только хорошего хочу.
– Ну, молчи тогда, молчи, ладно?
– Да нельзя этого делать! Ты же нездоров.
– А там всякое может случиться. Ну, как ты будешь?