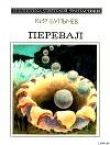Текст книги "Курский перевал"
Автор книги: Илья Маркин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
– Он самый, Никита Сергеевич, – улыбнулся и Ватутин. – Думал, в Москве останется. Нет, опять едет на наши головы.
– Ну что ж, будем держать ухо востро, – с прежней веселостью пожал Хрущев руку Решетникова. – А впрочем, я слышал, что он не столько контролер, сколько критик. Верно, Николай Федорович?
– Да еще какой! – к удивлению Решетникова, с дружеской усмешкой сказал Ватутин. – Неделю назад в моем собственном кабинете он меня громил похлестче, чем здесь, и по тем же самым вопросам.
– Вот вы какой! – вскинул брови Хрущев. – Люблю задиристых людей. С ними не закиснешь. А с теми, кто только каблуками щелкает да поддакивает, скука, преснятина. Так, Николай Федорович, – оборвал Хрущев шутливый разговор, – какие у вас планы?
– Я немедленно, сейчас же на фронт. Нужно все организовать, как решено здесь.
– И как можно быстрее! А мне придется денька на три в Москве задержаться. Очень дел много. Все, что для нашего фронта нужно сделать здесь, я сделаю.
– Главное, Никита Сергеевич, пополнение людьми, вооружением, техникой.
– Это я беру на себя. Вы ничем не отвлекайтесь. Создание обороны мощнейшей, неприступной – первостепенная задача.
Они стояли – оба невысокие, плотные, с серьезными, озабоченными лицами, – обсуждая множество вопросов и проблем, которые им, руководителям огромного воинского коллектива, придется выполнять.
Слушая их, Решетников пристально изучал Хрущева, стараясь составить о нем свое мнение. Хоть и живой, решительный человек был Решетников по своему характеру, но с новыми людьми, особенно с большими начальниками, сходился трудно. Много раз в жизни он ошибался в людях, много повидал измен внешне преданных друзей, много знал случаев, когда человек в самую трудную минуту оказывался совсем не таким, каким представлялся раньше. И это, даже при его кипучем характере, всякий раз при встрече с новым человеком настораживало Решетникова. Сейчас же, впервые увидев Хрущева, нового члена Военного Совета фронта, с которым ему, представителю Генерального штаба, не раз придется сталкиваться при работе, Решетников не чувствовал этой настороженности. Было в Хрущеве какое-то удивительное сочетание внешнего обаяния, душевной простоты, внутренней силы и неуловимой властности.
Никто еще, кого знал Решетников, не производил на него такого сильного впечатления с первой же встречи. Теперь он начал понимать, почему так говорил с ним Ватутин. Хрущев обладал тем, чего так не хватало сейчас Ватутину, – душевной силой, способной и поддержать, когда трудно, и вдохнуть энергию, когда нахлынут сомнения, и сказать напрямую, властно потребовать, когда ошибешься.
Разговор Хрущева и Ватутина затянулся. Уже померк электрический свет и высокие окна приемной пламенели под солнцем. Новый день перевернул новую страницу в истории большой войны.
VIII
Дряхлый, во многих местах прошитый пулями вагон натруженно скрипел, качался, лязгал разболтанными буферами и надоедливо стучал колесами на стыках рельсов. Вместе с вагоном плавно раскачивались двухъярусные нары, железная печь-времянка и все три десятка молодых солдат, шестые сутки томившихся в этом жилье на колесах. Давно были перепеты все известные песни, давно рассказаны занимательные и скучные истории, и наступило то нетерпеливо-нервное ожидание, которое охватывает людей, едущих на фронт.
В распоясанных гимнастерках, без ушанок, многие в одних носках и портянках, солдаты лежали и сидели на дощатых нарах, подбрасывали в печку дрова, грудились у двери, глядя на проплывавшие мимо поля, едва очистившиеся от снега. Все были молчаливы, задумчивы; видимо, каждый вспоминал то, что осталось позади, и думал о неизвестном будущем. И только один из них, невысокий, веснушчатый паренек с большими, по-мальчишески оттопыренными ушами и нежным румянцем на курносом лице, был необычайно весел и возбужден; разгоревшимися карими глазами восхищенно глядел он на мелькавшие мокрые поля, на голые, темные от сырости рощи и перелески, на облупленные железнодорожные будки.
– Тамаев, это родина твоя? – видимо поняв состояние паренька, спросил кто-то с верхних нар.
– Родина! – протяжным вздохом ответил паренек.
– Родился тут, Алеша, да? – настойчиво переспросил совсем маленький, худенький, с остроскулым смуглым лицом Ашот Карапетян.
– И родился, и рос, и учился! Вот там, километров шестьдесят отсюда. На самом берегу Оки, у воды, как говорят у нас.
– А мой родина, ой, далеко! Черное море знаешь? Вот там. Только вода у нас соленый-соленый!
Этот разговор словно всколыхнул всех. На нарах, у погасшей печки, у распахнутой двери наперебой загомонили звонкие и хриплые голоса, мечтательно заблестели глаза, перекатом рассыпался радостный смех, и весь вагон наполнился веселым гулом.
Словно в полусне, Алеша смотрел в дверь вагона и не заметил, как поезд подошел к большой станции и остановился.
По мокрой и грязной платформе суетливо бегали солдаты. Тревожно осматривалась по сторонам пожилая женщина в огромной черной шали. В поисках пищи шныряла между людьми худая, облезлая собачонка. К вагону подходил сопровождавший команду пополнения лейтенант. За ним походкой моряка, вразвалку вышагивал коренастый солдат в серой десантной куртке, с объемистым вещмешком за спиной и каким-то длинным свертком в руках.
– Сюда садитесь, – остановись у распахнутой двери вагона, сказал коренастому лейтенант. – А вы потеснитесь немного, освободите место товарищу, – добавил он, глядя на сидевших в вагоне, и ушел.
– Здорово, орлы! – одним махом вскочив в вагон, выкрикнул коренастый и, вытянувшись, как перед большим начальством, тем же зычным голосом представился: – Еще пока не гвардии рядовой Гаркуша Потап Потапович, от роду тридцать пять лет, ни дома, ни хаты нет, никогда не было и, може, не буде… О-о-о! – озорными глазами осматривая примолкших молодых солдат, насмешливо протянул он. – Я думав, це орлы-гвардейцы, а бачу не орлов, а сусликов. Здорово, суслики! – вновь строго вытянувшись, выкрикнул он. – Мовчат, – словно обращаясь к кому-то, удивленно осмотрелся он по сторонам. – Скажите на милость, мовчат! Та що ж це такэ! Та хто ж вы? – пересыпал он свою нарочито смешливую речь украинскими словами. – А ну, вот ты, – повернулся он к Алеше, – кто ты такой будешь?
– Станковый пулеметчик, – смущенно пробормотал Алеша.
– Кто, кто? – сморщив полное, с густыми сросшимися бровями и длинным, изгорбленным носом лицо, едко переспросил Гаркуша. – Пулеметчик, говоришь? Та якой з тэбэ пулеметчик! Пулеметчик – это ж грудь – сажень, рост – пид потолок, глаза – огонь и голос – як труба военная. А ты ж кирпатый, та ще курносый, та й росточек, як у того школяра, шо матка по утрам пирожками пичкае.
– Вы… вы вот что, – вдруг выскочил из-за Алешиной спины и ринулся на Гаркушу Ашот. – Вы грубиян, вы нахал, вы плохой человек…
– Стой, стой! – невозмутимо проговорил Гаркуша и, недоуменно разводя руками, обвел всех насмешливым взглядом. – Товарищи дорогие, что ж получается? Человек в гости к вам пожаловал, а его чуть не в штыки. Грубиян, нахал, плохой человек! Як це понимать? Ну, сам ты посуди, – подступил он к Ашоту, – ты, я бачу, кавказский человек, а кавказцы гостя никогда не обижают! Так я понимаю?
– Вы никакой не гость!.. Вы оскорбитель, вы… вы… вы… вы совсем не наш человек.
– Ну, ты это брось! Человек я на сто процентов наш. Ты, я вижу, тоже наш. Росточек, правда, подкачал, но це не беда. Пудов пять каши кадровой скушаешь и пидтянешься. Как зовут-то? Давай знакомиться, може, вместе кровушку пролить доведется, – миролюбиво протянул он руку Ашоту.
– Карапетян, Ашот, – обескураженно пробормотал Ашот и нехотя пожал руку Гаркуши.
– И ты не обижайся, – подошел Гаркуша к Алеше. – Ишь, как щеки-то полыхают, сразу видать, с характером парень!
От возмущения и обиды Алеша давно намеревался сказать что-нибудь резкое, но сейчас под мягким взглядом подобревших глаз Гаркуши растерялся и бессвязно пробормотал:
– Я что… Я не обижаюсь… Я так…
– О це добре! – воскликнул Гаркуша и пошел по вагону, пожимая руки молодых солдат.
Обойдя всех, он присел около печки, взял длинный сверток и под настороженными взорами солдат достал из него видавшую виды старенькую гитару. Словно находясь в одиночестве, он молча склонил голову, пробежался пальцами по струнам и запел. Просмоленное цыганское лицо его потеряло жесткое и язвительное выражение, движения рук были мягкие, осторожные, голос приятно перемежался с перестуком колес. Пел Гаркуша вдохновенно, страстно и знал бесчисленное множество песен. Песни эти были то про море, про Одессу, про рыбаков и грузчиков, то про южные ночи и чернооких красавиц или беззаветно преданных, верных и безответных или коварных, изменчивых и ненадежных подруг все тех же рыбаков, моряков и грузчиков.
Словно завороженные сидели в вагоне солдаты. Над всеми властвовали негромкий голос Гаркуши и призывные переборы гитарных струн.
Алеша, разобиженный и возмущенный, вначале не смотрел на Гаркушу, машинально вслушиваясь в его пение. Многие песни и мелодии он слышал раньше. Многие были совсем не знакомы, но сейчас, повторяясь одна за другой, все они, и мечтательно-грустные и игриво-задорные, сливались в одно целое, создавая ощущение чего-то большого и светлого. От этого сладко щемило в груди и хотелось без конца сидеть, ничего не вспоминая, ни о чем не думая, ничего не делая. Но все оборвалось совсем неожиданно. Поезд остановился, по вагонам понеслись разноголосые команды:
– Собирай вещи! Выходи строиться! Быстрее! Не задерживаться!
Алеша кубарем скатился с нар, поспешно надел шинель, подпоясался, схватил тощий вещмешок и выпрыгнул из вагона. Поток военных, подхватив его, увлек к развалинам большого кирпичного здания. От него сохранился только угол стен первого и второго этажей, а все остальное грудой кирпича с торчащими балками и толстыми змеями проводов рухнуло вниз. В уцелевшей части виднелись пустые прямоугольники высоких окон и дверей, выбитым глазом темнела круглая коробка электрических часов с одной-единственной цифрой «восемь» и остановившейся на этой цифре искореженной стрелкой.
– Город Курск. Московский вокзал, – с протяжным вздохом сказал кто-то рядом. – Какой был красавец! Залюбуешься и глаз не оторвешь. А теперь…
– Война! – с таким же горестным вздохом ответил второй голос.
«Война», – мысленно повторил Алеша и впервые в жизни вздрогнул от этого страшного слова.
– Алеша! – подбегая к нему, прокричал Ашот. – Строиться пошли. Наши стоят все, только тебя нет.
Вся команда пополнения уже действительно выстроилась. К счастью, начальник команды о чем-то говорил с окружившими его старшинами и сержантами, и Алеша с Ашотом незаметно пристроились на самом левом фланге.
Вскоре раздалась команда «равняйсь», потом «смирно», «направо», и колонна по разбитой дороге двинулась в город. Справа и слева темнели развалины, валялись горелые и разбитые машины, круглились бесчисленные залитые водой воронки от снарядов и бомб. Солдаты шли молча, понуро рассматривая горестные остатки железнодорожной станции и поселка около него. Алеша думал, что за станцией развалины кончатся и начнется настоящий город. Но прошли уже с полкилометра, спустились по косогору к грязным водам реки, а следы страшного опустошения не исчезали. Прямо на вывернутых, искореженных рельсах свалился набок исклеванный пулями и осколками трамвайный вагон. Рядом с ним уткнулся радиатором в землю сгоревший грузовик. Еще дальше среди бесформенных груд разбитых домов дико и странно белели остовы русских печей с высоко поднятыми закопченными трубами. Переломившись надвое, рухнули в реку фермы большого железного моста.
Наконец город остался позади, и колонна остановилась в голой реденькой роще. Алеша пытливо осматривал строй, даже самому себе не признаваясь, что отыскивает Гаркушу. Но Гаркуши вблизи не было. Это так обрадовало Алешу, что он весело улыбнулся и шутливо толкнул Ашота в бок.
– Видал, куда завезли нас, аж в сам город Курск! – сказал он настороженно смотревшему Ашоту.
– Курск, Курск, – горячо отозвался Ашот. – Мой мама говорил: от нас в Москва едешь, Курск никак не проедешь. А теперь куда мы, куда, Алеша, а?
– Ну куда, – замялся Алеша, – в подразделения, наверно, в роты, в батальоны.
Разговор прервала звонкая команда «смирно». Строй замер, и тот же звонкий голос скомандовал:
– Радисты, четыре шага вперед!
В разных местах от строя отделились несколько солдат и под командой старшины ушли в глубину леса. Вслед за радистами туда же отправились телефонисты, потом шоферы, артиллеристы, саперы, минометчики, бронебойщики. С каждой новой командой строй все редел и редел, тая на глазах оставшихся солдат.
– Станковые пулеметчики, четыре шага вперед! – прокричал, наконец, начальник команды. Алеша, не чувствуя своего тела, торопливо вышел из реденького строя. Он слышал, как левее прошагал Ашот, а взглянув вправо, увидел навсегда запомнившуюся ему коренастую фигуру Гаркуши.
«Неужели вместе будем?» – подумал он и не расслышал новой команды.
IX
Распределив пополнение по ротам, капитан Бондарь вернулся на свою квартиру. Не успел он снять шинель, как, во весь мах распахнув дверь и почти всю ее загородив собою, в избу ввалилась женщина могучего сложения с сержантскими погонами на добротной, ладно подогнанной шинели. Она по-хозяйски осмотрела комнату, не по комплекции легко шагнула и остановилась перед удивленным Бондарем.
– Товарищ капитан, – по-военному четко, приложив руку к ушанке, заговорила она низким, грудным голосом, – санинструктор Степовых и санитарка Федько прибыли в ваше распоряжение!
– Очень хорошо. Здравствуйте! – сказал Бондарь и, не зная, что делать дальше, спросил: – А где же санитарка?
– Вот она! – отступила в сторону Степовых, и Бондарь увидел невысокую девушку лет восемнадцати, с бледным лицом и настороженными, смотревшими прямо на него васильковыми глазами.
«Сама Степовых любого раненого вытащит. А эта Федько, она-то как же?» – подумал Бондарь и совсем не по-командирски предложил:
– Садитесь, пожалуйста.
– Спасибо, – с достоинством ответила Степовых. – Садись, Валя.
«Фу, черт, о чем же говорить с ними? – думал Бондарь. – Всеми командовал, только не женщинами».
– Ух, и умаялись мы, пока добирались! – вытирая лицо белоснежным платочком, сказала Степовых. – И на машинах, и на подводах, и пешком. А грязища кругом – не пролезешь.
– А вы издалека?
– Аж с самого батюшки Урала, из города Свердловска. Целый эшелон нас, медработников. До Курска-то хорошо, поездом, в теплушках, как дома. А вот из Курска кто как знает по своим по частям добирались.
Санинструктор смолкла, и Бондарь, опять не зная, о чем говорить, опустил глаза и, может быть, долго просидел бы, но инстинкт подсказал ему нужный вопрос.
– Простите, – сказал он точно так, как говорят не командиры с подчиненными, а обыкновенные мужчины при знакомстве с женщиной, – а как ваше имя и отчество?
– Я Марфа, Марфа Петровна. А она Валя. Валентина Матвеевна.
– Ну, что ж, Марфа Петровна, вам с дороги отдохнуть нужно. Идите в соседний дом справа, располагайтесь там и отдыхайте.
– Есть идти в соседний дом справа, располагаться и отдыхать! – удивляя Бондаря своими чисто военными приемами, отчеканила Марфа.
– Ох, и пойдет теперь кутерьма! – проводив Марфу и Валю, проговорил Бондарь. – И зачем только женщин в армию берут?
* * *
– Ну, вот, Валька, и добрались мы до самого фронта, – говорила Марфа, пристально осматривая крохотную комнатенку. – И крыша над головой и кровать, видишь, хоть и плохонькая. Не то что шинель подстелила, шинелью оделась, шинель под голову подложила.
После долгого пути с бесконечными пересадками и голосовками на перекрестках дорог Валя не чувствовала усталости. Там, в дороге, она еле держалась на ногах. Теперь же чувствовала себя удивительно бодро, весело и только немножко тревожно. До фронта остался всего какой-то десяток километров. Впереди бои, новая, совсем неизвестная жизнь с трудностями, лишениями, опасностями. Тревожно ей было и потому, что там, позади, в Москве, осталась мама, подруги и все-все, что окружало ее с детских лет и до того недавнего дня, когда она в шинели, с вещевым мешком в руках стояла на платформе Ярославского вокзала. Словом, она была в состоянии человека, завершившего один этап своей жизни и уже шагнувшего, но еще не вошедшего в этап другой. Валя совсем не думала об этом. Она сбросила шинель, ушанку, расчесала коротко подстриженные волосы и, оправив гимнастерку, присела к окну. На улице едва заметно голубели прозрачные сумерки. Тонкие ветки голых вишен нежно клонились к еще не оттаявшей земле. Но розоватые почки деревьев уже набухли, и у самых стволов внизу упрямо иглилась удивительно зеленая травка.
– Любуешься? – обняв девушку, спросила Марфа.
– Да, – протяжно вздохнула Валя. – Весна…
– Весна! – с таким же вздохом проговорила Марфа. – Весна! – совсем другим голосом, сурово и тревожно, повторила она. – Что принесет нам эта весна? Второй раз встречаю я весну на фронте и второй раз жду чего-то необыкновенного. И на воине, как нигде, больше всего человек о своей жизни думает. В самые страшные моменты так жить хочется, что все бы отдала, лишь бы не погибнуть, а жить.
Марфа смолкла. В неярких отсветах уходившего дня лицо ее стало необычайно мягким, мечтательным и немного грустным. По-мужски большие, сильные руки ее нежно перебирали Валины пальцы. Пепельные, словно подернутые сединой волосы упали на высокий лоб, и от этого лицо Марфы стало еще мягче и нежнее.
– Ты, Валюша, молода, только вступаешь в жизнь, – начала она материнским, но строгим тоном. – Скажу тебе только одно: не забывай, что ты девушка и что ты пошла на святое дело, на войну! Нас с тобой никто не приневоливал. Мы добровольно пошли не юбками крутить, а воевать! Воевать! Слышишь? Что греха таить: немало дурех, которые в армию за женихами ринулись. Конечно, каждой женщине свое счастье найти хочется. Только искать-то нужно его не так, как некоторые финтифлюшки. Не гоняться за чинами, а дело свое делать, спасать жизнь людей наших. И знаешь, Валюша, – вдруг снова мягко и нежно продолжала она, – какое это счастье, когда ты чувствуешь, что сделала большое дело и что ты чиста перед всеми! Перевязываешь раненого, а он так смотрит на тебя, словно всю душу свою передать тебе хочет. Да разве такой взгляд, разве такую душевность можно променять на сюсюканье любителей женских юбок! А любовь, любовь и на фронте может быть, и даже сильнее, чем где– либо, но только любовь чистая, без грязи. Вот в этом-то и главное. Понимаешь, Валюша?
– Понимаю, – прошептала Валя и прижалась к могучей груди Марфы.
* * *
Вторая пулеметная рота передала свои позиции соседям и вместе с батальоном вышла в резерв на формирование. После восьми месяцев окопной жизни маленькая полуразбитая деревушка в окружении чахлых кустарников и кочкастых лугов показалась старшему сержанту Козыреву настоящим раем на земле. Словно впервые увидев белый свет, он с наслаждением ходил по кривым улочкам, смотрел на придавленные соломенными крышами крохотные домики и жадно вдыхал приправленный дымком сельский воздух. Разморенный привольем и тишиной, Козырев собрался было до обеда прилечь в хате, но прибежал связной и вызвал его к ротному командиру.
– Лейтенант Дробышев в штабе полка дежурит, – явно недовольный чем-то, хмурясь, сказал Чернояров. – Вот, пополнение принимайте, – кивнул он в сторону троих солдат, стоявших около дома. – Укомплектовывайте расчет Чалого. Наводчиком будет вот он, Гаркуша, помощником – Тамаев, а подносчиком патронов – Карапетян.
Когда Козырев, а вслед за ним Гаркуша, Алеша и Ашот вошли в сумрачную избу, с подслеповатыми, наполовину забитыми фанерой окнами, Чалый, сидя на застланном соломой полу, возился с тремя малышами. У зевластой печи, подложив под щеку исхудалую руку, стояла хозяйка дома.
Увидев Козырева, Чалый поспешно встал.
– Дядя Боря, куда же вы? – прокричал с пола самый старший из детей, чумазый мальчик лет восьми.
– Куда зе, куда? – залепетала девочка поменьше. А самый младший, карапуз лет четырех в одной коротенькой рубашонке, обхватил голыми ручонками сапог Чалого и со всей силой тянул к себе.
– По отцу истосковались, – горестно вздохнула хозяйка.
– На фронте? – глядя на ее бледное, исхудалое лицо, спросил Козырев.
– Известно где, там, – безразлично проговорила хозяйка и, вдруг просияв, оживленно продолжала: – Третьего дни письмо получили, первое за всю войну. Я уж и не чаяла о живом-то о нем услышать. Только во сне почти кажну ночь видела. Гадать ходила. Бабка тут одна у нас, хорошо ворожит. Раскинет карты. «Цел твой Микола, – говорит, – болезни переносит, но живехонек. Ты жди, – говорит, – его, Федосья, не сумлевайся». А как не сумлеваться? Она, бабка-то, почитай, всем нам, солдаткам, говорила одно и то же, обнадеживала, видать, чтоб не отчаивались мы.
Федосья смолкла, вытерла кончиком платка слезы и, озарясь мечтательной улыбкой, сказала:
– А мне-то бабка правду на картах напророчила. Жив Микола мой. Ранен два раза, в госпитале лечился, орден ему дали. А теперь опять воюет под Ленинградом гдей-то.
И печальный и радостный рассказ хозяйки взволновал всех. Присев к столу, Козырев упрямо склонил крупную голову. Чалый прижал к себе притихших детей и, раскачиваясь, молча убаюкивал их. Ашот нетерпеливо переминался с ноги на ногу, вздыхал приглушенно, закрывая рот ладонью, покашливал и, словно боясь взглянуть на хозяйку, все время смотрел на выбитый земляной пол. Даже неугомонный Гаркуша примолк и стоял, не шевелясь, будто пристыл к покосившейся дверной притолоке.
– А вы как же тут жили, при немцах-то? – не поднимая головы, хрипло спросил Козырев.
– Какой там жили! – махнула рукой Федосья. – В погребе скрывались, а летом в бурьянах, на огороде. Тут, в избе-то, немцы хозяйничали. Одни уйдут, другие приходят. Как тот год, так и этот. Вот уж нынче зимой корову порешили. Берегла я ее, в яме за огородом прятала. Разнюхали, проклятые, враз раскромсали, бедняжку… И остались мы ни с чем. Слава богу, хоть удалось малость картошки припрятать да свеклы штук с полсотни сберегла. Вот и кормились одной картошкой, а со свеклой чай пили заместо сахару, вприкуску. Беда, да и только: ни скота не осталось, ни кур.
– Будут, будут и скот и куры! – гневно сказал Козырев. – Все у нас будет. А с ними, с паразитами, мы сполна поквитаемся! Вот! – повернул он к Алеше и Ашоту багровое лицо с черным шрамом на подбородке, – Вот за что мы воюем, за что ни крови, ни жизни своей не щадим! За жизнь людей наших, за то, чтоб не измывались фашисты над ними, чтоб жили они свободно…