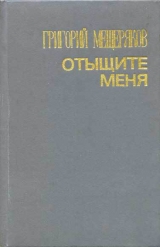
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Да как вы там-то без меня?
– Все как надо… – слышала она в ответ.
Врач сказал Фаткулу, что лечить ее болезнь трудно, возможно, сделают операцию или спишут на инвалидность. Неужели мачеха останется калекой на всю жизнь?
В письмах к отцу о болезни мачехи не было ни слова, ни намека. Писала она уже корявыми буквами, подложив под бумагу картонку от какой-то книжной обложки. Фаткул делал свои дописки и отправлял письма на фронт.
Месяц проскочил в заботах и беспокойствах, пошел второй. В дом зачастили комиссии и проверки из школы, сельсовета, с кирпичного завода. Они осматривали комнату, оценивали житье-бытье, много расспрашивали и уходили.
Передачи принимать мачеха отказывалась, как Фаткул ни уговаривал и ни просил ее. Порой она даже сердилась. Принесут ей кое-что в узелке, а она разволнуется, и красные пятна на шее выступят. Зря она так, ведь карточки отоваривали хорошо, выдавали и крупу, и сахар, иногда даже пряники. Однажды она сама передала в платочке печенье, что принесли ей от профсоюза с кирпичного завода. Сказала, что для Вовчика. Фаткул не хотел было брать и тогда впервые увидел ее совсем злой и недоброй. Он испугался и взял. Мачеха обрадовалась, переменилась в лице, повеселела. Попросила наклониться и поцеловала Фаткула. Так каждый день сидели они с Вовчиком у постели мачехи. Она смотрела на них, они смотрели на измученное ее лицо и слушали ее тихий голос. В последний приход мачеха заглянула прямо в глаза Фаткулу и тяжко выговорила:
– Фаткул, вас хотят в детдом поместить…
Ему бы осторожно ей сказать, что они с Вовчиком никуда не собираются отсюда уезжать и одну мачеху не оставят, но язык не повернулся.
– На временное жительство… Вдруг, поди, мне операцию сделают… А когда поправлюсь, назад вас возьму.
Видать, уже с кем-то порешили про детдом, уговорили мачеху, и она дала согласие.
– Не навсегда же, сынок, ненадолго, думаю. Там все же лучше вам будет. Как-никак, а постоянный пригляд и забота…
Чего больше боялся Фаткул, то и случилось.
– Прошу тебя, сынок, ты уж очень не упирайся и не дури, пожалуйста… – словно виноватая в чем-то, упрашивает она.
Если бы мачеха была здорова, то Фаткул так раскричался бы, что всю палату бы поднял на ноги.
– …Ты уж Вовчика никому в обиду не давай… И себя побереги… Оба вы теперь у меня как бы сироты, – говорит мачеха, и слезы стекают у самого ее уха, оставляя на подушке темные пятнышки.
Детдом, известное дело, в Богуруслане, и когда их отправят, мачеха не знает. Но через неделю Фаткула с Вовчиком уже везли по зимней дороге в Богуруслан на широких санях с сеном, закутав в тулупы, словно младенцев. Сборы были коротки. В доме оставили все как было, закрыли ставни и повесили на дверях амбарный замок. Путь до города неблизкий, скрипели полозья, болтались и бились по бокам вожжи. Фыркала лошадка, круп ее от испарины покрылся инеем. Где-то за снегами и белыми полями детдом. Какой будет там новая жизнь? Когда еще они возвратятся в родное Полюгино к родной мачехе?
5
Последнее письмо мачехи немного обнадеживало. Операцию ей никакую не сделали, но она уже могла вставать с постели. Правда, ходить пока не разрешили. Скоро, наверное, она приедет за сыновьями в детдом, и тогда кончится эта затянувшаяся зима в Богуруслане. Фаткул уже устал каждый день торчать в холодной и зябкой уборной.
Пацаны вбегали и убегали, на ходу застегивая штаны непослушными пальцами. Только что пришел и Вовчик, вытирая ладошкою нос. Вдруг кто-то пискнул в щелку:
– Шухер! Карлуша!
Фаткул не успел спохватиться, как из-за перегородки вылетела разъяренная Варвара Корниловна. Синие навыкате глаза уставились неподвижно и слепо, как у совы.
– Курите, мерзавцы!
– Нет.
Действительно, никто не курил. Спичек на этот раз у Фаткула не было, он давно не видел Демку. Она хваталась за карманы и с остервенением их выворачивала. Но, к своему огорчению, не нашла ни одной папироски или спички. Ощупала и обыскала Вовчика. Вдруг неожиданно потребовала:
– Покажи, Фаткул, что у тебя в руке?
– Хлебушек.
– Немедленно отдай мне.
– Это мой кровный…
Но она цепко схватила руку, сильно, до боли, сжала кисть. Выхватила помятый, изломанный кусок и, обезумевшая от гнева, выдохнула:
– Сволочи! Маленькие твари!
Никто опомниться не успел, как она с силой швырнула остаток пайки в круглое отверстие и стала стряхивать с ладони прилипшие крошки.
Можно бросить в уборную все, что угодно, но только не хлебушек, такое в голове Фаткула не укладывается. Любое бы, самое большое наказание он легче бы сейчас перенес, чем то, что увидел. Быстрее слез вырвались слова:
– Сама сволочь, сама тварь! Ведь это же хлебушек!! Даже не мой, а Вовчика! У, стерва, Карлуша!
Фаткулу хотелось кричать еще обидней, броситься на нее с кулаками, бить с силой по глазам, носу, лицу. Она испугалась, опешила, потом схватила Вовчика за шиворот и, не глядя на Фаткула, с трудом выдавила:
– Разговор с тобой будет особый, негодяй!
Быстро поволокла Вовчика к корпусу, тот и оглянуться не успел. Пацаны сразу разбежались, Фаткул остался в уборной один.
– Дурак ты, татарин, – сказал равнодушно Чибис, когда узнал. – Нашел тоже из-за чего кочевряжиться.
– Пошел ты, оглоед, подальше!
Вечером в столовой дежурная девчонка с повязкой на рукаве громко кричала:
– Кто в этой смене Фаткул Иванов?
Ей показали, она подошла к столу, забрала миску и пайку:
– Ты, Иванов, наказан, лишен ужина.
– Ну и наплевать с трехэтажной башни! – пробурчал Фаткул. Если бы знал раньше, то украл бы пайку с кашей и успел бы съесть под столом.
На следующий день Вовчик не пришел. Фаткул прождал его в уборной попусту. Да и нечего теперь было носить, на всю неделю его лишили хлебушка, а суп с кашей за пазухой или в кармане не вынесешь. Вовчик не появлялся и никак не давал о себе знать. Фаткул подолгу ходил вокруг корпуса дошколят, заглядывал в окна, дергал двери, но они были закрыты изнутри, точно от разбойников.
Пока Фаткула никуда не вызывали. Он был согласен на любую кару, лишь бы с братом свиданку разрешили. Может, пойти к Октябрине? Она другой человек, сама в детдоме жила и выросла. Директора Октябрину Осиповну все уважали, хотя тоже боялись. Но она часто болела и в те дни опять лежала в больнице. Пожаловаться некому, вся надежда на самого себя. Фаткул пробовал негромко звать брата, прильнул губами к дверной щели:
– Вова Иванов!.. Вова Иванов!.. Вова Иванов!
Никто, конечно, не откликался, потому что за входной дверью коридоры, которые могли быть также заперты. Однажды все же откликнулся чей-то детский голос:
– Тебе что?
– Вова Иванов с тобой в одной группе?
– Да…
– Позови его.
– Нельзя.
– Почему? Где он? Позови!
– Вова Иванов наказан, его перевели на второй этаж…
Туда совсем не попасть, вход туда отдельный. Найти бы топор, разрубить бы все двери на мелкие щепки, чтоб некуда и не на что было замки врезать и вешать. Может, отмычки у Чибиса попросить? Или самому сделать, – да старик Демка запропастился где-то, наверное, опять деньгу подшибает, кому-нибудь в квартире газ проводит, а то спичками на базаре торгует. Сегодня Фаткула опять лишили ужина. Карлуша человек злопамятный, от своего не отступится, и сейчас там, в столовой, какой-то «шакал» вылизывает из миски законную кашу Фаткула.
После ужина отрядная воспитательница отыскала Фаткула в пионерской. Сказала, что его ждет Варвара Корниловна…
Кабинет детдомовского завуча преогромный, похожий на дворцовый зал. Миниатюрные скульптурные бюсты застыли на длинных подставках, вокруг расставлены глубокие мягкие кожаные кресла и два дивана. Столы плотно обтянуты зеленым сукном, хоть катай на них бильярдные шары. Вдоль стенок вытянулись застекленные шкафы с книгами, журналами и ребячьими поделками. Во весь пол разлегся цветастый ковер. Прямо над письменным столом угловатыми толстыми сучками торчат уродливые оленьи рога, а на столе лежит широкая из красного дерева метровая линейка. Здесь так высоко потолкам и просторно стенам, что, попадая сюда, вроде бы даже меньше ростом становишься. Варвара Корниловна потушила папиросу, встала, подошла к краю стола. Взяла линейку и заворковала своим охрипшим голосом. Подозвала к себе.
Нет, просить прощения даже пыткой не заставит!
Полусумрачно горит дежурный свет, укрываясь в складках темных портьер. В длинном коридоре ни души, не видно ночных нянь на лестничных площадках и в узких проходах. Фаткул вытер слезы со щек ладошкой. Не хотелось плакать, но они сами собой катились, и остановить их было невозможно. Очень жгло плечи, живот, руки, спину. Все тело горело, словно только что выкарабкался из огня. Гибкая линейка в руках Карлуши всюду поспевала, но без единого удара по лицу или голове. Мстительная Карлуша била плашмя и звонко, стараясь попасть побольнее.
В ушах стоит ее хриплый полушепот:
– Теперь ты осознал, хулиган, свой проступок?
Сказать «да» – значит соврать, и тогда спасешься от боли.
– Теперь ты понял, дармоед, свою провинность?
Сказать «нет» – значит сказать в глаза правду, и тогда будет еще больнее…
– Здесь я тебе и мать и судья, жаловаться тебе некому! – рычала она.
Врет бессовестно. Да ни за что на свете не бывать Карлуше матерью. Жизнь правильно ее наказала, прожила до старости одна, такой до гроба и останется. Если бы разыскать Октябрину и все без утайки ей рассказать, то она в обиду не даст. Октябрина тоже пожилая, но справедливая. До директорства работала пионервожатой. Она ходит вся подтянутая, с короткой стрижкой, как у первых комсомолок. По праздникам Октябрина со всеми вместе веселилась и даже в горн трубила, ловко на барабане марш отстукивала. Моложе всех душой, но почему-то чаще других болеет, а вот Карлушу никакая холера не берет. Октябрина по делам детдома все куда-то ездит и что-нибудь достает. Не очень-то просто ее застать, потому-то всем в детдоме и заправляет Карлуша.
Конечно же, Октябрина должна помнить Фаткула. Месяца полтора назад в оттепель средние отряды ездили вместе с ней за металлоломом по старой узкоколейной ветке. Собирали его у заброшенных нефтевышек и вдоль железной дороги. Поехали с утра, сидели на открытой платформе, впереди тарахтела и стучала закопченная дрезина. Все дружно пели пионерские песни, запевала громче всех Октябрина.
…Веселый ветер,
Веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал…
Фаткул лишь шевелил губами, слов ни одной песни до конца не знал. Металл грузили на платформу, прихватывали все, что под руки попадется, мальчишки старались притащить потяжелее.
– Фаткул, бери полегче, надорвешься! – кричала Октябрина.
Память у нее отменная, только один раз разговаривала с ним, когда в детдом принимала и документы читала, а не забыла с тех пор. Назад дрезина с металлом бежала не так резво, тяжело тащила нагруженную платформу, словно слабосильная лошадка большой воз. Возвращались усталые, пели вяло, дружно никак не получалось. Когда подъезжали к Богуруслану, Октябрина громко сказала притихшим ребятам:
– Молодцы, на полную артиллерийскую батарею металла собрали!
Какая она есть, батарея, Фаткулу неизвестно, но Октябрине виднее.
Вечером на линейке зачитали благодарность и всем выдали по дополнительной пайке хлебушка.
Когда в детдоме проводили газ, Октябрина следила за прокладкой труб. Торфу на столько корпусов не напасешься, не просто обогреть такую ораву в каждом помещении. К весне торф кончался, дороги становились непроезжими. Пацаны из старших групп копали для газовых труб глубокие ямы. Фаткул помогал старику Демке загибать трубы, потом соединять и крепить муфты да манжеты болтами, гайками и шайбами. Несколько раз с Демкой ездили в кузницу. Там мастерили с кузнецом горелки. На наковальне расплющивали добела раскаленные трубы диаметром пять и десять сантиметров. Фаткул держал длинными щипцами короткую пустотелую железку, а Демка с кузнецом стучали молотками, и за двадцать минут готова горелка с узкой щелью. Остудят и принимаются делать насадку. Сначала приспособили горелки на кухне к котлам, потом в прачечной и, наконец, установили в дверцах ко всем печам в корпусах. Заусеницы убирал и делал зачистку Фаткул, орудуя рашпилем да плоским наждачным кругом.
– Мастеровой ты парень, мастеровой, – похвалил тогда Демка. С тех пор и брал Фаткула в свою, как он говорил, «строительно-ремонтную бригаду». Платил коробком спичек, изредка добрым словом.
У Фаткула душа радовалась смотреть на свою работу. Поставил горелку, укрепил винт, повернул рукоятку, поднес спичку, и пламя зашипело желто-синей щеточкой. Греть будет что надо, целый век, пока металл не сгорит или печка не развалится. Провели они с Демкой газ и во флигелек, что стоял поодаль от корпусов, ближе к каменному забору. В одной половине жила Октябрина с дочерью, в другой Варвара Корниловна. Все знали, что завуч весь свой век прожила одна. Ни мужа, ни семьи у нее не было, никто ей никогда писем не писал, и в гости к ней тоже никто не приходил.
– Куркулиха она, потому и одинока, – говорил Фаткулу старик Демка. – А злая оттого, что и хочется ей, и колется, и мамка не велит.
– Какая у нее мамка, она сама старая…
– Это по твоим недоразвитым понятиям старая, а по моим – еще в соку, ей всего-ничего, за сорок годков. – Демка хитро засмеялся. – Я как-то к ней однажды вечерком подкатился, так ведь испугалась, отшила. Я, говорит, Демкин, всю себя детскому дому отдала. Дескать, вы для нее родная семья. Плюнул я на это дело, нынче сотни баб без мужиков страдают, молоденькие сами липнут, а они куда буде слаще ее, хотя и ее я хотел попробовать, да вот не вышло, а мне и горя мало…
Демка всегда говорил про женщин и про какие-то свои глупости, слушать его было порой неловко. А разоткровенничается про свои похождения, так возносится петухом, прикидывается помоложе…
Завуч сама подошла к ним после пробы второй горелки в прачечной.
– Демкин, – сказала она сухо, не просила, а приказала, – ты на той неделе поставь-ка нам за день с Октябриной Осиповной газ. Горелки позаботьтесь сделать поаккуратней.
Постарались, в каждой кухонке поставили по две, как игрушечки, горелки. Одну вывели в дверцу голландки, другую под таганок на плите. Демка, видать, получил от нее свою милостыньку, красненький или зелененький «хрустик».
– Слышь, татарин, – смеялся подвыпивший Демка, – Варвара-то Корнилавна по макушку довольнехонька. Зажжет горелку и не гасит. Сидит рядом и дымит, как паровоз, весь вечер курит и от горелки прикуривает. У нее эта горелка ровно живая кошка в доме, из воздуха появляется и мурлычет усатым огоньком… Как войдет в дом, так эту самую свою кошку чирк и оживит. Все, глядишь, не одна по избенке слоняется, а вроде бы в компании с живым огоньком и папироской…
Карлуша вела с куревом в детдоме беспощадную борьбу, может, потому тайно курила только у себя в квартире. Об этом ходили только одни слухи, но никто из ребят не видел своими глазами.
Октябрина не курила, но самодельным горелкам тоже нарадоваться не могла. Примус и керосинку тут же запрятала на полати. По случаю этому позвала Фаткула с Демкой, сварила картошки с мясом, дала чесноку и хорошо накормила работников. Напоила густым сладким чаем, больше Демке ничего не отломилось. Дочери Октябрины дома не было. Она училась в медучилище, мало кто на территории детдома ее встречал. Говорили, что она допоздна пропадает то на занятиях, то в госпиталях на дежурстве у раненых. После окончания учебы она собиралась на фронт.
Нет другого пути у Фаткула, как только к Октябрине идти. Она обязательно должна узнать, что вытворяет с ним завуч. Лишь директор может выпустить на волю из Карлушиной тюрьмы Вовчика. Фаткулу казалось, что не видел он Вовчика чуть не целую вечность, даже лицо его стало забываться. Три раза Вовчик приходил во сне, протягивал руку со своей пайкой хлебушка, и они вместе плакали. Утром Фаткул узнал, что Октябрина уехала в Оренбург и вернется не раньше чем через неделю или еще дольше там задержится. Он бродил во дворе, всматривался днем в окна малышового корпуса, но все безуспешно. К вечеру, когда зажигали свет, стекла затягивало морозом, и ничего за ними разглядеть было невозможно.
Как-то днем Фаткул взглядом поймал Вовчнка в окне. Тот, наверное, и сам много раз стоял у окна и ждал появления брата, но угадать время не мог. А может, его просто не пускали на первый этаж? Вовчик выглядел похудевшим и изменившимся, глаза запали, взгляд совсем какой-то не детский, лицо бледное, как у больного. Фаткул разглядывал его, словно впервые встретился с ним, и подмечал любую мелочь в облике малыша. Вовчик прижался лицом к стеклу и молчал. А Фаткул шевелил губами, кричал через окно и жестикулировал, маячил пальцами, как глухонемой. Но Вовчик ничего не слышал и не понимал, кивал лишь головой и с чем-то соглашался. Кое-как они поняли друг друга и теперь уже виделись изо дня в день у этого окна, смотрели друг на друга и кивали, как будто о чем-то договаривались. Каждый раз Фаткулу хотелось зареветь, но приходилось сдерживаться, потому что если только начнешь, то неизвестно, сумеешь ли остановиться потом.
– Чибис, дай мне твоей отмычки.
– Начто?
– Дело одно есть.
– Когда вернешь?
– Вечером.
– Гони ужин, – говорит Чибис и передает отмычки, где в связке семь заточенных с причудами гвоздиков. Входной внутренний замок Фаткул так и не сумел открыть, сноровки не было, да и спешка мешала. Вечером в столовой передвинул ужин Чибису, вернул отмычки, незаметно вышел и направился по коридору к кабинету завуча. От волнения руки вспотели, во рту пересохло. Два раза робко стукнул пальцем в дверь, открыл и вошел. Карлуша сидела за столом и что-то писала. Подняла взгляд и грозно сказала:
– Почему без разрешения?
– Варвара Корниловна, дайте, пожалуйста, повстречаться с родным братом, дайте, пожалуйста…
– Больше ты ничего не хочешь?
– Нет!
– Выйди вон!
– Если вы не дадите, я детдом спалю…
Она вскочила и бросилась закрывать входную дверь на ключ…
«Дорогая тетя Нина и Нина Леонтьевна! Самая дорогая мама и родная мачеха! Я очень прошу тебя, чтобы ты забрала нас с родным братом Владимиром из детдома как можно побыстрей. Если ты не успеешь, то меня могут отсюда перевести куда-нибудь далеко или даже отправить в детскую исправительную колонию, потому что я здесь не слушаюсь и нарушаю дисциплину. Про детдом нам все говорили, что будет хорошо и жаловаться будто не на что, а нам с родным братом Владимиром даже очень плохо. Я тебе уже писал, что вшей у нас нет и одевают не по-деревенски, а очень даже хорошо и во все фабричное. По праздникам и при комиссиях выдают новые шерстяные костюмы и ковбойки в клетку. Меня и брата Владимира подстригли наголо, как всех до одного. Родной брат Владимир живет в своем младшем дошкольном отряде. Он целыми днями сидит в своей группе и не выходит на волю, а я, как ты велела, продолжаю учиться. Школа наша от детдома далеко, на другом краю города, и я уже замаялся туда ходить, потому что болят ноги. Валенок мне не выдавали, только одни вязаные носки и галоши, я их подвязываю тряпичными завязками, чтобы не спадали, а те, в которых приехал сюда, отобрали и сдали в кастелянскую, потому что в домашнем ходить не положено. Кожаные ботинки со шнурками выдают только по праздникам и перед проверками. Я обморозил ноги, и на ступне у меня вздулись волдыри, потому мне и больно далеко ходить. В медицинском изоляторе мне сказали, что это я специально себя калечу, чтобы не ходить в школу, хотя я разувался и показывал им гной на ногах. Это они от злости на меня наговаривали, но все же помазали ихтиоловой мазью. Некоторые тут почти такие, как цепные собаки. Их так приучила тутошняя завуч, а ее даже вспоминать страшно. Я учусь только на отлично и хорошо, и все воспитанники здесь так учатся, потому что за плохие отметки лишают еды. Кормят нас три раза в день, но очень помалу, и я всегда хочу есть. Брат Владимир тоже все время голодный, об этом я тебе не писал, потому что письма проверяет сама завуч. Это письмо я пишу тайком и пошлю тебе или доплатным „треугольником“ или попрошу тетеньку на почте дать мне бесплатно конверт. Родного брата Владимира я раньше видел каждый день, теперь встречаться нам запретила завуч, так как я немного его подкармливал от голода, а она этого не терпит и запрещает. Она тут выше любого судьи и палача и к тому же очень злая. Уже два раза сильно меня побила за то, что я желаю видеться со своим братом.
Ты не бойся забирать нас отсюда, не думай, что в нынешнее трудное время мы не сможем управиться у себя в доме своими силенками. Я тебе докажу, что сможем, так как я пойду работать в совхоз или МТС, буду приносить тебе паек и деньги, тебя совсем-совсем вылечим и окончательно поставим на ноги, сумеем прокормить и одеть брата Владимира. Дорогая мачеха, если ты того желаешь, то всю жизнь буду называть тебя мамой, только приезжай поскорее или попроси кого-нибудь из полюгинских, чтобы нас забрали и увезли к тебе. Очень-очень умоляю тебя по своей просьбе, а то я в самом деле и в скором времени совсем не выдержу и напишу письмо папке на фронт или могу чего-нибудь натворить еще хуже.
Жду ответа, как соловей лета.
Твой родной сын Фаткул».
6
Подвода стояла в переулке за углом детдома. Фыркала на привязи у столба лошадь. Широкие и низкие сани завалены сеном, овчиной и огромным тулупом. Мачеха шла медленно, еле отрывая подошвы и переставляя ноги. Теплая пуховая шаль почти скрывала ее лицо. С одной стороны поддерживал ее за локоть Фаткул, с другой мачеха держала руку Вовчика. Она приехала с новым директором Полюгинской школы, который сильно припадал на левую ногу, видимо, недавно выписался из госпиталя. Сейчас он неумело кормил овсом лошадь, неловко подворачивая край мешка. Лошадка на вид справная, бежать назад будет прытко. Вовчик одет в новое детдомовское пальтишко и шапку-ушанку, на ногах прежние домашние валенки. Он смотрит по сторонам, ворочает глазами, словно впервые видит городские улицы. В тряпичном узелке у мачехи бумаги, которые ей и директору школы выдали в детдоме. Голос у мачехи тихий, доходит до слуха Фаткула, как далекое эхо:
– Ты ведь, Фаткул, уже большенький и правильно рассудишь. Работать тебе, сынок, успеется, еще досыта наработаешься, а учебу бросать нельзя, допустить я этого не могу, и совесть моя не позволит, потому как и отцу пообещала. Вовчик, видишь, совсем слабенький и беззащитный; поэтому и беру, как-нибудь перебьемся с ним на мое инвалидское и отцово пособие. Здоровье поправится, станет полегче жить, ты учебный год окончишь, так сразу возьму тебя домой, или на каникулы приедешь. Только, Христом богом прошу, перетерпи это нелегкое время, слушайся, пожалуйста, и не связывайся зазря. Завуч ваша на вид образованная, ты уж постарайся поладить с ней. Как же иначе-то жить?
Еще много было от мачехи разных наставлений, но ни одного Фаткул душой не принял. Она догадывается, успокаивает его, долго целует и гладит плечо. Вовчик молчит и смотрит, не слушая и не понимая разговора.
Мачеха достала три лепешки из лебеды, кусочек желтого жмыха и две печенинки, сунула в карман Фаткулу и с трудом забралась в сани, закуталась с Вовчиком в тулуп. Полюгинский директор попрощался с Фаткулом за руку, подоткнул вокруг мачехи и Вовчика овчину, сел на козлы и тронул кнутом пегого мерина. Сани заскрипели и медленно развернулись. До слез хотелось попроситься хоть на краешек, лишь бы взяли, но Фаткул сдержался. Лошадка побежала трусцой, будто просто подпрыгивала лениво на одном месте, но сани удалялись и увозили Вовчика с мачехой. Хоть беги сейчас за ними вдогонку, припусти изо всех сил, да ноги не слушаются.
После отъезда брата как в полусне проплывали дни за днями. Тоскливо и до боли одиноко. Ребят в детдоме кишмя кишит, а рядом никого нет. Глазастым истуканом стоит корпус малышей, и подходить к нему теперь неохота. В один из дней неожиданно нагрянула важная комиссия из трех человек. Они узнали про письмо к мачехе, вот и решили проверить. Позвали Фаткула в кабинет завуча, задавали вопросы, долго разговаривали и расспрашивали его о жизни в детдоме. Особенно приветливой и дружелюбной была Варвара Корниловна. Нет, казалось, в этот момент рядом более благородного и честного человека, чем она.
– Ты ведь серьезный и взрослый пионер, Фаткул, – говорила вкрадчиво она и смотрела умиротворенными влажными глазами. – Государство тебя содержит, не считаясь ни с чем, заботится о тебе и твоем детстве, ты обеспечен не только всем необходимым, но даже сверх того, получаешь ни больше и ни меньше, а наравне со всеми воспитанниками, что тебе полагается. Никто из них, между прочим, не жалуется и не выдумывает нелепых наговоров, они хорошо усвоили, как много для них делают наше государство и правительство, и только благодарны за это…
– Я на государство и правительство не жалуюсь…
– Ну, как же? – и то тебе плохо, и это… Ты не воспитан и не умеешь элементарно вести себя в детском коллективе, который заменяет тебе родную семью. Мы думаем, ты образумишься и не будешь так несправедливо и ложно бросать направо и налево свои обвинения. Про себя я уже и не говорю – как ты мог меня так обидеть и наговорить столько несусветных небылиц?.. Но дело совсем не во мне, и потому я тебя прощаю, ты ведь сам в душе уверен, что все написанное тобой от первой строчки и до последней сущая неправда…
Веры, конечно, завучу в тыщу раз больше, чем любому воспитаннику. С отъездом Вовчика наступило полное безразличие ко всему происходящему вокруг. Ничего не хотелось добиваться, да и не нужно стало. Фаткула уговаривали и успокаивали всей комиссией. Видать, не считали его особенно виноватым и никакой исправительной колонией не грозили. Потом взяли с Фаткула обещание, что больше жаловаться он не будет, все в детдоме его устраивает, а написал, мол, мачехе несознательно, потому что был нездоров.
– Ты даешь слово? – спрашивает чей-то голос.
– Даю…
– Если ты его сдержишь, тебя никто никогда ругать не будет… Ты хорошо запомнил это?
– Да…
Но завуч попросила его под диктовку написать об этом письмо в Оренбург и поставить свою подпись. Сама чистый листок подложила и ручку с чернилами подала.
Поздно ночью, уже после комиссии, приехала Октябрина, и Фаткула подняли прямо с постели. Он понял, что неспроста, и быстро оделся. Полусонного нянечка отвела его к Октябрине домой. По дороге Фаткул сочинял и репетировал, что будет говорить директору о своем письме и комиссии. И если надо будет, то готов подписать еще какую-нибудь бумагу. У самой двери протер глаза слюной и вошел в комнату. Октябрина сидела у газовой горелки и смотрела в угол.
Она повернулась и подняла глаза. Бледное и болезненное лицо ее от слабого света выглядело зеленым и каким-то зернистым. Во взгляде боль, отчаяние, растерянность. В руках она держала знакомое Фаткулу письмо, которое он легко узнал, но все оно было в каких-то пометках цветными чернилами.
Октябрина заговорила нервно, прерывисто. Голос ее то срывался на последних словах, а то переходил на шепот и причитание.
– Да как же это так, Фаткул?! Что же это ты наделал-то? Неужели от страха проглотил свой паршивый язык? Когда надо соврать, обмануть, вокруг пальца обвести, вы все окрутить мастаки! Наблажите столько коробов, что лопатами не разгрести! А когда по правоте, так свою балаболку на клюшку? Трус, замухрышка, дурья голова!
Фаткул мало понимал, чем она так недовольна. Октябрина снизила голос:
– Запомни, башка, что никому на свете я не позволю терпеть издевательства! Почему людей сторонился? Отчего ко мне сразу не пришел? Я что для тебя, зверь лютый, акула зубастая? Отвечай, бедолага, почему мне не рассказал? Совесть-то у тебя есть или нет? И не прикидывайся несчастненьким! Тоже мне бедняжечка объявился, тоже мне вселенская сирота! Нюня ты, немтырь, тряпка, вот кто ты такой на самом деле!
Октябрина вдруг не выдержала и громко, навзрыд заплакала, захлебываясь и сморкаясь. Пересела за плиту, обхватила руками голову и замолчала. Казалось, что сейчас здесь отчитывают и ругают вовсе не Фаткула, а совсем кого-то другого.
– Господи, что происходит на свете? Господи милосердный, накажи меня за каждую боль, за каждую душу! Казни меня одну за каждое такое страдание… – Она не договорила и медленно повернулась к Фаткулу. – Прости меня, сынок… Как можешь, прости… Пусть тебе полегчает на сердце, Фаткул, только прости… – Она отвернулась и смотрела в строки письма невидящим взглядом.
– Ох тошно… муторно… невыносимо…
Октябрина замолкла и опять неподвижно сидела. Слышится ровный ход настольного будильника. Время тянется довольно долго. Фаткулу хочется утешить Октябрину, а не знает как. Ведь она ни в чем не виновата. Хлопнула входная дверь, и в кухню вошла ее дочь. Не раздеваясь, беспокойно посмотрела на мать, потом повернулась к Фаткулу и строго спросила:
– Ты что-то натворил?
– Не знаю…
– Тебя еще тут не хватало, – говорит Октябрина дочери, – Не придирайся к нему.
– Но, мама, на тебе же лица нет!
– Ступай спать, Фаткул.
– До свидания, Октябрина Осиповна…
Зря она так мучается, в письме ни слова, ни полслова нет против директора.
Утром по детдому быстро разошелся слух, что из-за сердечного приступа ночью Октябрину увезли в больницу, не велели никому навещать и беспокоить. Сиделкою в палате осталась ее дочь. К вечеру пришла весть, что Октябрине полегчало.
После ужина Фаткул сидел в учебной комнате. Все разбрелись кто куда. Неожиданно его разыскала дежурная по корпусу из шестого отряда и протянула запечатанный конверт.
– Это что?
– Письмо тебе, Иванов… – несмело говорит она.
– Откуда еще?
– Из Полюгина, мужик какой-то привез, тебя у ворот спрашивал и звал, но потом отдал мне, чтоб я лично тебе в руки передала. Очень просил лично в руки. – Она старалась говорить тихо и участливо, совсем не так, как иногда рявкают дежурные активистки, возомнившие себя начальниками.
– А кто видел?
– Никто не видел, кроме меня, – говорит девчонка.
– И Карлуши не было?
– Не было, – отвечает она и добавляет: – Я тебе по секрету принесла, раз полюгинскому мужику пообещала. Ты меня тоже не выдавай, Иванов…
– О чем разговор, валяй…
Письмо было длинное, почерк походил на учительский, прописные буквы и слова все ровные, наклон правильный, без завитушек и каракулей. Писала не мачеха. В самом конце четкая подпись – «твоя родная мама».
В письме сообщалось, что в Полюгино написал и прислал похоронную командир танкового батальона. Он сообщает, как геройски сражался и сгорел живьем в танке папка. Посмертно его представили к большой награде, может, к боевой медали или даже к ордену. Дальше в письме были призывы к послушанию. Забрать из детдома мачеха обещала только летом и не на каникулы, а насовсем. К тому времени будет назначена побольше пенсия на убитого папку.







