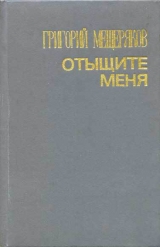
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Отец, как мог, успокаивал маленькую, хрупкую и беспокойную маму, наклонялся к ней и объяснял, как ребенку.
Мужчины в семье были все высокие ростом. Сыновья пошли в отца, даже младший Уно выделялся среди своих сверстников, и кто-то из них на улице даже обозвал его оглоблей. На школьной линейке Уно стеснялся, чувствовал себя неловко, сгибал колени и приседал.
Прошел ровно год без Хари, Арво и Георга. Однажды вечером отец возвратился с повесткой: он уходил в армию. Мама испуганно смотрела на него, слушала растерянно.
Отец стоял в дверях, наклонив голову, чтоб не задеть косяк. Мама ни разу не всплакнула, отец много и часто сморкался. Ночью мама собрала пузатый охотничий рюкзак. Все, что надо в дальний путь.
Свое первое письмо отец послал из Камышловских военных лагерей, что были между Ирбитом и Свердловском.
«Дорогая Клара! Не правда ли, странно, что мы теперь разговариваем с тобой не живым, человеческим, а бумажным языком? Вот пишу тебе первое в нашей с тобой жизни письмо. У меня такое ощущение, что начинается у нас с тобой вторая жизнь. Мы прошли с тобой больше двадцати лет, и ни разу нас не разделяло ни долгое время, ни большое расстояние. Я знаю, что это первое в моей жизни, обращенное к тебе письмо будет читать тебе наш Уно. Он уже вырос, большой, многое понимает, поэтому мне нечего скрывать, и я не стесняюсь, что он читает мое письмо к тебе. Когда он вырастет совсем взрослым, то ему еще понятнее станет это письмо.
Дорогая Клара, ты за меня не беспокойся, со мной все в порядке и ничего не случится. Я за себя вполне спокоен, но сердце мое сейчас очень волнуется. Поверь мне, я даже сожалею, почему не писал тебе раньше писем, возможно, тогда я был бы внимательнее, искреннее и откровеннее. Да, мало, очень мало я говорил тебе хороших и нежных слов, и даже сейчас у меня может их не хватить, но все самые прекрасные слова, которые существуют и не существуют, посылаю тебе, дорогая наша Клара, и моим детям. Поблагодари своего бога за то, что мы так счастливо встретились и так счастливо жили. Поклонись своему богу, пославшему нам и нашим детям счастливую судьбу, в которой были и трудности и радости, а главное – человеческая любовь. Вот какие мысли одолевают меня теперь вдали от тебя и моих детей. Не знаю, как у меня получится, но я хочу хлопотать, чтобы меня направили в воинскую часть, где служат мои сыновья. Если будет все хорошо, а я в это верю и даже обращаюсь к твоему богу за спасением, то после войны мы обязательно поедем на землю своих отцов. Теперь вы с Уно совсем одни, и я понимаю, как тебе тяжело. Вам будет легче, если вы с кордона переедете в город, Уно может поступить в ремесленное училище и находиться на государственном обеспечении. Подумай, пожалуйста, и сообщи о своем решении, потому что пока я оказывать вам денежную или другую помощь не могу. Пусть Уно пишет мне письма, ты диктуй ему, чтобы ничего нельзя было упустить, а я регулярно буду отвечать вам и давать знать о себе. В следующем письме напишу, возможно, еще подробнее, может, появится еще больше хороших слов и мыслей. Будьте здоровы, дорогие мои, да хранит вас твой бог, любимая наша Клара. Крепко целую, ваш Койт».
Письмо Уно перечитывал маме несколько раз и столько же раз объяснял непонятные ей слова. Неожиданно мама стала собираться к отцу в Камышловские лагеря. Отговаривать ее было бесполезно, у мамы нашлось доказательство:
– …Потому что в душе ему плохо. Папу надо успокоить.
С работы ее отпустили. Туда и обратно она добиралась с большим трудом, на лошадях, пешком и на попутных машинах. Вернулась поездом из Ирбита, счастливая и грустная одновременно.
Через месяц Уно поступил в ремесленное.
Сон, как назло, пропал, и Уно досадовал на себя, что без толку валяется в постели и неизвестно, чего ждет.
Раньше, когда ночевал дома, вставал ни свет ни заря, нежиться в постели не было времени, и в шесть утра уже шагал себе в город на учебу, позже на работу. Ходил так каждый день, вечером возвращался назад на кордон. Поизносил почти всю обувь, и тогда мама сшила чуни, галоши к которым Уно привязывал бечевкой.
Путь на завод проходил через старый парк. Спланировали и заложили парк еще ссыльные декабристы. Ровные липовые аллеи там расходились лучами. В воздухе стоял медовый пьянящий запах. Раскидистые деревья закрывали над головой небо. Сразу же за парком возвышался холм. По склону пролегла короткая улица, там стояли два больших деревянных двухэтажных дома. Когда-то, еще в прошлом веке, их построили и жили в них декабристы: в первом – Ивашевы, во втором – Басаргины, останавливались проездом Анненков, Пущин, Одоевский, о чем рассказывали истертые мемориальные доски. Дома хорошо сохранились и с тех пор не перестраивались. Перед самой войной в них открыли детский сад и ясли.
С высокого холма взгляду открывается течение Туры, дальше, направо, излучина, и река заходит в лес. По берегам поросль, камыши и вербы, меж ними прогалины и тропинки, которые исхожены людьми, особенно осенью, когда наступает сбор клюквы и морошки.
Когда-то здесь стояла тишина и слышно было, как перекликаются птицы или плещется в реке рыба. Теперь заводской гул не утихал ни днем ни ночью.
Завод работал круглосуточно, ремесленники и фэзэушники выходили на смену по 12 часов, остальные по 14 часов и больше. А мастер Игнатий так и вовсе по 20 часов торчал в цехе. Он был таким крикливым, словно отвык от нормального человеческого разговора. Понятно, что в цеховом шуме, где все время визжат да стучат станки и наковальни, тихо не поговоришь, а надо орать в лицо или на ухо, тогда все слышно. Вот мастер и старается. Видно, очень устает кричать целыми днями, потому и злой на всех. Он рвался на фронт, но его с механического не отпускали, он был на брони. Написал несколько заявлений, их не удовлетворили. От этого он еще больше озлобился.
– Шмакодявки! – кричал мастер. – Шпана, однако, сброд, сопляки! Вам не мастера надобно, а нянечку, однако, дневную, ночную, сменную! Чтобы сопли вытирала да горшки подставляла! Лучше сто раз самому сделать, чем один раз в дурьи головы разум втолковать.
Чудак он, сам не знает, на кого и на что ругается. За каждым следит хуже надсмотрщика, избить готов, если у кого в смену норма горит, вот-вот план сорвется.
– Башку, однако, оторву! – кричит до хрипоты и грозит кулаком. Не миновали угрозы эти и Уно. Токарный станок у него старенький, поизносился порядком, изработался. Почти каждую смену станок то пыхтит, то чихает, то не те обороты дает, то его заедает, а норму мастер все равно не скостит. Присмотрится, прикинет и еще набавит.
Резцы ломаются, как грифель у карандаша, и снова крикливая нахлобучка:
– Безобразничаешь, однако! Не бережешь? Тебе бы, криворукому, самому бы пальцы переломать!
Уно слышит много еще других слов недобрых, но вступать в пререкания не умеет и боится, у мастера Игнатия сила и власть большая.
Как-то Севмор однажды не вытерпел и сам закричал:
– Чего придираешься, чалдон! Зеркани, в натуре, из кожи ведь лезу! Сам видишь, на какой кляче гоню норму! Разуй, в натуре, гляделки-то, чалдон!
Мастер, не раздумывая, с ходу отвесил Севмору затрещину, сильно и звонко.
– Это тебе за чалдона, блатыга! – Потом еще разок – покрепче: – А это тебе за зенки и гляделки, оболтус! – И, наконец, припечатал: – А это, однако, за рабочую нерадивость!.. В натуре!
Севмор свалился, поднялся и тут же умолк. Да вроде бы сразу как-то и успокоился. Хорошо еще отделался, мастер мог пожаловаться в военсовет, наговорить против него кучу обвинений, и дело приняло бы опасный оборот, могли бы под суд отдать.
– Сорванцы! Ох, однако, сорванцы!
– Сам сорванец! – буркнул Севмор.
– Однако почему же это я сорванец?
– Потому, что зло на нас срываете.
– Дурак ты, Петрухин! Сорванец тот, кто план срывает, государственное дело сорвать готов, а ты про какое-то зло языком мелешь…
Цех огромный, длинный. Шагами измерить, так метров сто или двести. Мастер Игнатий носится по всему участку, бегает замотанный туда и обратно, то с начальством, а чаще один.
Только подбежит к станку, тут же справляется:
– Сколько у тебя тут вышло? Ага… хорошо, хорошо… Давай, давай, Ванек, стругай, у тебя, однако, получается. По-стахановски можешь, если еще поднажмешь. Поднатужься, однако, постарайся процентов на триста-четыреста… – Он смотрит на Уно снизу вверх через мутные очки и вдруг удивляется: – Ну и вымахал же ты, однако, ростом, Ванька, дылда дылдой, а физиономия – как у дитеночка, и ума, видать, столько же…
Улыбается он редко, шутить не любит да и не умеет.
Мама уважала мастера Игнатия и просила Уно слушаться его.
– Уно-мальчик, этот мастер самый важный твой учитель, – говорила она, – он из тебя делает человека.
Она несколько раз приходила на механический. У немногих родители жили в Туранске, большинство ребят были приезжие и сироты.
Полину Лазаревну мама откровенно побаивалась за строгость и внешнюю суровость. Не обращалась к ней, не разговаривала, сторонилась комиссарши, чувствовала, что поговорить не сумеет, слов нужных не найдет. Мама всегда была очень стеснительной и деликатной.
Теперь она мало спала, переживала и вздыхала, каждый день ждала вестей с войны. Письма от отца уже приходили с передовой. Он не попал в одну воинскую часть с сыновьями, хотя сообщал, что находится где-то недалеко от них. Мама волновалась и заходила на почту два раза в день, в обед и после работы. Почтальону до их кордона идти далеко.
На третьем году войны мама перестала заходить на почту. Летом ей вручили конверт, в нем были два письма на бланках, и от руки заполнены просветы.
Тут же, на почте, ей прочитали и, как могли, стали утешать.
Две похоронки держала она в руках…
«…погибли смертью храбрых…»
Убиты Хари и Георг.
Дома мама плакала, смотрела куда-то вверх и молилась, положив католический молитвенник на колени. Она гладила ладонью обложку и еле заметно шевелила губами.
Теперь почту мама обходила за несколько кварталов, выбирала совсем другую дорогу. При встрече отводила взгляд от почтальонов, словно они были виноваты в ее горе.
Осенью на работу маме принесли опять казенный пакет. Она догадалась, но отказалась верить этой бумаге.
Погиб Арво.
Люди понимали, что беда хуже всякой болезни. Приказом по швейной мастерской маме оформили «краткосрочный отпуск по семейному несчастью», но она не захотела оставаться наедине со своим горем. Похудевшая, сгорбленная, несчастная, она смотрела на Уно рассеянно и с жалостью. Подолгу молчала, не разговаривала и молилась за сыновей. Один раз спросила Уно:
– Уно-мальчик, а где этот Курск?
Там, на курской земле, были могилы ее сыновей. Уно показывал ей географическую карту. Она внимательно разглядывала, слушала и кивала головой. Но карта для мамы так и осталась тайной грамотой. Она не понимала, что такое там нарисовано и для чего людям нужна карта, но брала географический атлас в руки, смотрела на него бессмысленным взглядом и молилась.
С этого дня обыкновенный географический атлас заменил ей молитвенник.
Осенью выпал снег, но вскоре растаял. Потом застыло, некоторое время держался гололед, наконец пришла зима и навалила сугробы снега.
Мама к этой поре совсем перестала спать. Садилась в изголовье кровати Уно и молчала, смотрела на сына. Глазами она что-то говорила, понятное только одной ей, но слов вслух не произносила. Уно очень хотелось утешить, залечить ее глубокую боль, но он тоже молчал. Только раз мама погладила волосы Уно и сказала:
– Уно-мальчик, даже за самые страшные грехи не можно иметь такое ужасное наказание… Уно-мальчик, почему бог так немилосерден к нам? Почему посылает он такие страдания нам и мучает меня? Разве мы и дети наши в чем-то провинились? Только дьявол может так жестоко возненавидеть меня. Это очень несправедливо… Уно-мальчик, помолись за нас всех, тебя должны услышать…
Уно не умеет молиться, но сейчас готов на это ради мамы. Мама догадывается, она многое понимает:
– Спи, Уно-мальчик, во сне это приходит лучше.
Впервые за много месяцев поздно вечером в дом постучалась почтальонка. Уно еще не успел заснуть.
Она принесла письмо из госпиталя. Письмо было написано чужим почерком. Сообщали, что в госпитале умер отец.
Мама окаменела.
Почтальонка плакала, у мамы уже не было слез. Молча просидели всю ночь. Утром втроем пошли в Туранск.
Весь город уже знал о новом несчастье в семье Койтов. К Уно подходил мастер Игнатий, несколько раз смотрел поверх очков и молчал. Переминался с ноги на ногу, пальцем отозвал подальше от шума и негромко сказал:
– Беда, она одна не ходит. Ты, однако, мать побереги, Иван. У нее вас вон сколько было, а у тебя она одна, как есть была, так есть и осталась. Если чего надо, отпущу, отгул предоставлю. Можешь и заявления не писать, а как только пожелаешь, однако…
Маме этот отгул не поможет. Уно казалось, что она сойдет с ума от горя или умрет от боли в сердце.
По ночам мама не спала по-прежнему. К тому же стала беспричинно волноваться за Уно, когда он домой запаздывал, выходила на дорогу встречать его. Она очень боялась, чтобы с Уно ничего плохого не случилось. Ходили слухи про волков, много их за войну развелось, и медведи нередко к жилью наведывались, но это все в дальних деревнях где-то было.
В глазах у мамы стоял постоянный страх.
Они остались совсем одни на этой земле, в этом большом доме и в этой нелегкой жизни. Им предлагали переехать в город, уже и комнату подыскали, но мама не захотела.
О войне говорить она перестала. Вслух не вспоминала больше об отце и братьях, повесила их военные фотографии на стене, в одной большой рамке, и обвила своим черным газовым платком.
Молитвенник в руки мама не брала, а молилась, перебирая свои сухие тонкие пальцы.
Каждый вечер сидела у изголовья и подолгу смотрела на Уно. Поправляла одеяло, трогала его волосы, гладила лоб, осторожно касалась пальцами лица, чтобы не потревожить его сон. Он видел, что мама очень нездорова, а тут некстати и сам заболел. В медчасти Уно выписали справку и отправили домой. Поднялась температура, голова словно не своя, ломило спину и поясницу, болело горло, и одолевал насморк. Может, простыл в зимнюю стужу, бегая до столовки без пальто, а может, сквозняком продуло в цехе.
Мастер Игнатий сразу заметил, что Уно еле стоит на ногах:
– Какой от тебя, Ванька, хворого прок, больше напортачишь, чем пользу сделаешь, отправляйся-ка лечиться, однако.
Уно уже несколько дней сидел дома. Было скучно и одиноко.
Мама ходила на механический, получила на Уно сухой паек, разговаривала с мастером и комиссаршей.
В мороз окна застыли и отгородили Уно от мира, словно запрятали в клетку. Но стекла оттаивают, а подтеки на них ломают изображения природы.
Расплылись линии, причудливо исказился и изогнулся бело-зеленый мир. От тепла в комнате окна постепенно подсыхают, и тогда четко вырисовываются лес и снег.
Уно стало лучше, мама очень обрадовалась, натопила печь и приготовила согревающий компресс. Лекарств почти не было, и мама лечила своими способами: настаивала травы и корни.
В воскресенье вечером она заторопилась в город, пошла за красным вином для гоголя-моголя. Она договорилась с напарницей по работе, и та пообещала бутылочку. Мама так спешила, хотела скорее обернуться, что даже муфту забыла.
За окном падал снег, чуть напевал ветерок, изредка вздрагивали стекла.
Днем приходили Фаткул с Рудиком Одунским и принесли почитать «Тайну двух океанов». Они посидели недолго, попили чаю с сахарином и патокой, потом ушли. Уно увлекся чтением и не замечал времени.
На минуту он оторвался и мигом возвратился в реальную жизнь. Снова вокруг бревенчатые стены, с детства знакомая комната и кухня, вещи, которым, наверное, столько же лет, сколько Уно, а может, больше.
Ходики показывали десять часов.
Тик-так, тик-так, тик-так…
Почему-то мамы все еще нет.
В трубе завывало и неприятно шипело, будто кто-то хочет ворваться через печку и попасть в комнату. Отчетливо слышно, как налетает порывами сильный ветер.
Тик-так, тик-так…
Уно вышел в сенки, и на него обрушилась снежная крупа, с визгом влетала в щели и хлестко била в лицо. Уно распахнул дверь. Метель завыла, дверь рвалась из рук.
– Мама-а-а!
Нет, не перекричать всю эту неразбериху.
Уно быстро вернулся в комнату и приложил мокрые руки к остывшей печке. Тепло давно выдуло. В печурке Уно отогрел пальцы.
Стрелки ходиков показывали одиннадцать часов.
Тик-так, тик-так…
Меряет шаги маятник, тупо и бесстрастно смотрит глазастый циферблат.
Возможно, мама сейчас видит огоньки кордона, преодолевает последние метры заносов и скоро придет. Кажется, уже стучат? Нет, это вьюга…
Уно долго сидел на кровати.
Вот сейчас он заснет, а проснется – мама уже будет дома.
Тик-так…
Удаляются завывания вьюги, сменяясь колыбельным напевом. Мама поет свою колыбельную песню, знакомую Уно с раннего детства. Посредине комнаты широкая кровать. На ней лежат Арво, Хари и Георг. Они длинные, вытянутые, какие-то безликие, с закрытыми глазами. Похоже, что они спят, а может, мертвые. Мама смотрит на них и поет колыбельную, не замечая ни отца, ни Уно. Отец подходит к маме, к Уно, наклоняется, что-то говорит, но его не видно и не слышно. Он будто здесь, и, странно, его здесь нет. На кровати, оказывается, спит мама. Только бы не разбудить ее, наконец-то она отдохнет, Вот сейчас должна встать и подойти к Уно. Но не надо, пусть ничто ее не тревожит, ведь она не спала целый год. Утром она сделает согревающий компресс, взболтает гоголь-моголь и заставит выпить Уно. А потом уложит в постель, сядет у изголовья, проведет ладонью по волосам и обязательно скажет: «Уно-мальчик…» Пусть спит, ей так хорошо и спокойно… Неожиданно в комнату вкатился огромный шар света…
Ясным зимним утром восходящее солнце пронзительно бьет по глазам.
Уно проснулся, осмотрел комнату. Никаких изменений, глухая тишина, молчание.
– Мама…
Наверное, она еще спит? Уно быстро вскочил, огляделся. В доме ни души. Выбежал на крыльцо. Вокруг лежал скованный морозом плотный панцирь ослепительно одноцветного снега. За ночь навьюжило, сугробы, перемело дорогу и тропинки, засыпало с верхом крыльцо. На всем пространстве белого покрова ни одного следа к дому.
– Мама!
Слабым эхом ответил лес. Больше никакого отголоска.
Ходики показывали уже десять часов утра. Уно не поверил, часы просто врут. Неужели время сместилось? Вперед или назад?
Все происходило как во сне, но уже в другом – наяву.
До города бежал по насту, не видя дороги. Зашел к маме на работу, после был на механическом. Его водили в милицию, в райисполком и даже в больницу.
Никто не знал, где мама Уно, лица и взгляды у всех беспокойны и растерянны.
Весть по Туранску разнеслась быстро. Люди заволновались. Боялись волков, медведей, рысей. Маму искали повсюду, но никаких результатов.
К полудню на лыжи встали старшеклассники, ремесленники и фэзэушники, разошлись в разные концы по зимнику и дорогам, ведущим в ближайшие деревни.
К вечеру ее нашли в овраге, на огородах. Она попала в какую-то узкую яму и не могла из нее выбраться. Мама стояла в рост, прислонившись спиной к отвесной стене, и по макушку была запорошена снегом. От лучей предвесеннего солнца снег на голове растаял, и тогда кто-то увидел посреди ровного белого огорода темный клочок шали. Пальцы ее были искусаны, в руках она зажала бутылочку с вермутом, который не застыл, не превратился в лед.
…Мама лежала на голых досках кровати, в своем темно-синем пальто с потертым воротником и в темной шали, из-под которой выбились седые волосы. Руки и локти неестественно прижаты к груди, на кулачках и пальцах следы зубов, глаза полузакрыты, лицо заострившееся, бесцветное, неживое.
На подоконнике стояла бутылочка с вермутом, и никто ее не трогал.
Двое суток дежурили взрослые, знакомые и незнакомые люди. Они ходили по дому, как тени, негромко переговаривались и шептались, иногда о чем-то спрашивали Уно, но он их не слышал.
Уно сидел у изголовья и ждал, когда мама откроет глаза, присядет на кровати и удивится посторонним в доме. Большое зеркало завешено черным платком. Мебель сдвинута в угол, одна лишь кровать стояла посреди комнаты. Мама больше не видела Уно.
Постепенно проступала бледность на ее лице и руках, потом появились красные пятна.
К концу второго дня она оттаяла, ее увезли.
В доме стало пусто, мертво. Когда-то здесь жили самые близкие люди, и казалось, что в доме всегда тесно и мало места. Спали на топчанах и на печке, ужинать садились за большой стол, ножки которого круглые, резные, устойчивые.
Мама каждый раз стелила чистую льняную скатерть.
Отец садился к столу неторопливо и сдержанно, Хари молчал и был занят своими мыслями, Арво с Георгом чаще всего спорили между собой. Изредка Уно получал замечания от отца или старшего брата за непоседливость и баловство.
В прихожей вешалка ломилась от одежды, в сенях на приступках не умещалась обувь.
Перед зеркалом случалась очередь, каждый старался выглядеть аккуратным, гладко причесанным и с обязательным пробором.
По стенам на гвоздях была развешана охотничья утварь. Над столом торчала спица, вбитая в щель, на нее нанизывались казенные бумаги лесничества.
Отрывной календарь отсчитывал дни, недели и месяцы. Сколько прожили, столько оторвали листочков.
Теперь на стенах остались только фотографии в одной рамке. Среди них нет маминой…
Хоронили маму в новом выструганном гробу, сено прикрыли марлей. Она лежала в зеленом платье, самом своем нарядном, и была красивей, чем какой помнил ее Уно, лицо бледное, гладкое и молодое, без единой морщинки.
Теперь мама отдыхала от всех своих забот, и Уно казалось, что она слышит шаги, даже молчание окружающих и думает о чем-то своем, но о чем – никто никогда не узнает.
Падал крупный снег, хлопья опускались на открытые до локтя мамины руки. Они опускались и не таяли, кто-то смахивал платочком с лица, чтобы не запорошило.
Стучали молотки. Падали комки промерзшей земли и ударялись в крышку гроба.
На холмике поставили деревянный памятник с железным католическим крестом. Неизвестно, кто так распорядился.
После похорон Уно переехал в общежитие на механический, и дом на кордоне долгое время стоял пустым.
Над койкой в углу общежитской спальни Уно повесил рамку с фотографиями отца, братьев.
Рядом стояли койки Юрки Сидорова и Петра Крайнова. Сдружились, образовали свой «колхоз». Заработки, подарки и еда поступали в один «котел». Отдельно, на черный день, откладывали сбережения, деньги, облигации военного займа. Хранили свое добро в сундучке Юрки Сидорова. Юрка сам его изладил. Воров среди заводского люда не было.
В ремесленное Крайнова привезли из Нижнетагильского приемника. О себе он почти не рассказывал, от вопросов раздражался, выходил из себя и кричал:
– Не лезь в душу, не приставай! Катись к чертям собачьим!
Петро был нервный, вспыльчивый и какой-то издерганный, но в дружбе преданный.
Юрка Сидоров – старожил Туранска, раньше других появился в городе. Прибыл сюда с эшелоном раненых, их привезли с фронта в госпиталь.
– Я хотел было фронт повидать, да не вышло, – говорил Юрка. – Поехал на запад, а не пустили и пересадили на восток… в санитарный поезд.
Он порой расписывал свои приключения с такими подробностями и прикрасами, что ему мало верили.
– Когда на перегоне за Свердловском произошло крушение поезда на однопутке, то я лично сам с напарником вынес сто раненых. Нам за это медаль обещали…
Юрка Сидоров был кухонным работником и подсобником у медсестер в санитарном поезде. Ему выдали справку, в которой Юрку именовали «медбратом».
В Туранске начальство госпиталя устроило его в ремесленное училище. Однажды Юрка проговорился:
– Я должен мамке в родную Ижовку написать…
Все считали Юрку Сидорова беспризорником. В ремеслухе он по всем документам и личному делу проходил сиротой. Долго скрывал, умалчивал, но все же признался:
– Может, еще и рано, надо бы дождаться конца войны… А ежели сейчас надумаю, ежели невтерпеж станет, то пошлю письмо мамке. Опишу, что, мол, жив-здоров, навидался вволю большого света и не отсиживался без дела. Я ей пообещал, что на фронте буду… Вот бы еще медали дождаться да прописать ей, – он рассмеялся, – тогда у нее на радости охотка отлупцевать пропадет… Да и, кажись, я уж вырос из детских-то портков, самостоятельным стал. Захочет, пусть сюда сама приедет, а нет, так к себе заберет, ежели, конечно, жива-здорова… Жизнь покажет. Никакой я не беспризорник, это я пока до времени сиротой живу…
Рудика Одунского они приняли в свой «колхоз» позже. Узнали, что прибился к цыганам, бродил и кочевал с ними. Он рассказывал про табор и необычную там жизнь. Надоело бродяжить, а в Ленинград еще не пускали, вот и отбился от табора на полустанке за Ирбитом. В детдом не захотел, подался в ремесленное. В Туранске его выслушали, не отказали, взяли. Учился Рудик в ремеслухе лучше всех, но был «психованным», часто плакал не только во сне, но и по любому пустяку. Некоторые туранские ребята его дразнили. Покажет кто кукиш или пальцем ткнет на ширинку штанов, у Рудика уже от обиды и губы дрожат. Навзрыд разревется, когда кто-нибудь крикнет ему:
– Эй ты, дистрофик!
Однажды Фаткул крепко наподдавал одному такому злоязычнику, и дразнить Рудика перестали. Фаткул с Рудиком подружились.
Уно жалел их всех, они казались ему больными. Горе Уно они приняли близко к сердцу, сочувствовали, на кладбище ходили всем «колхозом».
Могила мамы осела, крест наклонился. Как могли, подправили, подсыпали земли. На Зинкиной могиле посеяли цветы, посадили стебелек черемухи.
Холмиков и памятников на кладбище заметно прибавилось. Иной раз заворачивали к старой церкви, в куполах и звонницах которой сидело много ворон и галок. Невдалеке от церкви стоял внушительный памятник, поставленный более ста лет назад. Среди других могил он выделялся своей массивностью. Ступенчатый постамент венчала квадратная колонна, на гранях и в нишах которой были выбиты на медных пластинках каллиграфически ровные надписи, уже выцветшие, покрытые зеленью и с трудом различимые: «Здесь покоятся…»
В этой могиле были захоронены декабрист Ивашев, его жена Камилла и их новорожденная дочь. Девочка умерла в один день с матерью, ровно через год здесь похоронили Ивашева. То ли сама природа распорядилась, то ли чьи-то руки позаботились, но каменный прямоугольник стоял не в одиночестве, у подножия памятника выросли три старые сосны: одна – толстая, кряжистая и лохматая, другая – стройная и нежная, третья – тонкая и болезненно-сучковатая. Зимой с постамента счищали снег.
На могиле матери Уно зажигал свечку. Зинкин холмик оставался нетронутым, словно укутанным в белое одеяло. Ранней весной на кладбище быстро пробивалась зелень, и вскоре начиналось цветение.
3
Уно все еще ворочался, скрипел пружинами кровати и ждал подъема. Скорее бы заговорило радио и передало очередную сводку Информбюро.
Теперь что ни день, то важные сообщения: гитлеровцев бьют и отовсюду гонят. Любое известие о победах на фронте вносило в жизнь праздники.
На днях наши взяли Берлин.
Кругом гуляли и веселились.
По этому случаю Севмор раздобыл литровую бутылку красного вина. Но чуть было не нарвались на скандал: мастер Игнатий откуда-то разнюхал и вынырнул. Но, к удивлению, не заругался и голоса не повысил. Не стал допытываться и доносить начальству, управленцам, комиссарше. Она-то бы точно к себе вызвала и вдобавок вынесла бы еще на комсомольское собрание. В тот день мастера Игнатия как подменили: он вроде и не он. Увидев бутылку, что-то буркнул и прошел мимо, как будто не заметил. Бутылку вина распили за инструменталкой из одной жестяной кружки на всех. Разливал Севмор по маленькой мерке, чтобы на всех хватило и не по одному разу. Сам он пить вино научился раньше. Но пьяных не любил и боялся:
– Навидался я этого дерьма по уши…
Севмор приехал в Туранск с отцом. Какие-то дальние родственники их вскоре уехали в освобожденную от немцев Молдавию и оставили Петрухиным свой небольшой дом. Жил Севмор с отцом, можно сказать, безбедно. Отец получал пенсию и наградные за ордена, а Севмор приносил хороший заработок и приличный паек. Отец его без руки и без ноги довольно резво прыгал с костылем по городу, и часто его видели пьяным. Он пил много, но вел себя смиренно. Каждый раз Севмор ходил его разыскивать и с трудом доставлял домой. Однако отца Севмора люди не считали пьяницей, а просто несчастным инвалидом, потому жалели, уважительно с ним раскланивались. О матери Севмор ни разу не обмолвился, будто ее нет и никогда не было.
– Ну давай, в натуре, за взятие Берлина! – говорил Севмор и протягивал кружку.
– За взятие Берлина! – говорил при этом каждый.
Юрка Сидоров давал занюхивать, чтоб не было очень противно, совал под нос мятную таблетку, которую выпросил в медсанчасти от болей в животе.
Фаткул долго не решался, нюхал кружку, морщился и кряхтел. Его подталкивали и торопили, нельзя было тянуть время.
– Ну ты что, в натуре? – досадовал Севмор. – Атанду прикупишь, застукают и засыпемся, как цуцики, изнанку покажут!
Фаткул выдохнул, сказал:
– За взятие Берлина! – И добавил: – За победу над гадами!
Петро кивнул ему и неожиданно торжественно произнес:
– Смерть немецким оккупантам!
Обычно таких слов между собой не произносили, говорили проще, но сейчас это оказалось и к месту, и кстати.
Фаткул пил медленно и мучительно, хуже самого горького лекарства, будто кипяток или отраву. Юрка Сидоров посмеивался в кулак и приговаривал:
– Ты чо, Татарин, не мужик, чо ли?
Наотрез отказался пить один только Павел Пашка. Он всегда сдержан, стеснителен, лишнего шага себе не позволит. Мастер Игнатий хвалил его и ставил в пример остальным:
– Вы, сколь есть, все одна шантрапа! Один, однако, Пашка у вас паренек башковитый, он робит с искоркой. Очень, однако, примерный паренек, не то что вы, юрлы-мурлы…
Среди ребят Павел держал себя несмело, особняком, как скромный гость, которому не многое позволено. На станке он работал чисто и аккуратно. Получалось у него хоть и медленно, но зато уж без остановок и неполадок. В ремесленное он приехал с провожатым, до Туранска жил недолго в Ирбитском детдоме. Все знали, отец его воюет в Чехословакии, а других родных нет. Уно слышал от Павла про няню Нюсю, но не разобрался, кем она ему приходится, бабушкой или теткой. Павел потерял ее где-то в Курганской области и до сих пор разыскать не может, потому что не знает фамилии.
Выпить за взятие Берлина, видно, Павлу хотелось, но он, подержав в руке кружку, поднести к губам не отважился и передал вино Севмору.
– Нет, у меня не получится, – сказал он и почему-то понюхал мятную таблетку.
– Давай, Эст, твой черед…







