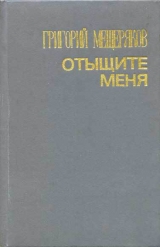
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Фаткул несколько раз перечитывал, но ничего в голове не осталось, кроме одного, что папка погиб и больше его на этом свете не будет. Нет уже ни родного папки, ни матери родной, ни родного брата. Когда был жив папка, то и родня была родной. А не стало его, и вроде бы не стало и родни, кроме чужих людей. Кто теперь без папки мачеха Фаткулу? Просто тетка по отцу. Вовчик – тот для нее родной сын, каждому ясно. Какой он без папки Фаткулу брат? Никакой, так только, название да слова одни остались.
Слезы сами текли по щекам, и Фаткул не успевал вытирать их рукавом. Мачеха, наверное, совсем сейчас убивается по родному папке, может, даже больше разболелась. А Вовчик ничего еще не понимает ни в человеческой жизни, ни в человеческой смерти. Их обоих Фаткулу жалко, но папку больше всего, его уже не вернуть. Неужели теперь один на один останется против Карлуши? Она со времени отъезда комиссии не вызывала Фаткула и будто вообще забыла о нем.
Едва он успел спрятать письмо за пазуху и вытереть насухо щеки, как вдруг появилась завуч. Она в это время всегда делала обходы по отрядам и группам. Подошла неторопливо, села напротив.
– Ну что, гаденыш, доволен своими фокусами? Молчишь, ядовитая змея! Собственным жалом отравил директора детдома, меня чуть не отправил в могилу и помалкиваешь, маленькая сволочь! Теперь ты больше не пожалуешься! Наконец-то я расквитаюсь с тобой, гнус!
– Вы не посмеете меня тронуть, я ни в чем не виноват!
– Что, что? Уж не рассчитываешь ли ты на чью-то помощь? Не быть этому больше, мразь!
– Если вы меня тронете, то я…
– Замолчи, недоносок! Ты у меня сыт будешь сполна, до конца своей ничтожной жизни! – Она шипела и брызгала слюной.
– У меня горе, Варвара Корниловна, самое большое горе…
– И ты еще всю свою низость осмеливаешься называть горем? – Она совсем разошлась. – Да как твой поганый язык на такое повернулся? Сегодня же ты получишь самый большой урок!
– Сама получишь, сука Карлуша! – закричал Фаткул.
Топая каблуками, она резко вышла из учебной комнаты.
Кто-то походя заглянул в учебную. Это был Чибис, он подошел и удивился:
– У тебя что, татарин, температура, жар? Ты какой-то ненормальный, чокнутый…
– Да нет, все у меня лады… Дай мне, Чибис, еще на один раз своей отмычки.
– Ты чего-то тихушничаешь, татарин. Все втихаря да втихаря, – осклабился Чибис.
– Не отлынивай. Тебе что, слабо?
– Гони ужин, и весь уговор, – говорит тот и передает связку.
– Возьмешь сам при раздаче.
Снег мешает наступлению полной темноты, всюду его ровный серебряный свет. Но сейчас уже ничто не имеет смысла. Нет никакого страха, совсем не дрожат руки, а ноги сами ведут Фаткула вперед, не разбирая тропинки. На крыльце флигелька свежая пороша и ни одного человеческого следа. Замок поддался отмычке без труда, щелкнул и сам открылся. В сенцах снова массивная дверь на запоре. Новая, хорошо заточенная отмычка мгновенно сварганила свое дело. Кухня с улицы слабо освещается, но вполне можно опознать предметы, чтобы не наткнуться на них и не шарить руками, как слепому. С силой, до отказа Фаткул отвернул винт у плиты. Послышалось громкое шипение, будто газ плотно скопился в черной трубе и теперь с облегчением вздохнул и вырвался наружу. Потом все утихло, и, если очень прислушаться, можно уловить, как на кухне газовая горелка зловеще шепчется с воздухом. Фаткул крепко прикрыл двери, прижал плотнее напоследок плечом. Негромко позвякивали отмычки, щелкали замки, закрывались запоры. Фаткул спустился с крыльца. По тихой погоде снег падал хлопьями, скрывая свежие, только что оставленные следы. Фаткул со злостью запустил отмычки через забор, быстро пролез в щель и пошел вверх по улице, еще не зная куда. В домах под потолками светились прозрачными грушами электрические лампочки. В других, у самых окон, зажигались на столах керосиновые лампы, а в третьих уже поселилась ночь. Никому до Фаткула не было и нет дела. Одно слово – сирота. Был бы жив папка, другой бы был поворот жизни, а теперь – что вверх, что по ветру, но назад в детдом возврат заказан. Голод засосал под ложечкой, то ли от него, то ли от холода напала зевота, стягивая скулы и выжимая слезы. Завалиться бы куда-нибудь и забыться, переждать бы и эту ночь и эту зиму. Чибис, наверное, сейчас второй ужин съедает. Обжирается, блатыга, никогда своего не упустит. Старик Демка до сих пор шляется по Богуруслану, рыщет свою халтуру и на спичечных головках богатство копит. Взять бы целую горсть спичек и чиркнуть бы их все о коробок, открыть все газовые вентили и поджечь воздух. Он бы освещал весь город, дома, улицы, и в желтом пламени его сгорали бы в муках, скрючивались в черные головешки враги и отвратительные насекомые, похожие на людей. Еще не наступила ночь, а горожане, подобно деревенским, уже попрятались в домах и избах, будто нет больше у них никаких дел и забот. На базаре, может, все еще толкутся те, кто припозднился. Там всегда много подвод и приезжают из района обозы. Рядом с базарной площадью, которую старики до сих пор называют Сенной, немало постоялых дворов, каждый дом у базара кого-нибудь на ночлег пускает. Приезжают сюда издалека, из разных мест, из Полюгина тоже.
Детдомовские часто ходили на базар. Разбитным и жадным удавалось умыкнуть кое-что, другие пытались загнать какую-нибудь вещичку. Чаще всего это кусок черного мыла, добытый в прачечной, коробок соли, что отсыпали из кухни, или просто детдомовские полотенца, галоши, носовые платки из кастелянской. Робкие ходили меж торговых рядов и попрошайничали. Фаткулу еще не приходилось ни разу с базара кормиться. После полудня торговый гомон утихает, спадает и толкотня и суета.
К вечеру продавцы разъезжаются в разные концы по городским и деревенским дорогам.
Сейчас базар безлюден. На пустые прилавки ровным слоем ложится снег. Кое-где еще фыркают лошади, кто-то подбирает разбросанные клочки сена. В другом месте перетягивают веревками мешки на санях и топчутся у подводы в длинных неуклюжих тулупах. Четверо саней, забитых сеном, разворачивались к дороге. Обозники заканчивали переговоры и осмотры. Фаткул подошел к последней подводе.
Там кто-то долго усаживался, приминал сено, подтыкал бока войлоком.
– Дяденька, вы, случайно, не в Полюгино едете?
– Что ты, соколик, – послышался женский голос, – совсем и нет, в сторону Коровино мы.
Передние подводы уже тронулись, заскрипев полозьями и острыми подковами лошадей.
– Возьмите меня с собой, мне тоже туда надо!
– Ты чей же такой будешь-то? – подбирая вожжи, спросила она.
– Я круглый сирота.
– И родни, что ли, никакой нет? – повернулась она.
– Нет.
– За каким же лешим тебе, соколик, в Коровино-то?
– Там один старик живет, давно зовет меня, усыновить пообещался. Может, даже вы его знаете.
– Откуда же мне его знать-то, – неожиданно выручила она Фаткула, – мы же из Приютово.
– Значит, вы еще дальше едете?
– От Коровино еще столько же, сколько до Богуруслана, чай, ведь уже в Башкирии. А сейчас-то ты откудова?
– От чужих людей.
– Что, шибко худые люди, что ли? – посочувствовала она.
– Очень.
– Ну, коли надо, то ладно-сь, садись, отвезу-ка тебя в Коровино. Залезай в сено-то, все вдвоем веселей будет. Да ты не стесняйся, влезай-ка ко мне в тулуп, а то вишь какой смирный. – Она распахнула полы и усадила меж ног, словно младенца или заморыша, укутала и прижала к себе. Махнула концами вожжей, и конь рванул сани с места, пустился вдогонку за остальными. Передние три подводы уже не видны, скрылись с глаз. Дорога эта коню знакома, нюхом ее чует, потому без всякой поправки бежит рысью по накатанной зимней полосе. Обогнули несколько улиц и догнали обоз.
– Чтой-то случилось, что ль? – крикнул кто-то впереди.
– Нет, все в порядке, знай гони! – ответила женщина.
Раздался свист, щелкнули кнуты, и четыре подводы быстро покатились к окраине города. Лошади, как сговорились, бежали скорой рысью, стуча подковами. Ровным накатом плыли сани. На длинном уклоне чаще зацокали копыта, лошади прибавили шаг, ездоки натягивали вожжи, удерживая от галопа, хотя оглобли и выпирали вперед.
Взнузданный конь подчиняется вожжам, упирается подковами, дуга вперед клонится, и шлея врезается в круп. Пологому этому уклону конца не видать, словно ведет эта дороженька в преисподнюю. Спуск кончился, и на душе Фаткула стало спокойней. Медленно уплывают по бокам улицы дома и слабые огоньки. Лошади сбавляют ход и громко отдуваются.
– Но-но, родимая! – понужает передний, и весь обоз снова переходит на полную рысь. Дорога вскоре вывела за город. Вожжами уже можно не управлять, лошади сами бегут, не сворачивая в сторону и не сбавляя шага. В овчинном тулупе Фаткулу тепло и безопасно, сильные женские руки подтыкали тулуп с боков, чтоб не задувало холодным ветерком. Вот только ноги застыли и онемели без движения. Сенца под ними немного, а подвязанные галоши и рваные носки мало согревали.
– Ты чтой-то зашевелился, – говорит женщина, – уж не озяб ли?
– Ноги чуточку.
Она сгребла Фаткула, подтянула его ноги к полам тулупа, крепко прижала и обняла. Расстегнув пальто, наклонила его голову к своей груди.
– Ну вот, теперича ты совсем как в люльке, и зябко не будет, и ко сну потянет. Передам тебя там твоему самозваному тятьке в полности и сохранности. К себе бы тебя забрала, в наше Приютово. У меня сына еще нет, одни три девки растут, да, поди, ты заартачишься, к мужику тебя потянет, а наш-то в погибших на войне. – Она замолчала и подобрала вожжи.
Фаткулу сейчас было все равно, лишь бы подальше уехать от детдома.
– Ну чтой-то ты там молчишь, уж не задохся ли там впотьмах, у моих титек-то? Давай-ка спи, не горюючи, в Коровино к утру приедем, там и лошадей покормим, передохнем малость, с тобой простимся.
– Всю ночь так, в поле, ехать и будем?
– Ты уж испужался, что-й ли? – смеется она. – Может, и не всю, может, до того и пристанем куда…
– А здесь волки бывают?..
– Как не бывают, – говорит она. – То в стае, а то отбившийся, матерый какой… Да где нынче их нет, волков-то, наплодились за войну-то, хуже тараканов…
– И вы не боитесь?
– На обоз волки не нападут. Вот ежели когда на одну подводу, то бросятся… Потому, соколик, нет чичас на них у меня страха… Волк-то он не так страшен, как худой человек в волчьей шкуре…
Город вдалеке был виден с холма россыпями мелких огоньков. Вдруг в ночной тишине раздался глухой взрыв. Казалось, что сюда доносится последний раскат грома, хорошо слышимый в безлесом зимнем поле. Фаткулу представилось, как взлетела в черное небо огненная кошка Карлуша.
– Ты почто это, соколик, съежился, опять испугался чегой-то?.. Бабахнуло крепенько, видать, на нефтевышке стряслось неладное иль в каком другом месте беда… Да не трясись ты, не дрожи, тебе до того дело малое, айда-ка засыпай…
Но сна у Фаткула не было на всю оставшуюся дорогу.
В дождь спать хочется

1
В дождь спать хочется.
Плывут за окном холодные и синие тучи, затянув небо до горизонта. Няня Нюся негромко говорит:
– Ранний дождь до обеда…
А он льет весь день и не перестает.
– …Поздний на всю ночь.
Дожди идут сутками, а то заладят на всю неделю и давай поливать. Земля напилась и насытилась вволю, выше всякого предела. Больше в нее не входит, вода прет изнутри, и деваться ей некуда, расползается в лужи, протоки. Окна захлебываются, плачут.
Настроение по погоде, нос на улицу высовывать не хочется. В комнате тускло и мрачно, хоть лампу зажигай. Но керосин няня Нюся бережет. Она сидит ближе к окну, чтоб было виднее, и опять вяжет, распустив старые шерстяные носки и рваные варежки. Иногда покупает грубую овечью шерсть, сама делает пряжу. Тонкие длинные спицы в ее руках напоминают две шпаги на дуэли, которые ловко сражаются друг с дружкой. Няня Нюся еще не старенькая, но волосы у нее седые и на лице много тонких морщин.
– Павел, я тебе свитерок к школе свяжу…
Недалеко осень, скоро в школу.
Хорошо бы продлить каникулы, когда не надо рано вставать и протирать глаза, чтобы разглядеть, какая на дворе погода. Хуже нет натягивать непослушные чулки и торопиться, потом мыться по заморозку холодной водой, обжигающей лицо и руки.
Чуть свет хватаешь сумку, хлопаешь дверью и только на улице окончательно просыпаешься. Бредешь по протоптанной дорожке, обходишь дома и думаешь, что не мешало бы еще немного поспать и ничего пока не видеть, кроме снов.
До школы еще целый месяц, и сегодня можно с удовольствием полежать спокойно. От мороси на улице постель кажется влажной, но в ней тепло, и Павлу вылезать неохота.
Руки у няни Нюси беспокойные, без дела не могут. Ни рукам, ни спицам она покоя не дает, словно мысли свои перебирает и перебрать до конца не может. На плите шипят и жарятся оладьи. Няня Нюся часто их стряпает, замешивая на отрубях с травой или из картошки с морковкой. Они всякий раз получаются ароматными и вкусными. Сковороду няня Нюся протирает тряпочкой, осторожно обмакивая ее в ложку с подсолнечным маслом. В комнате стоит такой запах, что им одним насытиться можно. Няня Нюся ловко сбрасывает оладьи в тарелку и еще горяченькие ставит на стол. Тут уж никак не удержаться. Павел выскочит из постели, набросит кое-как рубаху на плечи и к столу. Няня Нюся довольна, ей бы только угодить и накормить.
В кармане курточки лежит плоский и остренький ножик. Павел достает его и начинает колдовать, каждую оладью на четыре частички режет, с каждым кусочком по чашке чаю выпьет. Няня Нюся смеется:
– Чудак ты, Павел, будто больше нарежешь, так больше и съешь?
Она не злая, голоса не повысит, лишь посмеется когда, но чаще промолчит. К ножичкам она относится с опаской и недоверием. У Павла их восемь, но ни одним она не пользовалась на кухне, обходилась лишь столовым. Ножички самых разных размеров Павел наделал сам, детдомовцы научили. Они торговали самодельными ножичками на базаре. В магазинах давно ножей не было, с самого начала войны исчезли. Перво-наперво надо гвоздь потолще и подлиннее найти. Детдомовцы выдирали их из тарных ящиков, дровяников и заборов. Павел выпросил несколько штук у старого плотника, который чинил крыши в околотке или заколачивал окна фанерой, где были разбиты стекла в домах. Недалеко проходила железнодорожная одноколейка. Паровозик, прозванный «кукушкой», таскал за собой по нескольку крытых вагонов от станции до элеватора и обратно. Не один раз за день прокукует, раздувая пары, похожие на белые пышные усы. Голос у «кукушки» тонкий, писклявый, слышно далеко, успевай только до колейки добежать. Положил на рельсы гвозди, а сам в кювет спрятался. Сиди и жди, пока «кукушка» проедет. Она толкает перед собой груженые вагоны, от тяжести рельсы на стыках прогибаются. Отстукали последние колеса, и «кукушка» потащила вагоны дальше к элеватору. Три раза «кукушка» прокатит вагоны по гвоздям – глядишь, в руках уже держишь заготовку. Бери какой ни на есть осколок красного кирпича вместо брусочка и затачивай лезвие. Руки и пальцы устают, занемеют в судороге, потом долго отходят. Блеск-глянец навел, и острый ножичек стал похож на бритву. Деревянную рукоятку не просто приспособить и насадить, быстрее сплести из разноцветной проволоки, удобнее в ладошке держать. Срежешь осторожно волосок – значит, острие готово, даже бриться можно, нонет бороды. Из старых рваных ботинок, что валялись в кладовке, Павел сшил двое ножен. Теперь карманы не худились и кончик лезвия не впивался в ногу. Два ножичка всегда брал с собой, носил в кармане, остальные прятал в ящик кухонного стола.
– Смотри, Павел, чтобы беды какой не произошло, – предупреждала няня Нюся.
Она напрасно беспокоится, Павел пальцем никого не тронет. Сам первый всего боится. Если где какая драка, лучше ему отойти и не ввязываться.
Раньше папа с мамой учили и наставляли, что нужно в любой момент уметь постоять за себя, бороться. Но тогда было другое время и другая жизнь. Иной раз Павлу казалось, что когда навстречу идет человек с противной мордой, то обязательно ударит по лицу, ни за что ни про что, а по своей прихоти. Но человек проходит мимо, и оказывается, что сторониться и обходить его вовсе не надо было.
Страх, наверное, хуже всякой болезни. Разбил кто нос, Павел смотреть боится, отворачивается, глаза плотно закрывает. От вида крови тошнит, голова кружится. Со стороны боль кажется сильнее, чем на самом деле.
До сих пор помнится то тревожное время, когда по булыжным мостовым гулко топали тяжелые каблуки множества сапог. Оглушительный шаг их давил и расплющивал души людей. Давно не видел он тех марширующих сапог и мундиров с фашистской свастикой, а страх до сих пор не проходит и вряд ли когда пройдет. Здесь, в Советском Союзе, совсем все по-иному, Павел на себе испытал.
Окружающие относились к нему с вниманием и заботливостью. Уличные мальчишки редко придирались, не обижали, некоторые брали под свою защиту.
– Ты иностранца не трожь, – говорил один другому. – Хоть он и чужак, но свой. Пусть он не нашенский, а все равно наш…
Завести бы дружка смелого и с сильными кулаками, но пока такого Павел еще не встретил. Мальчишки редко звали его в свои компании. Им бы только ватагой носиться по улицам, затевать свои шумные игры и бурные драки. Поэтому от них Павел держался подальше. Куда лучше бродить одному. Уйти к Тоболу, где по берегам растут кусты и деревья. Там спрятаться в густом ивняке и смотреть на воду или плести корзины из гибкой ветлы. Никто не видит, никто не привязывается, не отнимет ножичек, не сломает корзинку. Смотри на воду, слушай голос переката да крики птиц, и больше вроде бы ничего не надо. Далеко в камышах перекликаются лодочники. На середине реки пыхтит пароходик и гудит, приближаясь к пристани. На пристань и на станцию няня Нюся ходить запретила:
– Там сутками обитают всякие беспризорники и хулиганы. С ними связываться, Павлуша, опасно, добру не научат…
Иногда он играл с соседской девочкой, которую все звали Алкой. Полное ее имя Альбертина. А ее сестру звали еще длиннее – Электростанцией. Алка верховодила и командовала Павлом, как хотела. Она часто заставляла его играть с ней в куклы и магазин. Но ему интересней было, когда они рисовали друг друга и от души смеялись над рисунками. Алка надоедала своими выдумками. Тогда Павел готов был от нее бежать и прятаться. Она вдруг требовала, чтобы он поцеловал ее ухо. Откидывала волосы, подставляла мочку и говорила:
– Ну чего ты, не умеешь, что ли?
– Нет, не умею.
– Тебя что, никто не целовал, что ли? – смеялась она.
– Нет, не целовал.
– А меня мама перед сном обязательно целует.
– То мама, а то я.
– Какая разница, – сердится Алка.
Тихоня Павел терялся, краснел и неловко прижимался губами к ее уху. Она закрывала глаза и сидела не шевелясь, словно боялась его спугнуть. Потом шепотом говорила:
– Только не отходи! Ну что тебе стоит?
– Ничего не стоит.
– Ну и дурень!.. Скажи чего-нибудь на ухо!
– Не умею.
Была бы она нормальной, а не такой фантазеркой, Павел, может, чаще бы встречался с ней и больше бы гулял во дворе. Правда, там злые языки порой дразнили, но оговоров Павел не боялся. Боли от слов не бывает.
Алка училась на класс старше и в другой школе. После уроков почти каждый день приходила к Павлу, пока няня Нюся отлучалась по делам. Иногда она изображала из себя учительницу, помогала Павлу учить уроки, писать диктанты. Ему это занятие нравилось больше всех других ее затей.
С приходом лета в начале каникул Алка уехала в Курган, оттуда к теткам в Куртамыш и Зверинку. Там, вдали от железных дорог, было легче и сытнее жить в голодное военное время. Мать охотно ее отпустила. В пыльном Юргамыльске Павел остался один. Потом зарядили дожди. На улицах грязь и слякоть, ноги промокают, телеги вязнут, лошади из сил выбиваются. Одним поездам все нипочем, катятся по рельсам железным в разные стороны, в Челябинск или Курган. Юргамыльск почти на полпути от этих городов.
С отъездом Алки никто больше не приходил к нему в гости. В промозглую погоду Павлу и самому никуда неохота идти. Окна запотели и стали матовыми, почти непроглядными. С уличной стороны по стеклам стекают струйки воды. Они искажают дома, что напротив через дорогу, линии изгибаются и ломаются, постройки выглядят заостренными и похожими на когда-то виденные в раннем детстве.
2
Остроконечные серые дома в пасмурную погоду становятся черными. К ним подходить неприятно. Стеньг кажутся холодными, заплаканными, злыми. Темные и таинственные узкие окна смотрят слепыми стеклами, как черные очки у нищего на носу. За ними будто нет никакой жизни или, наоборот, затаилось зло и готово выскочить наружу. Высокие стены узкой улицы зажали булыжные мостовые.
Всюду серые камни подогнаны один к другому вплотную. Текут ручьи у обочин, и вода проваливается в сточные ямы, наливая бездонный живот подземелья. Бьют капли по черепичным крышам, разлетаясь в брызги. Прохожие торопятся и порой чуть не сталкиваются друг с другом.
Мама крепко держит Павла за руку, прикрывая его зонтом, похожим на кусочек черного неба над головой. По широкому натянутому зонту, как по барабану, не переставая стучит дождь. Неожиданно тучи порвались, и сразу перестал дождь, лишь последние тяжелые капли звонко ударялись о зонтик. Выглянуло солнышко и побежало окрашивать в желтый цвет серые дома и улицы. За поворотом показался многорядный строй мальчиков и девочек. Они будто вышли или выросли прямо из мостовой. На всех одинаковая бледно-зеленая форма. Желтые ботинки стучат по булыжникам под барабанный бой. Гетры натянуты до колен, рукава рубашек аккуратно закатаны. Впереди строя вышагивает коричневый солдат, вытягивая носки сапог, как на военном параде. В стороне идет черный полицейский. Все прохожие останавливаются и уступают дорогу, прижимаются к домам и молча смотрят. Кто-то испуганно поднял руку в приветствии и вытянул ладонь, но строй не обратил на него никакого внимания. Мальчики и девочки смотрели стеклянными глазами только вперед и видели только затылки друг друга. У них у всех голубые глаза, очень светлые волосы и гладкие одинаковые прически. Выглядели они не настоящими, игрушечными, сделанными по одному покрою и образцу.
Мама осторожно увела Павла в полутемный двор, за ним были узкие проходы и очень низкие ворота, маме приходилось даже наклонять голову. По дворовым и каменным лабиринтам вышли к какому-то подвалу с железной дверью. Потом в кромешной темноте спускались по вертлявым и сырым ступенькам длинной лестницы. От страха Павлу хотелось закричать или заплакать, но мама успокаивала его и еще крепче держала руку. Она шла в подвале очень уверенно, как будто была здесь не в первый раз. В далекой каморке при тусклом свете сидел у столика папа и обрадовался приходу мамы с Павлом. Он здесь скрывался, чтобы его не забрали в тюрьму. Домой несколько раз приходили коричневые немцы и черные полицейские. Они вежливо расспрашивали маму о папе. Потом щелкали каблуками и уходили недовольные.
Папа очень изменился и мало походил на самого себя. Только голос остался папин и взгляд. Лицо его заросло усами и бородой. Он напоминал старика из соседней аптеки. Там раньше можно было купить кислые таблетки и есть их как лакомство. Аптекаря уже не было, его арестовали, посадили в машину и увезли, а на дверях аптеки повесили замок. Здесь, в подвале, были еще какие-то люди, но где-то в другом коридоре. Их не было видно, только слышались их шаги. Папа скоро распрощался и снова остался один в каморке. Мама еще несколько раз водила Павла в этот подвал. Ходили они тайком от всех, даже от соседей.
Днем Павел любил играть один в небольшом укромном садике у собора Святого Варфоломея. Там сидели с утра до вечера и отдыхали старики. На набережную мама не водила, с реки дул холодный ветер, и можно быстро простудиться. Длинный мост через Дунай был хорошо виден издалека, но ходить к нему опасно, потому что спрятаться негде, а по мосту очень часто ездили машины и мотоциклы, стояли на охране грозные солдаты. Из садика через кусты просматривались улицы и перекресток. Павлу казалось, что в Братиславу приехал большой кукольный театр и стал разыгрывать взрослый спектакль, который не имеет ни начала, ни конца, и нет у него антрактов. Представление не прекращается ни днем ни ночью, и не куклы, а живые люди были артистами. Они исполняли свои роли без запинки. Жители города были молчаливыми зрителями, смотрели на происходящее без аплодисментов, мало кто хотел быть вовлеченным в этот спектакль. Покинуть его тоже никто не мог, не было ни зала, ни дверей, ни выходов, занавеса и кулис тоже нет. Все время стояли одни и те же декорации с флагами и свастикой. Ноги мертвого паука залезли повсюду: на дома, на стены, на людей. В кукольном театре раньше было очень весело. Но Гурвинек давно уже не появляется над ширмой, будто его тоже арестовали и спрятали в тюрьму. Однажды тащили по мостовой к машине за полы длинного пальто черноволосого священника. Он был бледный, с испуганными глазами навыкате. Сначала он что-то кричал и кого-то умолял по-немецки, но потом умолк и прикрыл голову руками. Никто из зрителей не мог подойти к нему, все боялись полицейских и гестаповцев.
– Павел! – строго окликнула мама и чуть ли не силой втолкнула в подъезд какого-то дома.
Очень жалко было человека, но даже самым сочувственным взглядом ему сейчас не помочь. Люди из города уезжали незаметно и неизвестно куда, без шума и проводов. Чаще всего по вечерам или ночью увозили своих детей. На стенах многих дверей и коттеджей повял вьющийся на гнилых нитках хмель, квартиры оставались заброшенными.
Мама работала на обувной фабрике. Она оставляла на обед Павлу бутерброды и бульон. Опять по вечерам приходили за папой и делали обыск. После их ухода в комнатах был беспорядок. Мама долго прибиралась, Павел помогал, подносил и подавал вещи. Потом неожиданно мужчины в длинных плащах и шляпах перестали приходить, будто оставили дом в покое, но мама ждала их снова и волновалась. Больше недели не водила она Павла к папе в подвал. Однажды мама совсем не вернулась с работы домой. И в тот же вечер сосед дядя Иржи спрятал Павла у себя в квартире, посадил за книжный шкаф, чтобы никто не видел и не нашел. Большой, высокий, до самого потолка, шкаф находился прямо в стене. Между ровными рядами книг на полках и стеною было пространство, туда можно попасть только через, невысокую и узкую дверь сбоку, которую закрывало старинное зеркало в человеческий рост. Павлу там не было ни душно, ни страшно, чуть слышно работал где-то у балкона кондиционер и поступал свежий воздух. Через щели и книги пробивался слабый свет.
Дядя Иржи на вид был всегда строгий и молчаливый, на детей он редко обращал внимание, поэтому раньше Павел только низко кланялся ему и ни о чем его не спрашивал. Каждое утро, с большим новым портфелем, в белом воротничке и в черном костюме, дядя Иржи уходил на службу в ратушу. Он никогда не ходил в гости к соседям. Мама с папой с ним тоже только здоровались на лестничной площадке, когда он вечером возвращался с работы. В подъезде говорили, что дядя Иржи очень важный городской чиновник и по пустякам к нему обращаться нельзя, нужно идти только в ратушу, где у него отдельный большой кабинет, и там он может принять посетителей. Жил дядя Иржи один в большой квартире. С приходом немцев его жена с двумя маленькими сыновьями уехала лечиться в Марианские лазни.
Павел просидел в книжном шкафу весь день. Выходил только на кухню поесть да часто бегал в уборную. Широкая полка за книгами была покрыта ковриком, на ней можно было свободно сидеть, лежать и спать. Дядя Иржи не пошел в этот день на службу и изредка больным голосом отвечал на телефонные звонки. Он ничего Павлу не объяснял, только сказал, что так надо, и потребовал благоразумия и подчинения. У дяди Иржи своя тревога и тайна. По тени было видно, как он ходит в большой библиотеке, волнуется и словно кого-то ждет. Часто останавливался, прислушивался к каждому шороху, вздрагивал и досадовал, когда Павел выходил из шкафа по своим нуждам. Ночью пришел папа, и Павла выпустили из укрытия. Узнать папу было почти невозможно. Он помолодел на целую половину своей жизни. В шикарном клетчатом костюме, в рыжих кожаных до колен гамашах и с тростью, он выглядел франтом из театра или коммерческой фирмы. Бороду сбрил, оставил только противные квадратные усики под носом. Кожа на лице его лоснилась, как будто покрыта гримом или хорошо смазана кремом. Они с дядей Иржи очень торопились. Павла нарядили в парадный костюмчик, принесенный папой, и причесали на проборчик. Папа скупо попрощался с дядей Иржи и, не заходя в свою, квартиру, вывел Павла из подъезда.
За углом дома стояла черная легковая машина. В ней сидела какая-то дама, она приветливо встретила Павла. При свете фонарей Павел увидел, что она очень красивая и накрашенная, как киноактриса. Папа приказал Павлу молчать и ни о чем не спрашивать. Долго ехали по улицам города, изредка папа что-то говорил шоферу. Яркий свет фар автомашины ползал по улицам и стенам. Фонари слабо высвечивали силуэты зданий. Островерхие дома походили на декоративные и сказочные. У шлагбаумов машину останавливали и проверяли документы. Папа выходил с дамою, высокомерно и небрежно подавал бумаги. Военные внимательно рассматривали их при свете карманных фонарей. Дама вела себя странно, она разыгрывала то близкую родственницу, то даже маму Павла. Это очень не нравилось ему, он не хотел быть ни сыном ее, ни племянником. Да и видит ее всего-то первый раз в жизни. Поэтому он бурчал и отворачивался от дамы, которая стояла у открытой дверцы. Она нисколько не обижалась и будто не замечала капризов Павла. Папа делал вид, что сердился, повелительно и специально громко отчитывал сына, требуя послушания. Но красивая дама только улыбалась до ушей, успокаивала шутками папу и уговаривала Павла не капризничать. Она вся колыхалась, словно танцевала в воздухе, потом садилась в машину и хихикала, как глупая девчонка. Военные возвращали документы и пропускали машину дальше.
Выехали из города. Дама сразу перестала быть глупой и надоедливой. Она просто сидела и не замечала Павла, вроде его не было рядом. К рассвету проехали несколько небольших поселений, за которыми раскинулись ровные поля посевов, высокие прямоугольные городки хмеля без окон и дверей. Ухоженные, словно недавно высаженные, леса напоминали сады и парки. Пашни и посевы подходили прямо к дороге. Дама устало смотрела вперед, на дорогу. Взгляд у нее был тревожный и немного грустный. Губы она сжала до морщинок, поэтому выглядела не очень красивой. Так и ехали дальше молча, как незнакомые люди. На какой-то станции догнали поезд. Папа быстро купил билет в кассе и вручил вместе с какими-то документами даме. Он спешно отправил ее с Павлом на перрон, оставшись в машине. Дама показала билет, и они вошли в спальный вагон, а черная машина развернулась в стороне от вокзала и увезла неизвестно куда папу.







