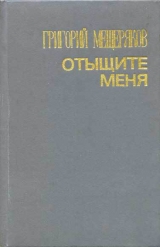
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
– Бабка, как ты можешь такое подумать? – закричал вдруг Севка обидным голосом и почему-то расплакался. Она испугалась слез, стала успокаивать, а потом принялась благодарить и радоваться деньгам.
– Наверное, богатый человек повстречался или какой благодетель подвернулся, Севушка?
– Наверное…
Другого ответа не придумал, а рассказать все откровенно не решился, уж очень Храп походил на жулика со всей своей подозрительной компанией. Они действительно жулики и блатяги, в этом Севка убедился уже на следующий день, когда Кривой совал литеры и откровенно признавался:
– Тебе, Шкет, сразу Храп доверие дал, милость отпустил, смотри не влопайся. На провале дави одно, что ничего не знаешь, а литера, мол, в магазинной очереди подобрал на паркете. Поволындрят и отпустят, как малолетку. Сбудешь сегодня литера, неси сам башли в приют, Храп так велел.
– Это куда?
– Девятая хата от перевозчика, на ставнях ромбы нарисованы, стучи в сенцы подряд четыре раза.
Дом перевозчика в Давлетханово знали почти все, он стоял на крутом берегу у самой воды. Через речку Дему перевозчик возил по четыре-пять человек городских на другой берег, в деревню, а оттуда переправлял деревенских на рынок. По нескольку раз в день он плавал туда и обратно на своей просмоленной лодчонке с неловкими скрипучими веслами, доставляя тех, кто торговал, менял вещи или привозил продукты. Таких в войну стало полным-полно, особенно после наплыва эвакуированных. Брал перевозчик недорого, по трешке с человека, и люди благодарили его за доброту. По косогору от дома перевозчика поднимались деревянные домишки вверх и лишь на холмике выстраивались в улицы и переулки, заросшие густыми изломанными и заброшенными в палисадниках кустами. По ставням Севка сразу нашел нужный дом, который находился в глубине запущенного огорода, далеко от ограды, скрываемой кустами шиповника. С первого взгляда казалось, что в нем никто не живет.
Севка постучал, открыл лохматый урод с одним костылем в левой руке и с оттопыренными ушами. Он молча запер дверь изнутри на щеколду и проводил, в комнату, где стояли лавки и табуретки из толстых тесаных досок вокруг такого же массивного стола. Домотканые половики лежали крест-накрест длинными дорожками. На большой русской печке развалился другой урод и пьяно смотрел вниз. У самой печки квадратный вырез в полу – голбец, какие имеются в каждом деревенском доме. Поверх оконной занавески хорошо просматриваются двор, дорога и переулок.
За столом сидел слепой, на другом конце – Храп и смачно ел картошку и колбасу домашнего копчения. Перед блюдом с отварной картошкой стояла четверть самогонки и лежал хлеб. На кухне за печкой кто-то возился.
– Тенёта! Эй, паскуда! – рычит Храп. – Где там моя горькая? Забыла опять?!
Из кухни вышла молодая и очень красивая девушка с длинными, распущенными до пояса волосами, похожими на конопляную кудель. Она положила перед Храпом большую очищенную белую луковицу и ушла назад. Храп налил себе полстакана самогонки из четверти, выпил и стал с хрустом есть луковицу.
– Давай, Бельмо, халкни граненый, – сказал Храп, наливая второй стакан слепому. Тот ощупью нашел стакан и выпил половину.
– Эй, паскуда, – снова зарычал Храп. – Бельмо жрать хочет, принеси еще шамовки.
– Зря ты Алевтину понужаешь, Храп, – спокойно говорит слепой, – шамовки тут у тебя вдоволь.
– Ты что, видишь, что ли?
– Нюхом чую, – ответил слепой.
– Привередливый ты, Бельмо, – громко смеется Храп, – то тебе не ладно, это тебе негоже. Уж не заришься ли ты на подружку?
– Не по ней хахаль…
Храп довольно расхохотался и принялся опять грызть большую луковицу. Они держались друг с другом на равных, видно, что слепой Храпа нисколько не боялся. Из кухни вышла та самая красивая Алевтина и так же молча поставила на стол миску с гречневой кашей на молоке. Храп звонко ударил ее ладонью по заду и шутливо сказал:
– Тенета, поворачивайся, прислуживай, а то в лахудры разжалую.
Слепой закурил папироску и отвернулся.
Храп отослал Алевтину и продолжал хрустеть луковицей, потом окликнул:
– Костыль, где там Шкет?
– Тут, у порога ошивается…
Храп поманил Севку пальцем. Севка подошел к столу и выложил перед ним пачку денег. В комнате стоял острый и неприятный запах, до тошноты душный, даже глотать воздух противно.
– Похавай, Шкет, шамовочки. – Храп пододвинул блюдо с картошкой, потом сказал слепому: – Прощупай башли, Бельмо.
Храп передал пачку слепому, и тот их стал пересчитывать. Севка не смел присесть, так и ел стоя у стола, брал осторожно картофелину и понемногу откусывал. Храп показал на недопитый стакан с самогонкой:
– Допей, Шкет.
– Я боюсь…
Все дружно расхохотались, и Севке стало страшно от этого смеха. Медленно ел картошку, не решаясь протянуть руку к колбасе и хлебу. В доме оказалось больше людей, чем он успел заметить. Голоса доносились с лежанки русской печки, слышался говор еще нескольких человек на кухне, в чулане кто-то ругался отборным матом и с кем-то спорил. Храп перешел с лавки на два окованных белой жестью сундука, покрытых в несколько слоев половиками, возлег, как восточный царь, и стал ковырять в зубах щепкой. Появлялись и так же неожиданно исчезали за перегородками какие-то противные лица и уродливые фигуры, которых Севке нисколько не было жалко. Даже горбатого, похожего на низкорослого тушканчика, хотя он выглядел совсем больным, тяжело и часто дышал, с трудом набирал воздух и, казалось, вот-вот задохнется. Обитатели дома походили на тараканов, которые выползали из обжитых щелей, а потом опять туда заползали и прятались. Приходили поодиночке еще какие-то девки, двое оборванных мальчишек и сутулый старик. Все до одного приносили деньги, которые Храп складывал в атласный мешок. Алевтина вышла из кухни и подсела к Храпу на сундук. Он положил на ее плечо руку, словно облокотился на подпорку. Слепой отсчитал Севке сто рублей разными помятыми бумажками. Храп махнул рукой, чтоб уходил, и вдогонку сказал:
– Через три дня у тебя свиданка с Кривым, там же, Шкет, на пятаке.
Севка уходя чуть было не сказал «спасибо», но слово это никак не складывалось на языке, да и голоса не хватало. Вышел через какие-то двери у чулана и другой тропинкой направился в переулок к дому перевозчика. На улице дул ветер, собирая дождевые облака, Севке задышалось легче. Притон Храпа был загадочен и страшен. Севке подумалось, что тут в любой момент могут произойти самые невероятные и дикие события. От спиртного запаха и мельтешни уродов осталось дурное ощущение. Севка прислонился к какому-то облезлому дереву, и его вырвало. Еле-еле волочились ноги, захотелось сбросить ботинки и пробежать по воде босиком. Проходя мимо рынка, купил буханку хлеба и спрятал ее под рубаху от глаз завистников. Остальные деньги мелко свернул и засунул в рваный воротник куртки, чтоб бабка не нашла.
Дома выложил буханку на стол и приготовился складно отвечать на бабкины вопросы. Она, увидев целую буханку хлеба, обрадовалась:
– Господи ты боже мой, кормилец объявился! Да где ж тебе так посчастливилось и повезло-то, Севушка?
– Я твои карточки мужику одному продал, Храпов его фамилия. Он добрый. Сегодня, когда меня встретил, попросил, чтоб я ему ботинки продал, пообещал за них десять буханок, эту буханку в аванец выдал.
– Опять неладное болтаешь. Нет, Севушка, ботинки все равно продавать не будем, нельзя тебя совсем босиком оставить. – Бабка засомневалась в правдоподобии рассказа. – Только бы ты, Севушка, не украл чего, не согрешил бы против людей, да и как мы сейчас за эту буханку расплатимся-то?
– Мужик Храпок сказал, что может подождать плату, даже если раздумаем продавать ботинки, и что он может помочь нам, когда нам с тобой будет совсем плохо.
– Конечно, Севушка, богатые и добрые люди пока еще не перевелись, и за внимание их спасибо им… Ан нет ли в этом Храпове какой своей корысти?
– Нет, можешь не беспокоиться.
– Я ведь, Севушка, старенькая и хворенькая уже, не приведись беда какая, я вдруг и умру, а ты еще не вырос, да и отца дождаться надо бы по-хорошему. Чего-то у меня на сердце неспокойно, – вздохнула бабка и достала из-под клеенки недописанное письмо.
В условленное время на базаре Севка косоглазого не встретил. Прождал, продрожал на осеннем холоде битый час и собрался было уходить. Из городского сада вышел слепой и, постукивая по земле своим тонким прутиком, направился к складу. Когда приблизился, то прислушался, потом окликнул Севку:
– Шкет, ты здесь?
– Здесь… Весь уже передрог…
– Сегодня шухер, валяй в приют к Храпу! – И слепой прошел дальше.
В доме у Храпа тепло, натоплено, тот же винный перегар и запах едкого лука. Пьяный Храп просматривая какие-то бумаги и продовольственные карточки, пересчитывал деньги, склонившись над атласным мешком. Он ни от кого не скрывал эти бумажные богатства, зная свою безграничную здесь власть. Уроды, мальчишки, девчонки приходили, сидели поодаль, матерились и уходили. Кто-то приносил свою добычу, другим Храп платил за какие-то темные делишки, о которых Севка представления не имел. Как всегда, тут ели и пили, иногда ругались между собой, и все до одного преданно угождали Храпу, потому что безумно его боялись, немели при свирепом взгляде и готовы были бухнуться на колени, чтоб заполучить его милость. Закончив пересчет, Храп спрятал атласный мешок в сундук. Щелкнул замок. Храп погладил ключ. Он носил его под рубахой на веревочке, как нательный крест. В углу у печки сидел, закинув ногу на ногу, какой-то незнакомый кретин, у которого голова была дыней, а из левого угла рта постоянно текла слюна и он слизывал ее длинным языком. Перебирая струны старой гитары, мурлыкал невнятную мелодию. Пришел слепой, достал большие, во всю ладонь, карманные часы с оборванной цепочкой и передал Храпу, тот взял и поднес к уху. Долго слушал, закрыв глаза, потом негромко сказал:
– Тикают, сволочи, времечко мое отсчитывают, – повернулся к слепому. – Больно тоскливо у меня на душе нынче.
– А ты пришей, пахан, горбунчика. Порешишь, и на сердце полегчает.
– Нет-нет! – панически кричит из угла горбатый. – Пахан, он скалится, он шутит, гад буду, ради понта, паханчик! Сам нарывается дыхалкой на перо!
– А ведь в натуре охота пришить… Саван на горб и под холмик с крестом, – заунывно говорит Храп и неожиданно смеется.
Сначала Севке показалось, будто они разыграли между собой этакий маленький спектакль, но вскоре поднял, что все это было совсем не так. Они говорили об убийстве вполне серьезно, видимо, такое уже здесь случалось. Храп готов был сейчас убить человека для своего куража и развлечения. Сделать такое ему ничего не стоило, это понимали все. Горбатый плачет, егозит в углу, причитает и умоляет:
– Паханчик, ни-ни, а? Паханчик, а?
– Заткнись, в натуре, мразь! – говорит Храп и подворачивается к слепому. – Развесели, Бельмо, а?
Кретин с гитарой стал громко перебирать струны, и тут слепой запел высоким и чистым голосом надрывную жалобную песню. Горбатый вылез чуточку из угла, сел на пол колобочком и слушал со слезами на глазах.
Так тихо луной озарился
Тот старый кладбищенский двор,
И там над сырою могилой
Лил слезы молоденький вор…
Пока слепой поет, все слушают и не мешают. Но после каждого куплета принимаются то идиотски смеяться, точно умалишенные или дети, то визжат истерически и отборно ругаются. Храп не обращал на них внимания, а гладил волосы Алевтины и приговаривал:
– Губки бантиком, да носик крантиком…
На этот раз литерные карточки Севке не дали, чтоб не вызывал на базаре подозрений, а сунули две шерстяные женские кофты, и Храп велел продать за пятьсот рублей. С кофтами, конечно, будет морока, не то что с продовольственными карточками, которые умещались в кармане и шли нарасхват. Стоит только отыскать взглядом и поймать покупателя, потом подойти с боку и полушепотом сказать:
– Литерные карточки не нужны?
– По скольку продаешь? – спрашивает человек.
– На базаре одна цена…
И сделка сделана.
Кофты надо носить на руке в толкучке, показывать и разворачивать. А вдруг кто-нибудь придерется, доказывай потом, что с материнского плеча, все равно дознаются, что не так.
Теперь Севка ходил на рынок каждую неделю и продавал барахло, которое ему всучивали в приюте Храпа. Куш получался небольшой, перепадало меньше, чем когда продавал хлебные или продовольственные карточки. Откуда и как брался этот товар, Севке было неизвестно, хотя понимал, что все от воровства и мошенничества. Для них будто и войны нет, наоборот даже, им лучше живется, полная лафа, как ночь у тараканов. Для пущего нахальства они пользовались своим уродством и выставляли его напоказ. Одни ходили оборванцами, и им это помогало, незнакомые люди жалели их. Другие держались самоуверенно, франтили и носили шикарные костюмы, правда, не всегда по размерам и с другого плеча, поэтому походили на клоунов. Пять или шесть молоденьких девчонок крутились в приюте. Алевтина была самая старшая и выделялась среди них своей красотой. Особенно когда волосы распустит до пояса. Лицо у Алевтины белое, брови в ниточку, глаза черные, на щеках ямочки, когда улыбается.
– Распустила стерва косы, а за нею все матросы… – скажет довольный Храп и намотает на кулак шелковистые ее волосы. Она осторожно освободится, уйдет на кухню, заплетет там косу, окрутит голову венчиком и совсем как на картине живописной станет. Да если еще газовую кофточку наденет и юбку короткую в обтяжку, а на стройные и упругие ноги солдатские сапожки, так совсем принцесса и загляденье. Нет, она не похожа на приходящих в приют девчонок, некоторые из них еще сопливые, почти Севкина ровня. Они каждый день отирались в приюте, получая мелкие подачки и прислуживая здешним обитателям. Одна из них даже к Севке пристала и начала целовать в губы. Так ему пришлось ей в рот плюнуть, только после этого отстала.
– А ну, лахудра, отчаливай отсюда, – скажет какой-нибудь урод одной из них, порядком надоевшей вертлявостью, и вдобавок пнет еще ногой. Обращались с ними всегда очень грубо, словно с дворовыми собаками. Для них и название-то одно было – лахудра. Севка видел их в приюте всегда голодными, иногда одетыми, а то просто голыми. Они нисколько не стыдились. Севка каждый раз отводил взгляд и никак не мог привыкнуть к их виду. Над ними издевались или играли, точно заводными куклами, на них орали, запросто обзывали последними словами. Но лахудры не обижались и сами порой давали отпор. Они тоже приносили добычу, но меньше, чем от них требовали. Потому к ним относились с большим подозрением и недоверием. Иногда некоторых разыскивали в городе, подозревая в «расколе» или доносе. Уроды били их со смаком, больно хлестали по лицу, таскали за волосы, щипали или норовили запустить в них каким-нибудь подвернувшимся под руку предметом. Севка думал, что уроды испытывают особое удовольствие и радость бить, красивых девок. Самым странным во всем было то, что некоторые лахудры при этом еще и себя истязают. Нет, они не защищаются, а истерически визжат, рвут на себе волосы, царапают до крови руки и ноги, иногда даже лицо, бьются головой об пол. После, когда все порядком устанут, то расползаются в разные стороны. Уроды пьют воду из ковша, а девки зализывают раны и кровоподтеки. И снова ползет жизнь в приюте своим чередом, как будто ничего не происходило и никого не обидели. Изредка девки сами между собой дрались, когда вдруг выясняли, кто чья подружка или кто у кого присвоил барахольную тряпку. Они дико и настырно наскакивали друг на дружку, царапались, колошматили руками и рвали рубахи. Уроды их не разнимали, видели в этом для себя веселое зрелище, подначивали и гикали.
Алевтину никто не трогал, грубое слово боялись ей говорить. В отсутствие Храпа слушались ее, как первую подружку пахана, а потому и хозяйку приюта. Голос у нее низкий, даже сиплый, блатные слова произносит так, точно скользкие безобразные лягушки из глотки ее выпрыгивают. А уж если она бьет кого, так только наотмашь, обязательно по лицу. Упавшего еще сапогом не один раз пнёт. Перед Храпом она была безмолвна, как агнец. Когда слепой пел, всегда внимательно слушала.
Ох, бедная рóдная мама,
Зачем ты так рано ушла?
Ты сыну могилу открыла,
Отца-подлеца прокляла…
Слюнявый урод наклоняется, прижимается к гитаре, звонко перебирает струны и покачивает в такт своей продолговатой головой. Голубые неподвижные глаза слепого смотрят прямо на Севку и будто видят все, что он думает.
Голос у слепого высокий, протяжный, грустный:
И тихо луной озарился
Тот самый кладбищенский двор,
Один над плитою могильной
Лил слезы отец-прокурор…
Храп слушает с закрытыми глазами. Никто в этот момент не шелохнется, не мешает пахану. Алевтины на этот раз с ним нет. Нет уже несколько дней, оттого тоска его гложет. Храп не скрывал своего беспокойства, посылал за ней горбатого, самого хитрого из всех обитателей приюта, но тот так и не дознался, куда Алевтина подевалась. Несколько дней в приюте ощущалась какая-то нервная и тревожная обстановка, уроды молчали и прятались подальше от гневных глаз Храпа. Девки носились по городу, как загнанные рассыльные. Прибегали и сообщали, что пока Алевтину нигде разыскать не могут.
– Если, лахудры, завтра не отыщите, задавлю как паршивых кошек! – зло говорит Храп, и те с испугом бросаются снова из приюта, боясь заикнуться о своей доле добычи. У Храпа имелся не один атласный мешок, а несколько, и в каждом деньги, как пух в подушках.
Севка в приюте уже был своим, все знали его и звали Шкетом. Храп смотрел на него как на толкового добытчика и нужного малолетку. Правда, однажды чуть было не обидел:
– Слышь, Шкет, ботинки у тебя шибко фартовые.
– Это отцовы, – соврал неожиданно Севка.
– Коли батин подарок, – вдруг переменил тон Храп, – тогда зариться на них нельзя, носи с богом их всю жизнь, Шкет. Я ведь тебе тоже пахан.
Алевтина как в воду канула. Все уроды и лахудры рыскали по городу, но так ничего и не узнали. Храп то свирепствовал и впадал в неистовство, то подолгу молчал и как-то грустно вздыхал. Севка даже пожалел его. Жизнь в приюте переменилась, каждый теперь жил ожиданием каких-то событий. Слюнявый урод с головой, как дыня, уже не брал в руки гитару, слепой появлялся редко, а Храп слушал другую музыку. Патефон торопливо пел:
С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали под покровом темноты…
После долгих дней мелкого барахольного сбыта Севке повезло. Храп выдал литерные карточки и через три дня велел принести деньги.
– Волоки шесть кусков, – добавил Храп.
Севка продал их запросто, но на второй день страшно разболелся зуб, и прийти в назначенное время он не смог. Деньги дома спрятал под половицу в кладовке, чтоб их не нашла бабка. Она по-прежнему болела, и за ней требовался уход. Зуб покоя не давал, разворачивал скулы, стрелял в ухо, и боль не отпускала ни днем ни ночью. Если бы природа сделала так, чтобы зубы росли, как ногти, тогда бы люди не испытывали адских мучений. Севка полоскал шалфеем, но не помогло, пошел в больницу, и зуб вырвали. Сразу же боль прошла, как будто вытащили из головы острую занозу. Опухоль на щеке спала. Лишь на пятый день Севка пошел в приют, испытывая страх перед гневом Храпа. На улице мороз, ботинки поскрипывают на снегу. Кожа у них мягкая, перед уходом смазал солидолом, портянки теплые и сухие. За пазухой толстая пачка денег, идешь с ними, словно брюхатая баба. Зимой день короток, темнеет рано. Лишь освещают город белый снег да тусклые редкие огоньки в окнах домов. Позади остался дом перевозчика, где на берегу лежала перевернутая кверху дном и запорошенная снегом лодка. По обеим бокам узкой тропинки торчат голые кусты и деревья, того и гляди, в лицо ветка хлестнет. Неожиданно на тропинке появился горбатый. Он словно выкатился из-под куста. У приюта, когда там дележ идет, постоянно кто-нибудь стоял в шухере. Подкарауливал и высматривал подозрительных, в случае опасности подавал знак тревоги, свистел или лаял собакой. Горбатый был в белом полушубке, издали не очень заметном для постороннего глаза. Он слегка пошатывался и гнусавил, видно, опять пьяный. Севка его ненавидел. Он злее и ехиднее других, самый острый на язык, и самый блатной у него говор, без переводчика не сразу смысл уловить можно. Трепаться любит и болтать безостановочно, словами жонглирует и сам своей заумью упивается.
Горбатый, как всегда, тяжело дышал, словно ему не хватало воздуха.
– Стопори, Шкет, приткнись на стрелку.
– Не могу, Храпу башли надо вернуть.
– Валяй в нору, падла. – Горбатый был чуть ниже Севки ростом, крепкий, с длинными, как у обезьяны, сильными руками. Он схватил за рукав и потащил Севку в кусты: – Хаза на цифру заказана, не лепись, пока туман.
– Храп ждет башли от меня.
– Заткнись, падла, пахан законы шьет и марафеты мажет. – Горбатый затараторил скороговоркой. – Каюк, сигнал мигнул, дело амбар, падле могила. Падлюка Алевтина подалась в суки, на заклад вышла и на пахана навела легавых. Один верный мильтон отбил весточку, что сука продала по потроху…
– Одного Храпа или всех?
– Пахана со своей малиной до требухи, – продолжал горбатый. – Пахан от молвы по нервам скрипел зубами. Диваном порешили пришить суку. Мне подфартило, я брал на майдане суку на мушку и приманил на тары-бары. Она чутьем не чуяла засечку понта… Мне, сука, мне болтает, будто хворая, оттого в заначке таилась. Это она заливала, глаза мылом мазала. До хазы причалила с патлами до задницы, как русалочка. Бельмо тут заелозил и навострился от балды. До суда его не было, он в деле с сукой пень, на сговоре дивана не маячил. В приюте тихо-мирно, косых нет. Столонулись в чохе, потом зашли на повтор. Сука сама халкнула граненую парашу, залыбилась до белых резцов, застолбилась к пахану, заластилась на пять кусков башлей. Но, видно, зачуяла, сука, запах краски, в притчу пахана повела, мол, миленький, родименький и любименький, а у самой уже кожа в гусином мураше и в зенках кумек. Хазу законопатили без скреба и шухера. На горизонте ажур, пора самосуд выводить. Кривой заранее топор сунул, незаметно у стояка обжираловки приткнул, лезвие, что бритва остра. Пахан сукины патлы тугим жгутом на кулак закрутил, притянул башку на доски обжираловки, инструмент в хваталке зажал, сок из топорища давит. Тут сука лягавая завыла, ударилась в кассацию, погодясь – в амнистию. Бельмо без удержу раскрыл хайло с перепугу на пахана, а сам не чухнит, с какого боку к обжираловке метить. Пахан ему в левый висок обухом врезал, и оглоед скопытился. Сука змеей гнется, жратье вкривь-вкось филином базлает, перепонки режет. На досках обжираловки гляделки у нее с блюдце вылупились, держалка башки, как у розовой гусыни, вытянулась. Пахан тюк острием… и в лапе одна сукина головешка повисла. Окуляры еще живьем смотрят и лопухи шевелятся, а мешок с титьками шмякнулся на пол, и щупальцы в судороге разок дернулись. Чернило ручьем хлещет, сукина харя сперва красная подыхает, потом бумажного цвета, а под фалды синяя, как радуга на небе. Краска фонтаном льет, пахану кулак от паклей не отмотать. Сыграла в крышку, сука лягавая, получила свое сучье!..
– Брешешь ты все!
Севка почувствовал, как ему стало плохо, к горлу подступил комок.
– В натуре, гад буду натуральный! – клянется горбатый, цепляет ноготь большого пальца за верхние зубы, потом выразительно проводит у шеи. В тишине позднего зимнего вечера мяукнула кошка, горбатый отозвался негромким свистом, подтолкнул Севку и встал.
– Валяй, пока пахан приют не завязал…
Ноги будто сами вели по тропинке, Севка машинально стукнул в сенцы… В комнате семилинейная керосиновая лампа горела ярче обычного. Четко просматривались пятна, полосы, брызги крови на столе и полу. Севке казалось, что вот сейчас он упадет и больше никогда не встанет. Дверца в подполье была раскрыта, И в черноту вела дорожка запекшейся крови. Туда сбросили трупы слепого и подруги Храпа. В углу на деревянной лавке лежала отрубленная голова Алевтины. На глазах стянулись веки, образуя тонкие щели, полуоткрытый рот застыл в какой-то мольбе, перепутались и слиплись в крови длинные волосы. Севке не верилось, что это на самом деле. В комнате находилось человек семь, а может быть, больше. Среди них одна девка, которая куталась в драповое пальто с лисьим мехом и дрожала, как малярийная больная. Остальные, кто сидел и кто стоял, пили самогонку, передавая стакан. Под столом валялся топор с аккуратной белой рукояткой. Красный и потный Храп сидел на табуретке, вытянув несгибающуюся ногу, по щекам его катились пьяные слезы. В доме все пропиталось устойчивым тошнотворным запахом, к которому прибавился еще запах керосина. На полу стоял пузатый бачок с открытой крышкой. Храп зло и торопливо раздавал всем своим подручным деньги. Он доставал их из мешка, не считая, совал по пять-семь горстей каждому; и те быстро прятали деньги по карманам. Севка подошел к Храпу, выгреб из-за пазухи свои пачки, но тот молча сунул их обратно ему за рубаху. Прибежал горбатый и привел с собой, старика, которого Севка видел только однажды.
– Облава, пахан! В сей вечор, а не завтра, – сказал старик. Храп вмиг подскочил, передал из открытого сундука два атласных мешка кривому и сказал:
– Рвем на пару…
Остатки денег раздал другим. Малярийную девку заставил взять семь плотно упакованных банковских пачек и положить их в большую меховую муфту.
Уроды засуетились, втихаря потянулись из дома. Горбатый со стариком взяли бачок и облили керосином стол, стены и пол. Храп смотрел, угрожал, стращал каждого, кому горстями совал деньги!
– Кто заложит, продаст, ссучится, расплачусь другой таксой! Расквитаюсь мокрым делом по всей родне!
Кривой сбил с семилинейной лампы стекло и поднес огонь к столу, вспыхнуло пламя. Храп запрыгал по комнате. Остальные тоже выскочили в сенцы и быстро разбежались. Севку мутило, глаза застилал серый туман, идти было тяжело. Уроды исчезли в ночи, как тараканы, и, наверное, уже были далеко. Севка плелся к домику перевозчика, стараясь не упасть в снег или не скатиться с обрыва. После нескольких шагов силы совсем его покинули, он сел в снег, чтобы чуть-чуть передохнуть. Сзади уже вовсю пылал приют. Пламя вырывалось из окон, пробило и лизало крышу. Когда Севка вышел из переулка, с другой улицы бросились две темные фигуры:
– Стой, стрелять буду!
Севка остановился, и двое подбежали к нему.
– Стой, не шевелись! – закричал один из них, потом несколько удивленно сказал другому: – Да это вроде мальчишка? Ты кто?
– Не знаю…
– А ну, отвечай! Откуда? – спросил рослый мужик и махнул рукой в сторону горящего дома.
– Не знаю…
– А где дружки?
– Не знаю.
– Пошли.
И тот, что пониже ростом, повел Севку куда-то по улице, а второй быстро пошел к приюту. Дом на пригорке полыхал. К нему с разных сторон бежали люди с пустыми ведрами в руках. Пожарных машин в городе не было, а пока подводы запрягут, огонь дом съест дотла. Милиционер привел Севку в КПЗ. Заставили выложить все деньги и расписаться за семь тысяч рублей. Там Севка и придумал себе фамилию Морозов, этой чужой фамилией и расписался в допросном листе.
Керосиновый дым и запах крови преследовали Севку все дни. Во рту горечь, сухо, язык путался в словах и буквах, с трудом произносил их вслух. Ни на один вопрос Севка не мог внятно ответить. Все заканчивалось фразой:
– Не знаю…
В городе поймали несколько уродов и двух лахудр. Потянулись чередой допросы и очные ставки. Севка упрямо не признавал обитателей приюта. Боялся и понимал, что они потом отомстят. Он и в самом деле, кроме кличек, ничего о них не знал. Они у следователя тоже запирались. Через неделю Севку увезли в Уфу, на какие-то комиссии, к новому следователю. Там была очная ставка с Кривым, которого поймали на станции в Чишмах. Он полностью раскололся, признал и выдал Шкета. Даже больше того, что было, наговорил на Севку, но ни разу не упомянул. Храпа. На очной ставке он кричал высоким фальцетом:
– Гражданин начальник! Я чистосердечно во всем признался и добавить к изложенному больше ничего не могу. Не верите, гражданин начальник, так судите!.. Судите несчастного калеку, если у вас нет души и человечности!
Потом Севкино дело рассматривала комиссия из мужчин и женщин. Они тоже о многом расспрашивали и совестили, некоторые жалели, считали Севку круглым сиротой, потому что не знали ни настоящей его фамилии, ни про бабку и родителей. Здесь Севка уже назвался Чижовым, придумал историю, что отстал от матери в дороге к Челябинску, потерялся в Давлетханово и жил, где его приютили. На всех допросах в Давлетханово и Уфе признавался только в том, что продавал хлебные и продовольственные карточки, которые ему давали, сам не воровал. Ему не верили, а доказывать было бесполезно. Про Храпа молчал от страха. Пахана, видно, никак не могли изловить, а то бы устроили очную ставку. Но если тот на воле узнает про «раскол», то обязательно отрубит Севке голову. Наконец привели в небольшую и пустую комнату, где три человека листали подшитые бумаги в толстой папке, задавали уже известные Севке вопросы, споря и переговариваясь между собой. От них он узнал решение: отправить его в детскую колонию на три года будто бы за групповое воровство или спекуляцию в крупных размерах.
Севку повезли в вагоне с решетчатыми окнами и охранником в Болебей. Он устал, и уже было все равно, куда и зачем везут. Когда на полпути поезд остановился в Давлетханово, Севка очень разволновался и чуть было не заплакал навзрыд, но сдержался. Смотрел через окно на знакомую станцию, людей на перроне и очень хотел увидеть среди них родную бабку. Конечно, ее здесь не было. Прошло пять минут, поезд тронулся. Севка старался высмотреть вдалеке хоть краешек своего родного дома, но отыскал только высокую железную трубу городка Осоавиахима…
В колонии Королер спросил:
– По какой статье? По какому делу, в натуре?
Черт ее знает, какая она статья, а о деле лучше не вспоминать, потерять бы память, да и все тут.
7
Лежать в ящике под вагоном жутко, словно в гроб забрался. Мышцы затекают и ноют, не повернуться. Голову бы не высунуть наружу, а то залетная галька в лицо или глаза попадет. Вокруг грохот. Стучат колеса, точно рельсы молотят, оглохнуть можно. Так и ехали вдвоем от Болебея до Аксаково. Там бросили свою подвагонную конуру и пересели на товарняк. Храп на вид уже не тот, что был раньше, здорово сдал, похудел и обрюзг. Отпустил усы и приглаживал их алюминиевой расческой. Он сразу узнал Севку и вроде бы даже обрадовался этой встрече.
– Ну что, Шкет, в Самару потянем?
Можно и в Самару, назад в Давлетханово хода нет. В Куйбышеве, может, в госпитале разыщет отца. Храп выглядел не таким грозным и властным, как на хазе. Он жаловался на судьбу, рассказывал, что фартить перестало, с трудом скрывался. Показывал Севке инвалидную справку и наградной лист:







