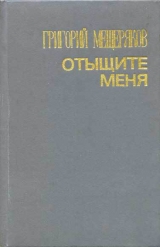
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
– С метриками у меня, Шкет, порядок…
Скорее всего, он выкрал их где-нибудь или подделал. А может, из-за этих бумажек не одного человека убил?
– Кодла почти вся угодила в тюрягу, не посмотрели, что уроды и калеки. Они друг дружку за пшик продали и заложили. Всех бы их в огне утопил! – Но тут же Храп принялся расписывать прелести самарской жизни, будто там лафа, много верных корешей и еще больше башлей.
В Абдулино товарняк загнали в тупик. Они целый день бродили по станции и по базару в поисках жратвы. Храп где-то непонятным образом раздобыл горшок молока и пирожки из лебеды с картошкой. Пили и ели под раскидистым кустом. Внешне Храп напоминал благообразного горожанина с палочкой, сильно хромал, вызывая тем сочувствие у встречных. Когда на станции милиционер проверял документы, Храп ловко играл свою роль и заискивающе говорил:
– Вот, уважаемый товарищ милиционер, еду из госпиталя с сыном, он специально за мной приезжал. Дом родной в Татарии, в Казанской области, значится… Спасибо, что не забыли там меня, искалеченного войной инвалида. Торопимся с сынком, сами понимаете, душа сильнее тела болит. Да вот неприятность вышла, от поезда отстали, за кипятком ходили, чтобы киселя заварить. Попробуем через воинскую кассу на следующем «пятьсот-веселом» уехать. Может, вы, товарищ милиционер, поможете инвалиду войны и посодействуете нам? Очень будем благодарны. А если у вас и без нас хлопот много, то сами как-нибудь управимся… Вы уж не удивляйтесь, товарищ милиционер, что я без орденов и медалей, награды меня еще разыскивают, а дожидаться мне их в госпитале не ко времени, вот пока и ношу одни фронтовые записи на представление…
Настоящий артист этот Храп, так изобразит, что не только дурак, но и умный поверит. Милиционер лишь сочувственно посмотрел и ушел. На узловую станцию Кинель прибыли в тамбуре бензовоза. Железнодорожных путей здесь видимо-невидимо. Рельсы веером и пучками разбегались в стороны, поди определи, куда они ведут, на Куйбышев, Оренбург или обратно в Уфу, без стрелочника запутаешься вконец и заблудишься. Храп, еще не доходя до перрона, достал из потайного кармана потертую медаль, нацепил на куртку, потащил Севку в воинский буфет, что находился сбоку от главного входа вокзала. За стойкой скучала некрасивая, но улыбчивая буфетчица. Военных здесь не было, а штатские сюда не заходили, Храп расчесал усы и принял вид развеселого кавалера.
– Красавице Марусе привет с фронта от живых и раненых! – подмигнул он.
– Товарищ раненый, меня вовсе не Марусей зовут, – смеётся буфетчица. Севка стоял в углу и наблюдал за ними. После того как другая шутка очень развеселила ее, буфетчица тайком налила Храпу стопку водки. Он опрокинул ее, понюхал крохотный бутербродик, передал Севке. Потом опять шутил, веселил буфетчицу, говорил красивые слова, какие произносят прилипчивые ухажеры. Она, не переставая улыбаться, подала ему еще две стопки. Храп захмелел и плел про Севку разные небылицы. То представлял как сына, племянника или братанчика, то с гордостью сообщал, что подобрал в дороге сироту и сейчас пригрел своим вниманием. Слушать его было противно, остановить невозможно. Интересно, как и чем Храп рассчитываться будет с буфетчицей, денег-то у него нет? Теперь буфетчица наливала уже две стопки, потому что Храп пить один категорически отказывался и ломался. Он наклонялся через прилавок, шептал что-то буфетчице на ухо, она громко заливалась смехом, весело отмахивалась или стыдливо закрывала лицо ладонями.
– Неужели это так похабно, Маруся? – гоготал Храп.
– Ну надо же так заливать, товарищ майор! – восклицала она.
Только сейчас Севка заметил всю хитрость и коварство Храпа. Пока буфетчица смеется, тот ловко крадет деньги из ящика прилавка и смятые бумажки засовывает в карман. Он заговаривает ей зубы прибаутками, не спускает с нее глаз, цепко удерживая ее взгляд, а она, точно ослепленная, ничего не замечает. Храп заметно пьянел. Севка подошел к прилавку, тронул Храпа за куртку и тихо сказал:
– Пойдем, пахан, отсюда…
– Видишь, Маруся, сынок уже забеспокоился, – вежливо сказал Храп, вытаскивая мятые бумажки и расплачиваясь с буфетчицей ее же деньгами. Она небрежно бросила их в открытый ящик прилавка, даже не пересчитала. От трех стопок буфетчица раскраснелась, разрумянилась и на клочке бумаги карандашом написала свой адрес. Храп пробежал глазами и воскликнул:
– Благодарю покорно, Нелли! Если мы тут задержимся по военкоматовским делам, то ждите нас к вечеру в гости.
Буфетчица от этих слов совсем расчувствовалась и напоследок угостила Севку сладкой помадкой из патоки, а Храпу продала пол-литру водки и завернула несколько кусочков хлеба с двумя котлетами. Храп пьяно поцеловал ей руку, она еще больше смутилась. Чуть пошатываясь и тяжело опираясь на палку, Храп повел Севку к выходу.
На воздухе было жарко и душно. Солнце палило последними дневными лучами. В полотняной и прочной, как брезент, рубахе Севке было не по себе. Пот стекал с красного свекольного лица Храпа. Поселок от вокзала находился в отдалении, за холмами глубокий овраг отделял его от станции. По насыпи дошли до холма и оказались у оврага, совсем голого, глинистого и пыльного, перебраться через который пьяный Храп вряд ли сможет. Присели у высохшего куста, чтобы передохнуть, и Храп тут же прямо из горлышка выпил полбутылки. Неожиданно преобразился и теперь снова походил на прежнего пахана из приюта. Резко снял тапочки и отбросил в сторону, пьяно приказал:
– Скобли свои подметки, Шкет, попрыгаешь и босиком!
– Нельзя, они подарены… Они отцовы…
– А я тебе кто, дед пихто, что ли? Я тебе и есть натуральный пахан! Кончай кособениться, снимай ботинки! – И Храп крепко ухватил Севкину рубаху. Упираться было бесполезно, жестокость Храпа известна, и Севка снял. Тот свободной рукой натянул ботинки и притопнул здоровой ногой. Пора бы им, наверное, на станцию возвращаться и ехать дальше до Куйбышева, но пьяный Храп не торопился и не выпускал Севкину рубаху.
Солнца уже не видать, вечер наступил быстро. В безветрии все еще духота раскаленного от дневной жары воздуха. Храп держал Севку за рубаху и пьяно молол всякие угрозы:
– Ты, Шкет, не бури, не вздумай рвать, а то ведь нарвешься и… меня в натуре вынудишь…
У Храпа сбудется.
– Служи у меня в напарниках! Возьму тебя в долю, завалю харчем, барахлом и полной благодатью.
Если бы он не так крепко держал эту плотную полотняную рубаху, то Севка бы обязательно рванул от него на станцию, сел бы на любой поезд и уехал с глаз долой.
– Я, Шкет, восемнадцать лет жил в законе и два десятка шатаюсь по статьям и берлогам… Ништяк житуха, а?
Вдруг Храп пьяно заплакал и вытер рот рукавом. Потом он бессвязно вспоминал хазу, уродов и лахудр, горько всхлипывал по «суке Тенете». Уже стало темно, и лишь слабо светилась полоска неба над горизонтом. Храп продолжал пьяные свои речи. Потом примолк, опустил голову и, казалось, заснул. Внизу послышались шаркающие шаги, кто-то тяжело поднимался по оврагу, и вот на холме появился силуэт человека. Храп встрепенулся. Затаенным зверем мгновенно вскочил и бросился в ту сторону. Он грузно, но быстро прыгал, отдаляясь от Севки, и через несколько секунд послышался очень испуганный женский голос:
– Гражданин! Товарищ… что вы делаете? Я буду звать на помощь!
Севке стало страшно, он побежал туда. Храп держал за волосы маленького роста женщину, другой рукой пытался что-то у нее отнять. Она отчаянно сопротивлялась, что-то прятала и прижимала к груди обеими руками.
– Пожалуйста, не трогайте и оставьте! – умоляла она. – У меня ничего нет, это стаканчик меда для очень больной дочери…
Но пьяный Храп пыхтел и издавал какое-то рычание, стараясь вырвать стаканчик. Когда он стал накручивать ее волосы на свой кулак, Севка повис на его руке и вцепился зубами в запястье, словно хотел перекусить. Кулак разжался, Храп отдернул руку и припал на хромую левую ногу. Стакан упал на землю, покатился в овраг. Женщина быстро побежала обратно вниз. Храп так и не понял, кто укусил его. Он зализывал больное место языком и тут же схватил Севку за шиворот. Шатаясь, пошел назад, проклиная мир отборными словами. Сел, допил остатки водки и бросил бутылку в овраг. Потом поволок Севку к железнодорожной насыпи, но на самом уклоне неожиданно упал. Рука его не выпускала воротник рубахи. Скинул ботинки, один положил под щеку, а другой оставил у изголовья. Севка был словно привязан, прикован. Стоило ему пошевелиться, сделать малейшее движение, как кулак Храпа сильнее втягивал воротник. Выдернуть рубаху, скинуть ее или порвать не было сил, крепкое полотно еще больше затягивалось петлей вокруг шеи. Храпу ничего не стоит во сне или по злому умыслу задушить. Поодаль горели огни на станции, освещая рельсы, поезда и похожий на белое пламя пар. Храп бормотал что-то несвязное в пьяном бреду. Но вот он захрапел и машинально еще крепче затянул воротник. Севка упирался руками в землю, чтобы не свалиться. Придвинулся и взял ботинок у изголовья Храпа. Ботинок показался тяжелее кирпича или булыжника. Внизу стучал по рельсам какой-то поезд. Севка обеими руками поднял ботинок над головой Храпа и что было силы ударил углом кованого каблука в левый его висок. И тут же в каком-то исступлении стал беспорядочно наносить удары по щеке, переносице, глазу, пока не почувствовал облегчения, петля воротника ослабла, освободила горло. Кулак разжался, рука Храпа, откинулась в сторону. В отсвете станционных и паровозных огней было видно залитое кровью лицо Храпа. Он не шевелился, лежал на спине, неестественно согнув руку и правую ногу.
Неведомая сила сорвала с места Севку и понесла к огням станции. Севка почти добежал до станции, когда навстречу по среднему пути медленно подкатил паровоз. Не раздумывая, Севка вскочил на подножку какого-то вагона и схватился за поручни. Испугалась толстая баба в платке и крепче обняла свой темный узел. Она отвернулась, но подвинуться не смогла. Навздевала на себя столько, будто едет к северным широтам. Сидит себе в этакую-то жару на подножке неповоротливой торбой и довольна. Застучали колеса на стрелках, поезд набрал скорость и пошел на поворот. Завиделась темной стеной полукруглая железнодорожная насыпь, по которой светлыми зайчиками бежали и прыгали огоньки вагонов. Там, наверху насыпи, один за другим огоньки осветили лежащего человека. Храп был в той же позе. Вдруг все сразу исчезло, словно провалилось в пропасть, в темноту.
– Куда идет поезд?
Севка не узнал своего голоса, прокричал каким-то бегемотом. Баба повернулась, поняла, что рядом мальчишка, и буркнула нехотя:
– Не ори, как оглашенный… В Челябинск, через Уфу…
Прыгать с подножки уже поздно, можно переломать ноги, шею свернуть и погибнуть.
Во рту и на губах горько и противно.
Пора передохнуть, успокоиться.
Весной рано встает солнце

1
Весной рано встает солнце.
Сначала незаметно наступает рассвет.
Потом солнце повисает над землей большим огненным шаром. Совсем не так, как накануне вечером, когда оно плоское и холодное, похожее на желтый лист картона.
Солнце еще не поднялось над домами, а то его лучи пробились бы в спальню и поползли бы по одеялам, койкам, лицам. Хочешь не хочешь, а просыпаешься.
Ранний полумрак еще не отпускает. Видимо, до рассвета далеко. Можно чуточку поваляться, натянуть на лицо одеяло и помечтать.
Заснуть бы еще, поспать бы немного, несколько бы минуточек, их как раз не хватает по утрам. Уно кажется, что он всю жизнь не высыпается. С той самой поры, как началась война, а может, чуть позднее, когда попал в ремесленное училище и заводское общежитие.
В спальне почти всегда кто-нибудь да шумит, одни ложатся спать, другие собираются на смену, Уно ворочается, раздражается и злится, каждый шорох мешает, хоть снова прячь под подушку голову и руками уши затыкай.
Зимой и осенью ложишься и встаешь затемно, летом и весной – с солнышком. Оно спит – и ты спишь, солнце проснулось – ты тоже глаза раскрыл и новый день увидел.
Уно не хочется голову поднимать, отрывать от мягкой и теплой подушки.
Только б не проспать, не опоздать бы на работу. В военное время это преступление. Взрослых судят, ребят ругают и грозятся колонией, сокращают заработки и паек…
Спать хочется что по утрам, что на работе, у станка. Ни шум, ни грохот не мешают, и сон видится вполне натуральный. Заснул на минуту или несколько секунд, и не поймешь, сколько продремал, потому что спишь с открытыми глазами. Испуганно очнулся, и вроде бы полегчало, исчезла тяжесть рук и век.
Жужжит станок, точится деталь, резец, как змеиное острие, едва касается металла и медленно ползет влево. Тонкая стружка вьется спиралью. Вот и опять готова головка к обыкновенному артиллерийскому снаряду. Успевай откладывай в тачку.
Подсобник из новичков почти без передышки всю смену вертится юлой. Постукивает по кирпичному настилу тачка. В конце цеха проведут замеры и отвезут дальше на обработку, в другие руки, там уберут заусеницы, зачистят, отполируют.
Со стороны поглядеть, снарядная головка, точно игрушка, поблескивает.
В третьем цехе штампуют корпуса. Там работают люди повзрослее, больше женщины, есть старики и инвалиды. Цилиндры тяжеловаты, не каждому мальчишке поднять, туда посылают и фэзэушников, они как-никак старше ремесленников и посильнее. Скоро туда переведут и Уно. Мастер Игнатий надоел, неотступно над душой стоит. Чуть что, он уже здесь, рядом. Раз семь или больше замерит. Прикинет штангенциркулем и прищуривается, приноравливается, к любому зазору придирается, хотя понятно и без него, что не детские игрушки тут делают.
В седьмом цехе подгонят головку к корпусу вплотную, соберут, упакуют и быстрым ходом на фронт. Их сотнями, тысячами и миллионами отправляют через Ирбит и Свердловск.
А если раскинуть умом и посчитать, так на одного гитлеровца, наверное, по десять снарядов придется, не меньше. Вот бы только каждый этот снаряд метко угодил в одного фашиста, тогда бы определенно война раньше кончилась.
В начале войны все вокруг говорили о скорой победе. Пока никто из фронтовиков не возвратился, кроме инвалидов. Да не переставая шли похоронки. Кто-то больше никогда не вернется и нигде не появится.
Вот и отец, и родные братья Уно… Но их надо помнить живыми, а не погибшими.
Раза два Уно ездил в Ирбит помощником экспедитора, таков здесь порядок. Груз оборонный, вооруженные охранники держались в стороне, каждый на своем посту, а с бумагами ехал заводской представитель и брал с собой помощника.
О поездке распорядился мастер Игнатий. Строгий и сгорбленный, с очками на кончике носа, он долго стоял у станка Уно, работу останавливать не разрешил. Показал жестом, чтобы Уно приблизился, и закричал в самое ухо:
– Ванек! Поедешь-ка, однако, в Ирбит, груз военный сопровождать. Твой черед, однако, подошел! Понял, однако, Ванек?
Уно к имени этому уже привык, здесь все так его звали. Однажды кто-то сказал:
– Уно в переводе с эстонского на русский значит Иван…
Сопровождать груз многие хотели и просились. По дороге можно нормально выспаться в переходном тамбуре товарного вагона, да и сухой паек выдают сытный.
Ирбит больше Туранска, но Туранск уютнее. Здесь Уно родился, бегал, играл, рос. Все-то ему привычное, все места знал и облазил.
За лесом полигон и стрельбище, там снаряды проверяли на разрыв. Туда штатских не пускали. Военная зона была огорожена и охранялась.
Порой там так бабахнет, что стекла дрожат в домах по всему городу. Люди вздрагивали, но в конце концов привыкли и не удивлялись. Особенно хорошо слышно ночью, когда резко доносятся взрывы. Вслух о полигоне и снарядах не заговаривали, боясь раскрыть военную тайну. На заводе расписки давали и молчали, чтоб под трибунал не попасть.
Снаряды часто рвались, залп за залпом. Жаль, что вхолостую, а не на фронте.
Когда была жива Зинка Доброволина, то почти на каждом десятом снаряде делала надпись, чаще мелом, реже белой краской: «Смерть фашистским гадам!» Никто ее не просил, писала по своей воле. Позже надписи делали другие ребята, но не так аккуратно и четко, как Зинка.
Уно знал ее по ремеслухе, учились только в разных группах. После окончания училища Зинку направили в седьмой цех, там девчонкам было полегче.
В спальне по-прежнему тишина. Ребята спят, а кто-то, наверное, притворяется.
Доносится отзвук работающего завода. Невдалеке от общежития – корпуса цехов, а слева – наспех сколоченная проходная.
Из конца в конец по спальне муха летает и жужжит. Поднял голову Рудик Одунский. Осмотрелся спросонья, повернулся, увидел Уно:
– Скоро подъем?
– Не знаю, радио молчит.
Одунский тут же снова завалился, закрыл глаза и уснул.
Рудик Одунский часто рассказывал про Ленинград. Расхваливал так, будто на всем земном шаре нет красивее города. Улицы там прямые, здания похожи на райские хоромы, а мостов и фонтанов не перечесть. Только вот вода в Неве всегда черная.
Ленинград совсем недалеко от Эстонии. Уно часто слышал, как отец и мама вспоминали свои родные места, но уезжать туда из Туранска не собирались. Уно запомнил, что там небольшие и редкие леса, россыпь хвойных шишек, одинокие хутора близко стояли к морю, оттуда постоянно набегали дождь и прохлада. Мама, еще девочкой, носила на берег чайкам мелкую рыбу, которую ей давали рыбаки с лодок. Чайки ловко хватали пищу на воде и в воздухе, поднимая громкий крик, как будто сердито ругались или обиженно плакали. На речке Туре этих птиц не было. В молодости отец и мама ходили в лес с корзинами, собирали грибы, ягоды и какие-то вкусные травы. Лес в Прибалтике, по их рассказам, не такой, как на Урале. Здесь в бескрайней и почти безлюдной тайге запросто, можно заблудиться. Когда родители вспоминали о прошлом, Уно всегда казалось, что они рассказывают друг другу свою счастливую сказку…
– Сколько времени? – снова спрашивает Рудик.
Опять ему тревожно спится. Во сне он часто плачет, а Петро Крайнов по ночам кричит.
– Не знаю, еще рано…
Рудик отвернулся к стенке.
Часы у одного только Крайнова. Он дорожит ими так, точно жить без них не может.
Не стоит сейчас будить его, Петро может вскочить с постели и бежать черт знает куда и от кого, пока не очухается.
Пусть отдохнет еще малость, время и без его карманных часов дойдет до утра. А заводской гудок позовет на смену и отпустит с работы.
На заводе много цехов и служб. Уно толком все не помнил. В политотделе работал лишь один начальник, без помощников, заместителей и подчиненных. Год назад начальницей политотдела назначили Полину Лазаревну, мать Зинки Доброволиной. Она приехала работать завучем ремесленного и вела уроки истории. По выходным проводила политинформации и воспитательные часы. Многие спервоначалу удивились, почему назначили женщину, но потом поняли, что найти подходящего мужчину на заводе не просто. Ребятня втайне побаивалась нового начальника политотдела.
Нередко Уно слышал, как кто-то предупреждал:
– Атанда, комиссарша на подходе!
Любые проказы и баловство сразу же прекращались.
Кто прозвал ее комиссаршей, неизвестно, но она и в самом деле внешне походила на комиссара. Характер у нее был твердый и строгий, потому-то и слушались. Если вызовет к себе, значит, неспроста. Нагоняй такой выдаст, у провинившегося поджилки трясутся.
– Как я ни храбрился и ни хорохорился, а повинился сразу, чтоб скорее отпустила, – говорил как-то Юрка Сидоров.
Уно пока еще ни разу не попадался под гнев комиссарши.
– Нотации ее, морали и отчитки хуже любого наказания, – продолжал Юрка Сидоров, – лучше бы вицею отстегала… А то перед ней стоишь, как дурак, и сгораешь от позора.
Юрке Сидорову не раз случалось стоять перед комиссаршей. Парень он простецкий, деревенский, и сбить с толку его можно запросто. Одно время он «Вите-миллионеру» плел лески из конского волоса в две-три нитки, с невидимыми узлами, а тот торговал ими или дарил эти лески выгодным людям. На Туре рыбалка хорошая. Смельчаки и зимой из проруби таскали окуньков, ершей и подлещиков. Лошади на конном дворе завода выглядели чуть ли не куцыми, безгривыми и бесхвостыми. Однажды раскрылось, чьих рук дело, и Юрке попало от комиссарши. В другой раз настругал он рогаток для Севмора, и тот продавал их городским пацанам. Был и более ходовой товар. Юрка Сидоров и Севмор делали зажигалки да алюминиевые пуговицы из трубок разбитых трофейных самолетов и быстро сбывали за проходной завода.
Взрослые тоже побаивались комиссарши и не очень-то с ней спорили, силу ее чувствовали и были почтительны. Уно ни разу не слышал, чтоб она бранилась или громко кричала. Наоборот, у нее голос тихий, низкий и хрипловатый, наверное, оттого, что много курит, цигарку изо рта не выпускает.
Отыскать Полину Лазаревну можно в любое время, словно нет у нее ни отдыха, ни сна.
Глаза комиссарши всегда красные и невыспавшиеся.
Ходила она и зимой и летом в потертой кожанке. С наступлением больших морозов куталась в белый полушубок.
Они с Зинкой жили в центре города. У них там была комната, которую выделил завод. Приехали они в Туранск откуда-то из Челябинской области, по военному направлению. Так, вдвоем, каждый день и ходили вместе на механический. Туда и обратно, утром и вечером.
Зинка никогда не опаздывала, ни на учебу, ни на работу. После ремеслухи ее устроили в седьмой цех на шлифовку и зачистку, но потом по болезни перевели в девятый к учетчикам. Там полегче, воздух чище, и дышится посвободней. Зинка давно болела и долго лечилась в лесной школе. Она нравилась Петру Крайнову, он писал ей тайные записки. Зинка скрывала это от всех, и от Полины Лазаревны тоже. Петро, наверное, предлагал ей дружить, хотя сам держался с девчонками странно: то сторонился и проклинал, то, наоборот, приставал и привязывался, грубо хватал их и лапал. У Зинки тоже бывали свои странности. Ее можно было встретить вдруг мечтательной и тихой, будто ничто ее не трогает и не волнует, а то совсем неожиданно, ни с того ни с сего, без всякой причины она становилась очень возбужденной и восторженной. Глаза блестели, как у пьяной, говорила взахлеб, стараясь до конца выговориться. Злой Зинку мало кто видел. Ее хотели сделать комсоргом группы, но не выбрали по болезни.
Все знали, что Зинкин отец на фронте с самого начала войны. Он служил командиром взвода разведки на передовой. За подвиг при окружении немцев на Украине ему присвоили звание Героя Советского Союза. Зинка иногда показывала единственную фотографию отца. Больше у нее никакой не было, как будто он никогда не фотографировался или все фотографии сгорели при пожаре, куда-то исчезли. Сфотографировался он, видно, на какой-то важный документ, в новенькой гимнастерке с Золотой Звездой и капитанскими погонами. Голову держит прямо, лицо выбритое и моложавое, но сам весь седой, как старик. С фронта он два раза в месяц писал в Туранск. Если какая долгая задержка, то это сразу видно было по Зинке, она ходила сама не своя, еле-еле сдерживала слезы, подбородок ее дрожал, и губы вытягивались в ниточку.
Он писал на двух листах. На одном, мелко и много, – Полине Лазаревне, а на другом – для Зинки, там слов поменьше и разборчивее…
Зинка умерла от скоротечной чахотки в такой же пасмурный весенний день, какой сегодня встречал Уно, поглядывая в окно и не вылезая из-под одеяла.
Она умирала в полном сознании, ей не хватало воздуха. В тот день у них дома был Петро, и он все рассказал ребятам. С утра Зинке было очень хорошо. Она встала с постели и легко ходила по комнате, помогая Полине Лазаревне приготовить завтрак. Когда пришел Петро, она даже спела ему веселую песенку про какого-то Августина, и всем им показалось, что наступил перелом в болезни, Зинка начала выздоравливать. Но вдруг она стала задыхаться, очень испугалась и с трудом улеглась обратно в постель. Полина Лазаревна распахнула окна и дверь, как безумная, махала на Зинку полотенцем и дула ей в рот, но Зинке дышать становилось все труднее и труднее. Сначала она дышала очень тяжело, хватала воздух губами и жадно глотала, потом Дыхание стало частым и неглубоким. Лицо приняло застывшее выражение, взгляд безразличный ко всему, чуть вздрагивали полураскрытые губы. Через несколько минут незаметно закатились глаза, веки полуприкрыли белки, дыхание остановилось. Зинка лежала неподвижно. Казалось, что жизнь ее ушла через открытые окна и растворилась где-то там, в неизвестности.
Петро запомнил все подробности, и когда рассказывал, то Рудик плакал, шмыгая носом и вытирая слезы. Ребят словно придавило какой-то большой тяжестью, которую сбросить не хватало сил. Ведь еще неделю назад видели Зинку, смеялись, болтали наперебой, и каждый хотел развеселить ее, как царевну Несмеяну. Зинка никогда не была капризной, она радовалась и всем улыбалась, правда, ходила и передвигалась с трудом, медленно. Худенькая, как былиночка, она очень изменилась, кожа на личике тонкая, бумажная, на щеках два розовых пятнышка. Выделялись одни глаза, огромные и красивые, похожие на две черносливины. Иногда Уно хотелось сесть напротив Зинки и рассматривать ее большие темные глаза, взять в руки ее волосы и перебирать их, но стыдливость перед ней и страх перед Петром отгоняли эти желания. Зинка была невысокой и стройной. Пуловер, который она носила поверх платья, еще больше подчеркивал ее фигуру. Севмор однажды вслух похвастался, что пощупал Зинку. На него налетел Петро с кулаками. Сперва никто понять не мог, из-за чего завязалась драка. Севмору, хотя он был блатной и ловкий, досталось все же больше, синяк под глазом расплылся, и щека опухла. Петро очень ожесточился, потому и сила была на его стороне.
Севмор растирал ушибленные места, обиженно и жалобно говорил, похрипывая:
– Нашел, в натуре, из-за чего!
– Из-за кого! – кричал на него Петро. – Из-за человека!
После смерти дочери Полина Лазаревна перестала ходить домой. Говорили, что она пустила квартирантов и жить стала на механическом. Спала в красном уголке.
С фронта по-прежнему два раза в месяц приходили письма, один листок обязательно для Зинки. Полина Лазаревна ничего о дочери не сообщала на фронт. Вот уже ровно год пишет отец письма своей умершей дочери и, наверное, так ничего и не узнает до конца войны. Одиннадцатого апреля прислал фронтовую открытку, поздравил Зинку с днем рождения. Ей исполнилось бы пятнадцать лет.
Полина Лазаревна переживала горе в себе. Комиссарша осталась вроде бы такой же, как и прежде, но взгляд ее был тяжелым и усталым. Запали глаза, и врезались в щеки две глубокие морщинки у рта, улыбка появилась странная, как после слез.
На могиле Зинки поставили деревянный столбик с металлической красной звездой.
Снова в жизнь Уно вошла смерть, снова были похороны, могилы.
Кладбище напоминало мертвое городище, в котором холмы и надгробия, как дома без окон и дверей, вытянулись в ровные ряды улиц.
На могиле мамы стоит деревянный памятник. Когда-то сосновые доски были желтые, на них выступали слезы светлой смолы. Теперь доски уже коричневые, с черными трещинами. Памятник невысокий, на венчике католический крест. От времени потускнела надпись: «Клара Оттовна Койт. 1899–1944».
2
Уно всегда любил раннее весеннее утро. Но чуть зазевался, опоздал с подъемом – успевай и догоняй время. Прежде незаметно будила мама. Она ласково прикладывала ко лбу ладонь, гладила по волосам, пока Уно не откроет глаза. Он просыпается медленно и смотрит на маму, видит доброе ее лицо, гладкую прическу и немного печальные голубые глаза.
Она гладит и негромко говорит:
– Вставай, Уно-мальчик, пора…
По-русски она говорит плохо, с акцентом, слов знает мало. С трудом понимает, шевелит губами и переводит в уме на родной язык. Мама нигде никогда не училась, осталась на всю жизнь неграмотной, ни читать, ни писать не умела. В последние годы это делал за нее Уно, даже расписывался, когда это требовалось.
Отец хорошо говорил по-русски, братья тоже, они отлично учились в школе. Хари окончил школу еще до войны, Арво и Георг – в самом начале. Они были старше Уно. Мама очень гордилась ими и не скрывала это от людей.
Она никогда не жаловалась на судьбу, очень не любила ворчливых и недовольных жизнью людей.
Отец познакомился с мамой в Эстонии еще до революции.
В гражданскую войну он воевал против белогвардейцев на Восточном фронте. После гражданской войны он вызвал маму к себе в Сибирь. Потом они переехали на Урал, в Туранске он остался работать лесничим. Родился Хари, появились Арво и Георг, последний Уно.
– Лес не любить невозможно, – рассуждал отец, – уж так на земле устроена природа, жизнь и человек. На нашей родине, в Эстонии, не так много лесов, как бы хотелось. Поэтому я полюбил его здесь вдвойне. Лес – это такая же драгоценность, как и золото, только золото находится глубоко в земле, а растения на поверхности, рядом с человеком. Золото спрятано и охраняется горами, деревья же открыты и злу и добру… Кроме человека, защитить лес некому. Сыновья мои и их дети должны об этом помнить, чтобы не навлечь на себя проклятие людей…
Обычно отец больше молчал. Он любил тишину в доме, в лесу, который объезжал два раза в неделю и встречался там с лесниками.
Перед войной мама заговорила с отцом о возвращении в Эстонию. Туда можно было вполне свободно уехать, Эстония стала советской. Но отец заупрямился.
Наконец все-таки смягчился, мама его уговорила. Понемногу стали собираться, но только на побывку, чтобы показать детям Эстонию. Отъезд не состоялся, помешала война.
Мама работала швеей. До войны шила рабочие комбинезоны, а позднее – зеленые телогрейки и солдатские шапки.
Дом лесничего на кордоне стоит у самого бора. Уно приходилось отмеривать пять километров до города в один только конец, тратить на это час, если не очень торопиться и идти спокойно. На подводе отец не подвозил, не хотел баловать детей, оберегал служебную лошадку. Исключение делал только для мамы зимой, в мороз или пургу.
Летом он разрешал Уно прокатиться на лошади верхом. Братья же не проявляли никакого к этому интереса. Они были сдержаннее и серьезнее Уно, детских забав не признавали. Летом в каникулы они работали на лесозаготовках и приносили зарплату.
Однажды осенью в доме наступил большой и хлопотный праздник: Уно отправляли в первый класс. Провожали его всей семьей. Больше всех улыбалась мама и не могла скрыть радости, словно сама пошла учиться в школу. Вечером его встретили и долго, расспрашивали. Уно тогда очень много хвастался, и никто его не остановил…
В первые месяцы войны братья записались добровольцами. Они поступили в одно танковое училище и уехали в Карелию. Оттуда часто писали. Потом письма приходили уже с фронта, из одной воинской части. Мама волновалась и молилась за них. С надеждой смотрела на отца, будто бы он знает больше, чем она, и больше, чем другие, потому что он грамотный, образованный и может подробнее сообщить что-либо о сыновьях, о войне.







