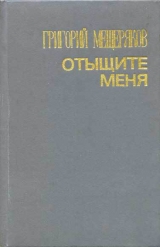
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Что там произошло?
Они ответили:
– Провалились две машины.
Рудик спросил:
– Детдомовские?
Никто на этот раз не ответил, да и мотор зарычал вдруг так, что все равно не расслышишь и не разберешь слова. В стороне глухо рвались снаряды и доносился треск ломкого льда.
Ехали почти до утра, наконец выехали на твердый берег, где стояли голые деревья и было много встречающих военных.
Все осталось позади…
От Волхова поехали поездом. Вагоны битком заполнены детьми, пройти и повернуться негде. Было темно и душно, но ни шума, ни голосов не слышно, все сидели тихо. Рудик узнал, что детдомовцев в их вагоне не было, в соседнем тоже. Кто-то из ребят сказал, что одна машина с детдомовцами провалилась под лед на озере. В Тихвине прицепили еще два вагона. Сопровождающие приносили кипяток и раздавали еду. Каждому доставалось по крохотному кусочку хлеба и такому же ломтику американской колбасы. В Бабаево и дальше стали кормить теплым супом, который разливали по кружкам. В дороге Стригунина пересчитала всех и сверила документы. Начиная от Вологды, лакомились бутербродами с маслом, пили молоко, соки и чай. Стригунина почти на каждой остановке выходила и давала телеграммы, чтобы родственники встречали ленинградских детей на станциях прибытия. У нее был в тетрадке очень длинный список на нескольких страницах, в котором она делала пометки, кому и где выходить. Кто-то из ребят назвал ее «адресной книгой».
Стригунина разыскала Рудика. Она сделала отметку в своей тетрадке и выдала рюкзак с баулом. В рюкзак положила буханку хлеба, две банки рыбных консервов и американские сэндвичи в алюминиевых коробках. Завернула в чистую тряпку красную квадратную колбасу и пиленый сахар с пачкой чая, в угол рюкзака поставила бутылку желтого сока. Поезд всего лишь на одну минуту остановился на станции Верещагино, хотя на других до этого мог проторчать сутки.
Рудику вдруг очень не захотелось оставаться на этой маленькой станции одному. Стригунина энергично вертела головой из стороны в сторону и, не спускаясь с подножки, кому-то махала, кого-то звала, но потом прощально погладила по голове Рудика и помогла ему спрыгнуть на насыпь.
– Одунский! – крикнула она. – Если что не то, иди в районо и покажи там документы. До встречи в Ленинграде!
В окнах вагонов проплыли ребячьи лица…
6
Василию стало немного лучше. Он сходил в баню, долго парился, исхлестал до мочала веник, вышел красный и помолодевший. Хворь вроде бы отошла, отпустила, но наутро он опять занемог. Горбатая Руфа взялась было нашёптывать над головой Василия, как колдунья, но потом позвала знахарку, что жила через дорогу. Та загадочно заговаривала болезнь, и за все это Василию пришлось заплатить. Снова приходил фельдшер, выписал рецепты. Рудик бегал в аптеку и выкупил два флакона душистой микстуры. Руфа попросила денег, накупила разных сушеных трав, смешала, заварила и настояла. От этих настоев Василий приободрился и вроде бы пошел на поправку. Но от денег уже ничего не осталось. Василий ел все ту же похлебку, не поднимая глаз, словно стыдился и хозяйки и Рудика. Поест самую малость и долго благодарит старуху, она лишь молчит в ответ или уходит из избы во двор. На промкомбинате про него, видно, уже забыли. Василий стал чаще слезать с печки, садился на табурет или ходил по комнате. Он брал для чего-то портфель, раскрывал его, рылся, смотрел без дела и снова закрывал. Наконец однажды вытащил мандолину, обтер аккуратно ладонью, точно в последний раз погладил ее, и понес на кухню. Рудик вдруг впервые услышал высокий и громкий голос горбатой Руфы:
– Бог с тобой, Василий! Очумел ли, ще ли? На кой ляд мне твоя балалайка? Не смеши людей, не позорь меня, ради Христа! В уме ли ты, чтоб я на базар ее снесла! Пока сам жив да на ногах, она тебе боле сгодится. Хороша ли, плоха, а вещь твоя. Ужо как-нибудь…
Василий вышел из кухни пристыженный и хмурый. Втянул голову в плечи, ссутулился и позвал во двор Рудика. Там твердо и упрямо, подбирая слова, путаясь, заикаясь, сказал:
– Вот что, Рудик, значит… Неси мандолину… туда, значит… на базар. Пришло такое… значит, получается… время, Рудька… Ничего другого не получается… значит… не поделаешь, одно спасение… Ты понимать должен это… что на время нам будет полегче… вот пока я совсем не окрепну… Смотри, не продешеви… задарма, значит, не отдай, не проторгуйся. Проси тыщу рублей… и весь там расчет.
– Не понесу я, а если силком заставишь, тогда я убегу от тебя!
На Василия это так подействовало, что он побледнел, быстро заморгал глазами и вытер пот со лба. Помолчал, наконец выговорил:
– Ты нехороший, Рудька… Совсем не слушаешься… и очень плохо сейчас сказал… Ладно, пусть так… будет по-твоему. – И он положил мандолину назад в портфель.
Через два дня они пошли на пристань. Не осталось ни денег, ни провианта, хлеба уже целых две недели не пробовали. Горбатая Руфа тоже хлебала свой суп без хлеба. Василий тяжело опирался на посох и часто присаживался передохнуть. С кончика носа его и со щек стекал пот, борода и усы были мокрыми. Рудик держал его за руку и нес под мышкой портфель, в котором лежала лишь мандолина. Скоро должен был причалить пароход, и Василий очень рассчитывал на жалобную мандолину. Они долго шли и молчали, только изредка Василий кряхтел и говорил одно-два слова на своем языке.
У пристани уже было полно народу, ожидавшего пароходы снизу и сверху по Каме. Народ разношерстный, в основном старики да бабы с малыми детьми, тут и там опять сновали подвыпившие калеки. На лавках в зале ожидания теснились люди. Одни, сидели, другие лежали, спали на полу, на скамейках. Однорукий мужик зажал между колен буханку по-деревенски испеченного хлеба и левой рукой ловко отрезал ломоть. При виде разрезанной буханки у Рудика к горлу подступила тошнота, почти так же, как тогда, в голодном Ленинграде. Василий тоже слегка пошатнулся, и на осунувшемся его лице заблестели жадные глаза. Мужик завернул буханку в темный платок и положил рядом, на большой узел, а сам аппетитно жевал ломоть. Василий сел на краешек дальней скамейки и достал из портфеля мандолину. Руки его не слушались и тряслись. Мандолина дрожала, мелодия получалась такая фальшивая, что петь под нее просто невозможно. Но цыган все равно подтолкнул вперед Рудика.
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет…
Я остался сиротою…
В общем, шуме, гаме и топоте совсем не было слышно, как дребезжала мандолина и жалобный детский голос тянул слова песни. Некоторые все же повернули голову, но остались безучастными. Другие вроде бы не видят и не слышат. Никто не разжалобился, никто ничего не подал. Рудик пел, превозмогая самого себя. В конце концов оборвал песню чуть ли не на полуслове. Подошел к Василию, взял у него мандолину и положил обратно в портфель. Однорукий мужик, приклонившись к узлу, уже спал крепким сном, и ничто, казалось, сейчас его разбудить не может. Василий сидел и не знал, что делать дальше, только смотрел на людей печальным взглядом и словно просил их о чем-то. Так со стороны может смотреть только очень голодный и забитый зверь, готовый исполнить любую прихоть окружающих. Василий медленно поднялся в рост и, видимо, приготовился протянуть руку, попросить у людей милостыню. Но вдруг послышался гудок парохода. Народ словно взорвался и ошалел, все вскочили со своих мест и потащили мешки, узлы, чемоданы. Василий с неожиданной ловкостью подскочил к спящему однорукому мужику и быстро схватил платок, в котором был хлеб. Опираясь на палку, он влился в толпу, и поток вынес его к выходу, а там дальше на улицу. Рудику было не пробиться за ним. Захотелось очень громко закричать на старика, чтобы он одумался и бросил немедленно этот платок с буханкой хлеба. В это время от шума и топота проснулся однорукий мужик и отчаянно, прямо душераздирающе заорал:
– Караул, ограбили! Держи вора!
Рудик уже был на улице и бежал к Василию. Тот, выбиваясь из сил, трусил в сторону от причала, постукивая палкой по мостовой.
– Держи вора-а! – уже орало несколько голосов.
Конечно, Василия увидели и уже бежали вслед за ним. Тогда старик бросил платок с хлебом на землю и повернул в другую сторону. Рудик еле успел догнать его, но тот резко приказал:
– Беги, Рудька, на пароход! И айда в Оханск!
– Нет!
– Беги, я тебя разыщу! – И он больно толкнул Рудика вперед.
Большая толпа уже толкалась у причала, ожидая посадки, чтобы ринуться на прибывший пароход очертя голову. Другая толпа, поменьше, настигла Василия и окружила кольцом.
– Сволочь!
– Ворюга!
– Бродяга бездомная!
Цыгана крестили на чем только свет стоит, самыми отборными ругательствами, какие только есть.
– Чего с ним церемониться, задницей его о мостовую! – кричит какой-то самый озлобленный мужик.
– Нельзя! Это самосуд! – возразил кто-то.
– Не качай права, сами знаем! Сади того жопой на кирпичи, вот и весь приговор!
Толпа распалялась. Потом вдруг разом ахнула и расступилась в стороны. Василий нелепо сидел на мостовой и тяжело опирался на обе руки. Рядом из порванного портфеля торчала истоптанная и сломанная мандолина.
На причал уже перекинули трап, и, загудев на разные голоса, затопав ногами, толпа ринулась по сходням на пароход, началась давка. Кольцо вокруг Василия уменьшалось, люди побежали к дебаркадеру. Но кто-то еще истошно орал:
– Где-то тут евонный напарник, чернявый цыганенок такой… Лови его, гаденыша!
Василий медленно поворачивал голову, отыскивая слезящимися глазами Рудика, из носа, рта и ушей его текла почти черная кровь. Увидев Рудика, он мотнул головой, чтоб тот немедля исчез, и тут старик упал навзничь. Боясь расправы, Рудик бросился в толпу на причале. Зажатый узлами, одеждами, сапогами, протиснулся он к трапу и оттуда с трудом проскочил на палубу. Там уже метались, как сумасшедшие, счастливчики, искали и занимали выгодные места. На корме лежали какие-то бочки, связки цепей и мотки толстой проволоки. Рудик, словно мышь, залез вовнутрь одного мотка, спрятался от глаз и выглядывал через щели на берег. Там на мостовой лежал Василий, толпы вокруг него уже не было, и милиционер в синей форме тщетно пытался поднять его. Причал заметно опустел, послышались команды, колокольные удары, глухой и долгий гудок. Топали и стучали по палубе, раздавалась ругань я брань. Несколько человек забрались поверх мотков, в одном из которых скрючившись сидел Рудик, и загородили от него ногами пристань. Пароход медленно отчаливал и разворачивался. Теперь Рудик видел только воду, а берега куда-то пропали. Слышно было, как кто-то ходил по корме, проверяя или продавая билеты, окликая кого-то и заглядывая за бочки. Позади остались Аса, мостовая, пристань. Впереди видна одна черная и неспокойная вода.
Надо бы передохнуть

1
Надо бы немного передохнуть.
У лесопилки холодно и пыльно. Круговая пила визжит. Закладывает уши и звенит в голове. В опилках тонут ноги. Ботинки тяжелые, настоящие кандалы, с трудом ноги переставляешь. Севка уже привык к ним. Ботинки почти в аккурат, кожа у них толстая, заклепки прочные, подошва окованная. Когда топают по твердому настилу, так словно гвозди в доски вбивают. Вообще-то, ботинки велики, они впору взрослому солдату, но если портянки плотнее накрутить и зашнуровать покрепче, то не болтаются и ногам удобно. В самые первые дни огольцы и урканы приставали, предлагали махнуться:
– Ну как, Сивый, в натуре?
– Никак.
Не видать им этих ботинок на своих ноженьках. Это личный инвентарь, и проходит он по особой ведомости, по ней интендант барака перед лагерным начальством отчитывается. Силком отнять никто не осмеливался, засекли бы и вздрючили, а добровольно меняться – только напуганный дурак согласится. В таких ботинках можно топать хоть где, по любой погоде, в любой холод и слякоть, ноги не мерзнут и не мокнут.
В пилорамном цехе опилок навалом и грязи по колено. Оступился кто, сразу вляпался в жижу, но с работы уйти нельзя, надо вкалывать до вечера. Таков распорядок, никуда не денешься, не взбунтуешься, знай подчиняйся. Весь день расписан по циферблату, успевай исполнять. Законы тут свои, правила особые, совсем не такие, как на воле. Иной новичок от них воем воет. В шесть утра подъем, и уже шумит барак пчелиным ульем. Надоели до чертиков обязательные физзарядки на холоде, очереди в уборной и умывальной. После завтрака в семь тридцать садись за парту в учебном классе и хлопай ушами три часа подряд, на короткой переменке перекурить не успеваешь.
– Дай, Сивый, последний раз зобнуть, – торопит кто-то.
Сунешь ему окурок и бежишь по звонку от сортира наверх, а из пасти разит, как из трубы папиросной фабрики. Кончились уроки, но расходиться запрещено, нужно выполнять задания на завтра, сдать воспитателю, вот тогда можно ждать звоночка на обед. В столовке, на длинных покрытых клеенками столах, гремят и звенят миски, ложки и половники. В два часа стройся и будь готов на работу, норму делать, план давать. Куда занарядят и пошлют, туда и отправляются мантулить до ужина. Потом воспитательный час и проверка, а там опять барак, лезь на нары и заваливайся спать до шести утра.
Так каждый день от начала срока и до конца отсидки, до выхода на свободную жизнь, на волю. Осточертел этот режим, устаешь до отупения. К вечеру и мозги не работают, и руки отвисают, плетешься до нар, шаркая ботинками, как колодками, и на ходу в сон клонит. За партой сидеть полегче, чем крутиться и маяться в столярке, сушилке и на лесопилке. Кто сачкует, того в карцер прямым ходом. Может, на одни сутки, а может, и больше, это как решат и прикажут «гражданин воспитатель», «гражданин мастер» или «гражданин начальник». Сидеть в одиночку жутковато, стены темные и мокрые, от одного их вида дрожь по телу пробегает и словно судорогой скручивает. Старший воспитатель прав, когда сурово и немного напыщенно объявляет:
– Тут вам не детский пансион, а колония…
Многие перебывали в карцере. Правда, хитрый Королер умел выкручиваться, отлынить. Месяц назад Севка работал с ним в лесопилке, что за цехом пилорамы. Отпиливали неровные хвосты досок и горбылей, которые не принимались в столярку, а шли на дрова. Столярка тут, пожалуй, самый главный цех всего производства. Там вырезали и делали заготовки обыкновенных ученических и канцелярских линеек, а потом уже доводили до единого стандарта. В месяц выпускали тысячами, а в год, может быть, миллионами. Грузили в вагоны и отправляли в разные концы света. Доски после лесопильного переносят в сушилку, обрезки складывают штабелями рядом с рельсами, по ним таскают вагонетку с отходами. Королер работал всегда плохо. Он ленивый, хотя дергать пилу с малой разводкой для любого муторно и тяжело. Полное имя его Леонард, короче Лерка, а фамилия Королев, так и родилась здесь кличка Королер. Настоящее имя его помнили только воспитатели колонии. Маленькой острой мордочкой Королер походил на зверька. Он и в самом деле огрызался, как хорек, только укусить зубы не доходили. Брехун он и хвастун самый отменный, единственный такой на весь барак, почище барона Мюнхгаузена намелет чепухи. Даже про срок свой в колонии наврал с три короба, Хотя всем известно, что дали ему пять лет за групповое воровство, два уже отбыл, и еще три года осталось.
– Вздоху мне тут мало, натырилось позарез, – скалился и морщился Королер. – Воля из меня рвется, свободы треба…
Мастак болтать языком, слушать неохота.
Из-за узкой разводки зубьев пилу под конец заедает, тянешь за ручку изо всех сил, а мочи маловато. Работа мозольная, плечи и руки за смену устают и болят, ноет мокрая спина, ломит поясницу. Перекур устраивали за водокачкой, чтоб на глаза не попадаться охранникам и надсмотрщикам. Курили крепкий самосад, который за пайки покупали у лагерных фраеров. Табак им удавалось в передачах с воли получать и от корешей из охраны. Дороже табака ценилась бумага, поэтому часто самокрутки делали из сухих кленовых листьев, благо молодых деревьев на территории хватало. С Королером одной самокруткой на двоих обходились. Он докуривал до самого кончика, бросал окурок и сквозь зубы едко плевал. После перекура не засиживались, а снова брались за пилу, чтобы норму не запороть, не получить штрафного начета или карцера. Работать Королер не спешил, отлынивал, балагурил и выдумывал разное баловство. Однажды взял пилу и стянул друг к дружке рукоятки. Упругое полотно изогнулось луком, напружинилось, казалось, что вот-вот лопнет. Королер лукаво нацелился на Севку:
– Слабо?
– Пошел ты! – Не хотелось его задорить.
Но Королер вдруг отпустил одну рукоятку. Пила с визгом взметнулась, деревянной ручкой сильно ударила в лоб и сбила Севку с ног. Королер громко расхохотался и помог встать.
– Чего за лыбился, паскуда!
– Да у тебя, Сивый, рогатый фингал! – продолжал смеяться Королер.
Действительно, на лбу вскочила твердая шишка и больно стянула кожу. Оба растирали ее ладонями, потом залепили мокрым листом. Но скрыть шишку, конечно, не удалось даже под лагерной береткой. После ужина Севку допрашивал старший воспитатель:
– Как бы ты ни запирался, Севмор, но всякому очевидно, что это произошло в драке. Где, когда и с кем?
– Упал и ударился.
Этой выдумке не поверили, за что и отправили в карцер. Даже за малую драку наказывали пятидневным карцером, за поножовщину долго держали на строгом режиме в штрафном бараке, фраерам набрасывали срок.
Так Севка отсидел ни за что пять суток в карцере на баланде, хотя по справедливости там должен бы быть Королер. Севка отбыл назначенный карцерный срок и снова, как заведенный механический солдатик, встал на линейный режим. Все равно лучше так, чем в карцере. Севка на любую работу согласен, лишь бы не сидеть одиноко без дела в четырех сырых стенах и одним окном у потолка с решеткой. На шлифовке линеек шкурка всегда разогревается и чуть пальцы не обжигает, легче штампы ставить и передавать готовую линейку приемщику. Черная краска, а чаще тушь кажутся синими, уложи по точности линейку, дави педаль, нажимай без суеты рычажок, и тогда ровными штрихами ложатся деления, обозначаются цифры, в овальном кружке клеймо из четырех букв – «ДТВК». В клейме нет ничего загадочного. Ярлык, знакомый здесь каждому, начальные буквы раскрывают обыкновенные слова – «детская трудовая воспитательная колония». Разметки и штампы ставить поднаряжали угодников и подхалимов, реже передовиков. Одна неделя как-то досталась Севке. Но за эту милость заплатил бригадиру паек дневной, как, впрочем, и другие пятнадцать огольцов. Многие выносили флаконы с тушью для наколок, с кем-то менялись, кого-то снабжали из страха. Накалывались по ночам, одни по обязаловке, другие добровольно, третьи сами, за приплату. Раздетые до кальсон в бараке хвастались друг перед другом татуировкой, маячили при слабом свете, как разрисованные туземцы.
Раньше слово «колония» было для Севки пугалом, представлялось что-то вроде дикого зверинца с клетками. Все оказалось проще, ничего страшного такого нет, жить в колонии вполне можно. Прилично кормят и одевают, строго следят за каждым и в большую обиду не дадут. В остальном другом, как в натуральной тюрьме, воли и свободы нет. Высоченный, глухой, без малейшей щелки забор отгородил от всего мира бараки, цехи и мастерские, не подглядишь в него и вряд ли заберешься, даже близко не подойдешь. Колючая проволока в несколько рядов протянулась по козырьку забора. На углах – похожие на скворечники, деревянные будки с охранниками. Сторожат круглые сутки. Все они какие-то странные, нелюдимые и будто немые. У огольцов мало желания заговорить с ними при виде торчащей винтовки. Ночью по всей длине забора светятся желтые гирлянды электрических лампочек, предупреждая, что нет сюда хода.
Севка отсчитывал каждый вечер календарь своей лагерной жизни и был доволен, что еще один день срока назад отскочил. Кому-то за примерную учебу и работу, за активность и участие в самодеятельности день за два шел. Многие из кожи лезли этот зачет заработать, но добивались лишь некоторые, большинство обречены быть здесь от звонка до звонка. Громкие звонки часто сигналили над огромными воротами у въезда в колонию. Ворота раздвигались, открывая бункер. Туда, в этот накопитель, привозили партию новых оборванцев и беспризорников. Были среди них воры, были и те, кто нарушил законы военного времени и сбежал с оборонных работ. Через тот же бункер по звонку выпускали на свободу.
– Шикарный гостиный двор! – ухмылялся Королер. – Кого в гости приволокли, а кто уже и отгостил свой срок, Сивый. В натуре буду, завидно…
Начальники иногда поминали, заговаривали об амнистии, пытаясь образумить наиболее ретивых или вселить надежду отчаявшимся. Но обещали лишь, когда кончится война, тогда-то всех выпустят досрочно. Война шла, никто не мог представить ее конец, хотя по репродуктору и на политинформациях Севка слышал, что наши здорово начали бить немцев и отгонять их из оккупированных земель. Других вестей получать было неоткуда. Письма раздавали редко, потому что собрались тут одни бездомники и сироты. Передачи почти не приносили к проходной, разве что чьи-то кореша на воле, а на свидание совсем мало кто приходил. Сброда в колонии всякого хватало, собрали блатных со всего света. Севку уже порядком раздражало смотреть на их ужимки, слушать их разговорчики. Подвернулся бы удобный случай, так рванул бы отсюда подальше, в нормальную человеческую жизнь. Мастера на участках, как надзиратели, за каждым шпионят, чтобы кто попусту не слонялся. И, конечно, придираются, словно здесь не деревянные линейки делают, а чуть ли не артиллерийские лафеты для орудий. Сейчас бы отдохнуть от надоедливой пилы и остромордого Королера, сходить бы да обогреться. В сушилке душно, как в бане, печи вот-вот лопнут или треснут от жары и расколются на мелкие кирпичи, вывалится огонь, и займется пожар, запалит костер, вспыхнут бараки, забор и ворота сгорят. Тогда-то вот и успевай что есть духу отсюда на волю. В суматохе да в панике ни один охранник не остановит, а пока очухаются, уже не догнать и не вернуть обратно. Но, увы, это только мечты.
Несколько огольцов собрались в полутемной сушилке и обогревались кто как мог. Одни руки потирали, у другого ноги промокли, и он сушил портянки, растянув их у печи. В проем входа заглянул мастер. Со света в полутьме будто ослеп, ничего различить не может. Ощупывает воздух руками, чтобы на какой предмет не наткнуться. Он громко и надрывно кричит, словно темноту разгоняет или слепоты боится. Видимо, привык часто врать, но глухих здесь нет. А он надрывает горло:
– Севмор Морозов! Кто тут Севмор?
Мастер в колонии человек новый, недавно из госпиталя вышел, не успел пока приноровиться к колонистам. Огольцов он еще не знает и часто путает.
– Севмор! Есть тут Севмор?
Из угла сушилки кто-то издевается в ответ:
– А Беломорканал не надо?
– Я Севмора спрашиваю! – зло кричит мастер.
– Нет такого, есть только айсберг!
– Я здесь, – откликается Севка.
– Валяй, Сивый, тебя перепутали с ледоколом, – слышится рядом.
Ничего не перепутали, просто никто из них не знает полного имени Севки. Откуда им знать, что Севкин батя до рождения сына работал уполномоченным какого-то водного наркомата и много раз ездил в Архангельск. Там он женился на заведующей рестораном, у которой мать жила в Башкирии. До войны много выдумывали и давали разные новые имена. У сослуживца бати тоже был сын, которого звали Мэльст, что должно было означать «Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин», а родители попросту кликали его Милкой. Это звучало унизительно для мальчишки. Батя с матерью назвали сына Севмор, сокращенно от Северного морского пути, и вписали так в метрику. Дома обиходно привыкли к короткому имени Севка, а бабка в Башкирии ласково звала Севушкой. Перед самой войной батя уже не был связан ни с севером, ни с морем, ни с Архангельском, а закончил курсы в Уфе и стал работать машинистом паровоза в депо, он и сам, видно, давно позабыл, какое громкое имя дал сыну. Мастер, наверное, в документы посмотрел и запомнил.
– Выходи, Севмор.
– Зачем еще?
– Надо! – гаркнул мастер.
Пришлось нехотя отойти от теплой печки. Может, что-нибудь случилось, коли мастер так нетерпеливо орет? Раскричался с испугу, словно опять в карцер или, больше того, на казнь ведет. Трудно предугадать, что человека здесь ожидает. Бабка часто ворожила на картах или лучинках. Складно говорила о счастливой судьбе, убеждала Севку, что все сходится, а на самом деле все сложилось хуже некуда.
2
На небольших станциях товарные поезда стоят долго. Заправляются углем или водой паровозы, пропускают срочные грузы. Пассажирские поезда стоянки делают лишь минутные. Подкатит паровоз к перрону, пропыхтит дальше и остановится. Сделает несколько вздохов, и уже бьет призывно колокол. Пробежит вдоль вагонов старший по поезду. Однорукий семафор уже открыл путь. Разносится пронзительный свист и прощальный гудок, бряцают буфера, и толкаются вагоны. К пассажирским поездам всегда много народу приходит. Солдатские эшелоны, понятно, на запад идут, на фронт. Раненых везут в тыл, на восток. Одни в одну, другие в другую сторону. После того как остались дома только с бабкой, Севка часто бегал на станцию и отирался у обшарпанного каменного вокзалишка, под крышей которого висела большая стершаяся надпись «Давлетханово». Видно, название идет от старых времен, может, в честь какого-нибудь древнего башкирского хана Давлета. Иногда Севка приходил сюда с бабкой, она торговала у вагонов. Дома наварит полный чугунок картошки, отольет воду, аккуратно каждую очистит и несет в большом эмалированном блюде на станцию. Местные бабы и старухи таскали туда нехитрую еду, варево из тыквы или соления, а кто и четверть кваса приносил, продавал по кружечке. Суетились на перроне, предлагали у подножек и протягивали в окна. Бабка, случалось, обменивала свой товар на мыло, соль, спички, которые на деньги не купить даже в базарные дни. Когда занеможет и начинает проклинать свои старые кости, то с блюдом на станцию Севку пошлет. У него торговля шла бойчее, по всему перрону носился и громко кричал:
– Кому рассыпчатой картошки? Недавно из печки! Еще тепленькая! Кому рассыпчатой картошки!
– Почем продаешь?
– Рубль штука! Берите, не продешевите, на пятерку наедитесь!
Обменивать Севка не любил, да и не умел, деньгами получать было интересней.
За один выход Севка приносил по два-три червонца. Случалось, рублевки три-четыре оставлял у себя. Бабка деньги не считала, все равно их не хватало. Зато, хуже скряги, прятала в сундуке соль, мыло и спички, закрывала на замок, будто кто-то на это позарится. Раньше, до войны, она хранила в сундуке свои старые платья и нарядную одежду, два отреза из шерсти, несколько кусков ситца, сатина, шелка и льняного полотна. После отъезда матери все постепенно исчезло. Бабка обменяла содержимое сундука на продукты, оставив лишь один полушалок, как фамильную вещь.
– Спички, Севушка, экономь, а то и сварить-то нечем будет.
Бабка говорит так, как будто Севка не знает цену спичкам. На всякий черный случай даже сделал огниво из рашпиля. У берега реки Демы находил твердые гальки и раскалывал их, скручивал вату из старого зимнего пальто в фитилек и высекал искру. С пятого раза кончик фитилька обязательно задымится и начнет тлеть. Вот тогда-то и принимайся раздувать лучинку. Бабка не может, у нее дыхания не хватает, а у Севки получается. Но пока раздует огонек, голова закружится. Зажгут сухую лучинку, язычок пламени поползет вверх, пора быстрее да проворней печку растопить. Бабка сама лучинки стругает и сушит впрок. Угольки после топки сгребет в кучку, засыплет золой, они полдня сохраняются. Дров в обрез, лес далеко, а вокруг Давлетханово одни степи. Вдоль речки весь кустарник на хворост вырублен. Как война началась, все пожгли, исчезли палисадники и городские акации. В летнюю пору стало пыльно и пустынно, жалко вокруг смотреть. Дворы голые. Дома небеленые, неоштукатуренные, в окнах кое-где фанера, стекол сейчас не достать. А по улицам гуляет серый ветер. Палит и сжигает город жаркое солнце, раскалывает землю на мелкие трещины. Каждую осень таскали из леса хворост вязанками, по два раза в день ходили с бабкой. Другие давлетхановские приноровились на тележках и велосипедах возить.
– Ты уж, Севушка, не дури, не нагружайся сильно-то, а то, не дай бог, надорвешься, – говорит бабка и делает ему жиденькую вязанку.
Старые кости у бабки еще крепкие, носит вязанки раза в два или три больше Севкиных. Дома Севка ловко перерубает хворост, бабка только под топор ветки подставляет. Зимой ходили в лес очень редко, в самом крайнем случае, когда дрова совсем на исходе. Много туда не находишься, зябко на морозе. Пальтишко Севки очень поизносилось, валенки прохудились и подшить нечем. Волков, говорят, много развелось, а в метель запросто околеть можно, и спасти не успеют. Летом куда безопаснее. В ясные дни Севка пропадал и торчал то на базаре, то на станции. Часто воинские поезда проходят. Молодые парни едут в теплушках, ноги свесят и улыбаются, шутят, будто не на фронт, а временно на сборы отбывают. У перрона девчата толпятся, иные совсем соплюхи, чуть ли не Севкины одноклассницы. Эти тоже туда же, зеркают и постреливают глазками. Кто-то даже румянец наведет для красоты. Еще и песни-танцы на перроне заведут.
Иногда бойцы машут, зовут:
– Подставляй, сынок, ладошки, гостиниц у меня…
Смешно слушать эти слова из уст юнца в пилотке. Явно заносится для форсу, а у самого на верхней губе вместо усов рыжий пух, и сам-то он недалеко по годам ушел от. Севки. Протянул ему ладонь, тот положил два настоящих кусочка рафинадного сахара, вот и сладкая жизнь подфартила. Хочешь – сейчас схрумай, а можешь дома вприкуску с чаем попить. Теперь больше сахарином снабжают, выдают бабке на карточки. Но стоит в чай больше положить или лизнуть кончиком языка, и сахарин на вкус горек до судороги в скулах, хуже всякой хины.
Протрубят, прокричат, просигналят эшелону, и вот уже пустеет перрон. Из раздвинутых дверей теплушек парни машут на прощание, кричат кому-то громкие слова, обещают скорой встречи. Кто знает, когда она будет, эта встреча, просто все хотят конца войны и возвращения. Унесется вдаль последний вагон красного товарного поезда, а с другой стороны медленно и осторожно приплывает зеленый эшелон. Раненых с фронта перевозили только в пассажирских поездах.
Хлопочут у вагонов, в тамбурах, на подножках врачи и медсестры в белых халатах. Смотрят в окошки перевязанные раненые. С дальней стороны только два цвета и видно, кажется, что весь зеленый поезд в белых заплатках и бинтах. Близко подходить Севка не хотел, боялся увидеть искалеченных людей. Каждый раз ему думалось, что, может, выйдет отец, и почему-то обязательно на костылях. Иногда ждал, чтобы в окошке вагона появилась мать, но эшелонов и вагонов с ранеными женщинами на станции ни разу не появлялось. Многие приходили к поездам с тайной надеждой встретить своих близких, пусть израненных войной, только бы живых. Они смотрели во все окна вагонов, ходили и расспрашивали, но так никто сюда еще ни разу не возвратился. Однажды по всему городу разнесся слух, что на станции стоит эшелон с пленными немцами. Народ бросился к городскому вокзалу. Очень торопились, хотели успеть застать эшелон с пленными. Все двери длинного состава наглухо задвинуты и на запоре. Под самой крышей оконца с решетками. В тамбурах и вокруг поезда много солдат с автоматами и наганами. Пленные тесно сгрудились головами у окон, рассматривали сквозь решетки сбежавшихся на перрон людей. С ненавистью смотрели на них люди. Неожиданно кто-то запустил галькой в вагон. Камень звонко стукнулся, словно подав сигнал, и тогда вся толпа бросилась ближе к вагонам. Озлобленные люди хватали с земли и насыпи что под руку попадет, с силой, швыряли и норовили попасть в окна. Севка бросал вместе со всеми. Слышались дробные удары о твердые доски вагонов, раздавались крики и проклятия. Солдаты и охранники были бессильны остановить этот гнев людей, никакие уговоры не действовали, толпу невозможно было успокоить: Совсем рядом наклонялась с трудом старуха, набирала горсть или щепотку жесткой земли и бросала в сторону вагонов. Пленные не отходили от окон. Кто-то смотрел испуганно и виновато, кто-то зло, были и грустные, болезненные взгляды. А народ из города все прибывал, и толпа вокруг состава разрасталась. Без устали бросали в вагоны до тех пор, пока поезд не увез пленных дальше на восток.







