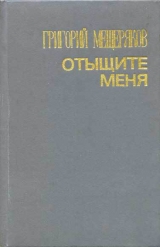
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)



Григорий Мещеряков
ОТЫЩИТЕ МЕНЯ
Повесть
Автор этой книги избегает рассказывать о своем детстве. Но он все-таки написал о нем. Писал ли он повесть? Создавал ли документальную вещь? Ответить на эти вопросы нелегко. Но можно с уверенностью сказать: он написал правду. Он писал боль.
Его собственные мытарства начались, когда ему исполнилось одиннадцать лет. Отца репрессировали. Потом мальчик потерял и мать…
Его сверстники, товарищи по несчастью, так же рано узнали, почем фунт лиха. Иногда им кажется, что только между собой могут они говорить о тех годах, о тех бедах, что люди, не узнавшие в детстве того, с чем пришлось им столкнуться, не поймут их. Отсюда горечь. И автор даже хотел поставить эпиграфом к своей повести строки поэта Геннадия Русакова:
Дай мне спокойного крова,
Легкого хлеба-питья.
Я замолчу – ни полслова.
Что тебе память моя?
Но память жива. И она потребовала, чтобы человек рассказал о том, что случилось с ним и его товарищами.
Имена мальчишек, которые встречали День Победы в мае 1945-го в ремесленном училище Туранска, вымышлены. Не вымышлены их судьбы, судьбы их родителей, их близких. Страшно порой читать о том, сколько горя и бед обрушилось на каждого из этих детей в годы войны. Комиссарша – одна из взрослых героинь повести (но тоже реально существовавший человек) – говорит своим воспитанникам: «Если собрать воедино лишь ваши биографии, то составится малая детская энциклопедия выстраданных судеб войны». И не только войны, – добавим мы. Сталинские репрессии так или иначе коснулись этих судеб.
Сиротство и беспризорничество начинались для многих ребят еще в конце 30-х годов, хотя автор вроде бы впрямую пишет об этом мало.
Дети видели жестокость, человеческую подлость, грязь и смерть в том возрасте, когда неокрепшая душа должна быть открыта только для радости, чистоты, света, жизни. Не все они уцелели. Но выстояли. Хотя душевное потрясение, душевные раны остались в них навсегда.
Потому и написана эта книга. Здесь только несколько судеб и судьба самого автора, растворившаяся в них. А было таких судеб много, много больше… И ничего не забывший мальчишка, ставший совсем взрослым, седым человеком, обращается снова памятью к тем годам, открывает эту боль современному читателю. Мы тоже должны знать об этом. Мы тоже не имеем права это забыть. И потому взываем: отыщите их!
Недавно прошла гроза

1
Недавно прошла гроза.
Юрка хорошо помнит, как разразилась она в самом конце мая. Потом медленно потянулись дни, наступало лето. Зазеленели луга, распушился ивняк, на березовых нитях лопнули почки.
Вода в реке темная и холодная.
Надо с разбегу нырять, а не топтаться в воде, чтобы не дрожать, не зябнуть, не синеть. Побултыхайся и вылезай на берег, там ветерок обдует и солнышко обогреет.
Мальчишки бегали на быструю Лекму, на широкую Чепцу, а кто и подальше, на Убыть. Там рыбачили, загорали и купались вдоволь.
Деревенские мужики ездили или ходили туда на ночь с сетями, ставили донные сачки и морды.
От этого июньского солнцепека с утра парит. К вечеру трескается земля. Рубашка к спине липнет. В полдень успевай спрятаться в тени за оградой и не вылезай. Посохшая травка жестко колет живот, но вставать Юрке неохота. От тишины ко сну клонит.
Собаки попрятались в конурах, в кусты залезли и высунули языки. Деревенские избы, скрытые за палисадниками, смотрят в два-три окна на дорогу. Ленивой трусцой, взбивая копытами пыль, бежит пегая лошадка. В телеге дремлет мужик, бросив вожжи на повозку. Телята у забора отмахиваются хвостами, летают мухи, и жужжат оводы.
Юрке спать вроде бы хочется, а сон не приходит.
Дворов в Ижовке много, а улиц мало, больше переулков да закоулков. Главная улица вытянулась в низине. Дальше за уклоном речка Иж, которая после половодья совсем мелеет. Идти с одного конца Ижовки на другой далеко. В засуху пыли наглотаешься, в непогоду по колено грязи. Но только бы не гроза – она землю перевернет и небо опрокинет.
На базарные дни в Ижовку прибывают десятки подвод. Разноликая и разноязыкая толпа жужжит, перекликается по-удмуртски, по-татарски, по-русски. Женщины в старинных разноцветных одеждах с монетками, похожими на деньги, но на них ничего не купишь. Лошадей привязывают к жердям, столбам и заборам. Съезжаются сюда с небольших окрестных деревень и околотков, потому что Ижовка поболее их и тут есть сельсовет. На большую ярмарку ижовские сами собираются в город. Едут в Яр, оттуда в Глазов или Балезино. Там есть железная дорога, по которой паровозы таскают длинные поезда. Посмотреть бы на них подольше, а то у Юрки в памяти мало что осталось. Так давно это было, как вроде бы до самого рождения. На ярмарку городскую кто как сумеет добирается. Иногда даже автомобиль снарядят. С ярмарки возвращаются дня через два, а то и три, под вечер или под утро. Привозят мануфактуру, кое-что из утвари да по хозяйству и бегают друг к дружке смотреть. Ребятишкам в кулечках доставят городских гостинцев и сладостей, конфет, конечно подушечек, рассыпчатого печенья или пряников с сахарной корочкой. Юрка вспомнит, так сразу слюнки текут. Ярмарки приходятся на конец лета, а то и вовсе на осень, когда уже прошли, отгрохали грозы и льют дожди. Сейчас только начало лета, и, знать, не одна гроза впереди.
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром…
В стихах красиво звучит, а наяву не приведись кому испытать.
На полянке загалдели гуси: видно, кто-то спугнул их. Тряско проехал на дрожках председатель сельсовета. Он к дрожкам пуще, чем к родному дому, привязался, привык в них жизнь проживать. Разъезжает на них и зимой, и летом, и в любую погоду.
Председатель сельсовета – толковый мужик, это все знают в Ижовке, да и по всей округе. Редко он не занят делами. Старая папаха заломлена набекрень, чуть прикрывает правое ухо. Выцветшая гимнастерка перетянута ремнями, широкие галифе заправлены в тугие хромовые сапоги. Вот разве что шашки и усов не хватает, а то был бы вылитый Чапаев.
Громко тарахтит грузовая полуторка. Старый автомобиль пригнала своим ходом из города трактористка тетя Рая Марисова. К сельсовету тогда сбежалась почти вся Ижовка поглазеть. Полуторка тарахтела и трещала пулеметным шумом. Некоторые бабы со страху позатыкали уши и попрятались за углом, с опаской выглядывая, как будто машина сейчас взлетит вверх и разорвется. Тетка Марисова гордо сидела в кабине за рулем. Она никому машину не доверяла, сама ремонтировала, чистила, мыла на перекатах огромной мочалкой, словно холила любимого коня. Но как-то доверила деревенским парням рукоятку, и те отчаянно крутили ее, пока машина не завелась, оглушив округу.
– Смотри-кось, рычит, как настоящая тигра.
– В самом деле…
– Тетка Раиса, как назовешь-то моторную лошадку?
Но та не слышит, а мужички разглядывают, шутят:
– Раз так рычит, знать, и имя хозяйкино подходит.
– А что, чем не имя «Раиска»?
С тех пор так и прозвали полуторку «Раиской».
Сначала машина была в диковинку. На бабу-шофера смотреть тоже смех один, но потом ко всему привыкли, и стала «Раиска» такой же неотъемлемой частью Ижовки, как и дрожки председателя сельсовета. Мальчишки на улице, заслышав шум мотора, гонялись за «Раиской». Ныряя в пыль, хватались за задний борт, чтобы чуточку прокатиться. За боковые борта цепляться охотников было мало: колеса близко. От заднего борта кто и оборвется, то в лучшем случае брякнется в пыль, в худшем – коленки обдерет.
«Раиску» берегли, попусту туда-сюда не гоняли, навоз и сено в кузове не возили. К двадцать третьей годовщине Великого Октября покрасили в зеленый цвет. Нарисовали на бортах и кабине белой краской звезду, серп и молот, украсили ветками, повесили лозунг.
Председатель сельсовета ловко забрался в открытый кузов, как на трибуну, и говорил торжественную речь. Он призывал всю Ижовку на борьбу с бывшими эксплуататорами, помещиками, кулаками и нынешней, еще живущей мировой буржуазией. На груди у него поверх красной ленточки был прикреплен орден Боевого Красного Знамени за гражданскую войну. Говорил он громко, без устали и передышки, потом закончил:
– Вот, уважаемые односельчане, какой у нас сегодня текущий момент! – И, подняв руку, крикнул: – Да здравствует Октябрьская революция и Советская власть!
Люди долго хлопали, пока председатель сельсовета стоял в кузове. Потом он спрыгнул, и «Раиска» укатила к совхозному гаражу.
Вообще-то председатель сельсовета любил говорить речи, произносил их довольно часто по разным поводам, но такие торжественные говорил только два раза в году – по ноябрьским и майским праздникам.
Последний майский праздник в Ижовке не состоялся. Председатель сельсовета перед пасхой подвернул ногу и лежал в медпункте. Говорить с трибуны было некому, а без него пустую «Раиску» выкатывать перед народом не стали.
Хитроватый соседский старик Леонтий после этого вздыхал и, поглядывая почему-то на небо, говорил:
– Нехорошо это все складывается… Да, нехорошо… Коли праздник сорвался, быть беде…
– Тоже, нашелся святой человек! – смеялась над ним мамка. – Еще и впрямь накличешь чего.
– Я не кликуша какая, я нутром чую…
Действительно, вскоре грянула разрушительная гроза, которая до сих пор у всех на памяти.
«Раиску» наряжали не только по большим праздникам, но и по другим событиям. Особенно после посевной или уборочной, когда она развозила совхозников по сабантуям и пикникам, к ремé[1]1
Ремá — поемный кустарник и лес по реке.
[Закрыть], подальше от деревни. Там пили брагу, квас, плясали под гармошку с колокольчиками и пели частушки под балалайку, сражались на поваленном бревне мешками с соломой и перетягивали веревку. От удовольствия весело смеялись. Еще водили «ручейки» и играли в аттракционы, получая в награду по городской конфете или даже гуттаперчевую игрушку. Шоферка Марисова пела удмуртские песни. Люди из уважения к ней сходились и слушали, хотя большинство слов не понимали.
Мамка больше всего любила слушать одну песню. Бабы, собравшись в кружок, голосисто затягивали, она подпевала:
Вдо-о-ль деревни
От избы и до избы-ы-ы…
Праздник разносился на всю рему.
В реме лес густо порос, деревья и кусты переплетались. Речка Лекма разрезала рему вдоль, текла извилисто с одного конца леса на другой.
Юрка любил рыбачить на Лекме. Иной раз ждет не дождется, когда пойдет в рему на рыбалку. Свежая травка прохладно щекочет ступни, а там, где ее нет, греет пятки теплый песок. Берега Лекмы больше пологие, иногда и крутоярые. От деревни до самой ремы ни деревца, ни кустика, стелются зеленым ковром луга. Весной по сырости полным-полно дикого луку и щавеля, рви горстями и набивай брюхо. Дальше, за ремой, за опушками, протянулись лысые холмы да пригорки. Над ними часто в прозрачном небе синеют темные тучи. До той памятной грозы никто на эти тучи не обращал внимания. Сейчас чуть кто заметил темную тучку, уже с опаской посматривает на небо. От одного их сизого цвета продирает кожу страх, закрадывается в Юркину душу и таится там, пока тучи не уползут прочь или не обойдут стороной.
А вот Генька Морозов ничего не боится. Может, потому, что постарше, а может, просто врет.
– Сын, – зовет мамка, – где-ка ты там запропастился? Я на полуднюю дойку пошла, приду – чтоб был дома, а то смотри у меня…
– Мамка, в сельпо крючки привезли, дай мне денег…
– Сколько можно выманивать! – ворчит она. – Ужо я тебе так дам и поддам, что сыт далеко наперед будешь!
– Честное слово, последний разок попрошу и больше не буду…
– Так тебе и поверила! – кричит она. – Так я и поверила твоему бесчестному слову! Все равно не отцепишься.
Иногда даст несколько копеек, а чаще – нет. Все-то у нее одни нехватки. Волосяные лески Юрка доставал сам на совхозном конном дворе. Мальчишки этому научили. Он тайно забирался в конюшни, чтоб никому на глаза не попасться, и крался в полутемные стойла. Присматривался к гривам да хвостам, которые посветлее. За один заход на несколько удочек можно надергать. Подберется к хвосту, выберет волосок или два подлиннее, намотает концы на кулак, приноровится и резко дергает, лошадка только копыта переставит. Есть кони спокойные, а есть и уросливые, нервные, как люди. Иная лошаденка только ухом поведет и даже не шелохнется, другая вздрогнет кожей и чуть оторвет копыта от деревянного настила. Ну уж если попадется бешеная, то быть тут переполоху на конюшне. Зафыркает и заржет, начнет прыгать, топать и лягаться. Зашумят тут, перекрикиваясь, конюхи, забегают. Прихватят что под руку попадет – кнуты первым делом, вожжи или чересседельники – норовят, конечно, поймать нарушителя спокойствия, огреть как следует, а если выйдет, то и высечь. Они знают, что в конюшнях промышляют за лесками, потому-то и крестят:
– Вертихвосты! Повадились коней грабить! Ну погодь, изловлю!
Лютуют они больше на словах, чтобы попугать и отвадить. Успевай тогда от них улизнуть по бурьяну самой скорой прытью. Бывает, что с самого начала не повезет и, кроме куцей волосинки, нет больше промысла. Зато когда удастся надергать клубок, садится Юрка в густой репейник, подальше от зорких глаз, плетет леску в два волоса, узелки завязывает и кончики откусывает. Не замечает, как пролетает время. К вечеру, глядишь, на две свои удочки накрутит да еще для мены и торгов приготовит.
Обмен шел по всей деревне бойко. Меняли любой ходовой товар, у кого что есть, хотя взрослые и учителя вроде бы не одобряли. Ценились рогатки, удочки, голуби и козны. Редко расплачивались пятаками, деньги особо ценили. Торг шел натурой – баш на баш. В особой цене были панки и биты, залитые внутри свинцом, реже оловом. Они становились увесистыми и в кознах незаменимыми. Дома на этажерке и полках было много разных книг. Целая библиотека после отца осталась. Но книги в обмен не принимались, товаром не считались, а переходили из рук в руки с возвратом. Иной раз Юрка так продуется в козны, что готов любую книжку или последнюю рубаху заложить, да ничего из этого не получится, на обмен никто не примет. Голуби считались особо дорогостоящим товаром. На пару можно выменять десять налитых панков. Однажды Юрке повезло, он выиграл к вечеру полный деревянный чемоданчик бабок. Наиграл столько, что выменял на панки, а панки на пару сизых дикарей. Они жили в чулане, хлопали и скребли пол крыльями, ворковали и переговаривались на своем языке. Выпускать их было опасно, улететь могут, а приручать к дому дело долгое и хлопотное. Стерегли их с мамкой от кошек и берегли. Кормили и ухаживали как за малыми детьми. На волю не выпускали, пока не привыкнут. В грозу вместе с чуланом голубей куда-то унесло. Вырвались, видно, на свободу и улетели, если не погибли в тот день. Мамка расстроилась и даже раза три всплакнула, ей было жалко голубей.
Приезд старьевщика для деревенских всегда был праздником. К телеге его бежали и малые дети, и ижевские бабы. А он, знай свое дело, бойко и весело зазывает:
– Поищи – принеси!
– Выбирай – забирай!
Фургон у него ладный, лошадка не сытая, тощая, но резвая, весь день по Ижовке топает. Старьевщик дразнит свистульками, воздушными шарами и разноцветными леденцами. Несут ему на обмен всякие тряпки, кости или железки.
– Мамка, можно мне старую подстилку, что в чулане валяется, барахольщику снести?
– Ну, что ты скажешь! – гневно восклицает она. – Истый грабитель! Ни ума, ни поклону! Да я тебе ж, бестолковому, сколько раз говорила, что не валяется она, а прибрана до поры до времени! К осени я ее состирну, прострочу на машинке и фуфайку сошью, если выйдет, или подкладку к теплому пиджаку…
При отце она была сговорчивей.
Когда в прошлом году точно так же отказала, то Юрка просто-напросто стащил у шабров в огороде пугало. Разорвал на мелкие лоскутки и после этого снес старьевщику. Соседи, как и должно быть, подняли хай, будто не огородное пугало, а сундук с добром выкрали. Шум вышел большой. Приходили и дознавались сельсоветские, но так ничего и не вызнали. Раскрыли бы, мамка тогда бы от ужаса или умерла, или запорола бы Юрку до смерти. Прошлогоднего страха того Юрке хватило на всю жизнь.
Был бы жив отец, разве бы Юрка так маялся! Сразу бы лишние тряпки нашлись и на все другое не поскупились бы, да и мамка была бы куда добрее. Отец сам ни разу не тронул Юрку и мамке не давал. Он погиб лютой зимой на финской войне…
2
Недавняя гроза прошла по Ижовке большой бедой, большое опустошение принесла. Столько разрухи наделала, что народ никак очухаться не может.
В тот день собрался Юрка чуть свет на рыбалку в рему.
Пошли с утра, вчетвером. Собрались на заимке у коровников, где всегда червей в навозе копали.
Утром рема дышит свежестью и прохладой, от ветвей падают густые тени. Опрокинутое в воду солнце ослепляет бликами, приходится переходить и отыскивать укромное местечко. Так вдоль течения идешь по бережку, задерживаясь подольше у омутков, где чаще всего окуни клюют. На перекатах ловили пескарей, разгоняя их упрямые коричневые стайки. У омута Юрка отыскивал бревно или старую корягу, чтоб закинуть подальше, на самую середину: вдруг там плавает огромный сом и на счастье клюнет. Вода в омуте темная и таинственная, коряга торчит, словно скелет чудовища. Вот, кажется, вылезет из воды костлявая рука или зубастая морда, схватит за штаны или вцепится в ногу и уволочет в темную бездну.
Никакого, конечно, здесь чудища нет, просто воображаешь и страху на себя нагоняешь. Юрка передвинул поплавок выше, чтоб опустить крючок на донный клев. Сом наверх не выходит, он у самого дна плавает и ворочает усами, отыскивая добычу. Сухой сучок на коряге неожиданно с хрустом обломился, нога сорвалась и бултыхнулась в воду. Раздался зловещий всплеск, со страху Юрка заорал на всю рему:
– Ой, мамка-а!
Быстро уцепился руками и, бросив удочку, сиганул на берег.
– Да что там у тебя? – негромко и спокойно донеслось из кустов, с другой стороны омута.
– Да сом огромадный потащил!
– Да врешь? – кричит Генька Морозов.
– Да ей-богу!
– Да где?
– Да в омуте!
– Да как?
– Да никак, удочку на дно утащил.
– Да покажь! – Генька выскочил из кустов, прибежал, глаза вытаращил.
– Да смотри… – Удилище спокойно лежало на воде рядом с корягой.
– Да брешешь ты все!
– Сам брешешь!
Удочку достали, и рыбалка продолжалась.
Недалеко от берега нарушил тишину громкий всплеск, и по темной воде разбежались круги. Неожиданно вода стала бурой, вокруг все потускнело, будто тень опустилась на лес. В камыше за кустами и деревьями солнца не видать, хотя вроде бы до вечера далеко и уходить рано еще. Юрка резко свистнул. Громко стали окликать друг друга. Вскоре все вышли и собрались на просторной полянке. Тут-то и увидели над ремой черную тяжелую тучу, ползущую по небу бурым медведем с вытянутыми лохматыми лапами. Она закрыла солнце и заполонила уже половину неба. Потемнела и зарябилась холодной чешуей вода в омуте. Генька стал сговаривать вернуться в Ижовку. Без спора согласились.
Быстро смотали удочки, гуськом пошли по прибрежной тропке. Сквозь поредевшие кусты открывалась степная равнина. Вдали вытянулись летние фермы и скотные дворы.
Еще несколько минут назад было вроде посветлее, а сейчас в рему будто заползла ночь. Кусты стали черными. Вдалеке полосовали мир острые молнии, разламывали небо огненными трещинами и стрелами вонзались в землю. Сизая туча надвинулась и повисла над ремой.
Треснул гром, грохнул раскатами, и забуйствовало вокруг.
Казалось, что не выдержит небо и вся эта черная тяжесть рухнет вниз, придавит землю.
Дальше пацаны идти испугались, присели под деревом.
Рванул сильный ветер, и лес склонился в диком поклоне. Оглушительно громыхнуло еще раз, и тут-то мир совсем взбунтовался и заревел, зарычал, забушевал. Безумный лес растрепался, ломался с треском сухостой, летели сучья и ветки.
Земля вздрагивала и гудела.
Огромные пыльные вихри поднимались над степью и уносились высоко в небо. Оторвались и взлетели вверх крыши ферм и скотного двора, в мгновение разлетелись в стороны. Пятистенный домик пастухов и скотников перевернулся набок и покатился, рассыпаясь по бревнам.
Все виделось, как на цветной картинке, в неожиданных озарениях и вспышках молний.
Ребят охватил страх. Не сговариваясь, бросились на землю, обняли кусты, чтобы не унесло вихрем. Кто-то с испугу неистово крестился и причитал. Толком не понять, откуда такое дикое наваждение.
Острый ветер будто стрижет наголо кроны беззащитного леса.
Рядом Генька орал во всю глотку:
– Ой-ёченьки!.. Ой-ёченьки!.. Ой-ёченьки!..
Большое старое дерево напротив треснуло и раскололось. Из кривых и кряжистых корней, что вцепились в крутой берег, выскочила рыжая облезлая лиса и заметалась обезумевшая. Вспышка молнии осветила нору. Оттуда, из черной глубины, выбежали три лисенка и бросились наутек, кто куда. Один подбежал совсем близко, и Генька с перепугу еще громче заблажил.
Лисенок ткнулся в бок Юрке. Пришлось осторожно прикрыть его локтем, прижать к животу. Лисенок дрожал лихорадочно и скулил. Толстый, неуклюжий, оранжевого цвета, с темно-синими кончиками ушей. Юрка загородил его ладонью, и у самого страх куда-то пропал.
Ударили первые крупные капли дождя. Похожие на град, звонко и сильно, точно пули или дробь. Сразу же обрушился ливень, будто опрокинулась на землю бездонная небесная лохань. Потоки воды заволокли пространство, воздух превратился в стеклянную пелену. Бугорок, на котором мальчишки лежали под деревом, в момент опоясался водой и походил теперь на островок. Сколько продолжался этот ад, мудрено было угадать, но вдруг враз все стихло. Опадала мелкая морось с листьев, бурлящие потоки куда-то провалились. Ветер постепенно утихал и носился уже по верхушкам деревьев.
Лисенок тихо скулил, точно стонал от боли. Потом вывернулся из-под руки и побежал прочь. Догонять не стали. Юрка вскочил на ноги мокрый и продрогший. Зубы беспрерывно стучали, скулы стягивало судорогой.
Молча отправились домой, вышли из ремы, побрели по открытой степи. Возвращались без рыбы и удочек: где их было найти в этакой круговерти.
От фермы и скотных дворов ничего не осталось. Валялись в разных концах бревна, доски и жерди.
Ветер все еще гулял по полю, набегал играючи и уносился к реме, оставляя холод.
Тучи над головой походили на темно-синее стеганое одеяло, толстое и сморщенное. Изредка освещаясь грязным красным цветом, незаметно уползали к лысым холмам у горизонта.
Юрке очень хотелось есть, обогреться и спрятаться в сухую постель.
Брели к Ижовке медленно и молча. Когда подходили к деревенской заимке, тучи порвались и раздвинулись. В просвет выглянуло солнце.
Открытую всему свету Ижовку трудно было узнать: кругом разруха, как после побоища. Без крыш, с высоко торчащими трубами стояли израненные дома. В беспорядке разбросаны стропила, телеграфные столбы, кровельное железо, всюду солома, доски, щепа. Стекла в окнах выбиты, болтаются на шарнирах оторванные или сломанные ставни. На другом конце деревни поднимался над избами грязный дым, тушили пожар.
Еще издали Юрка увидел свой дом. Он все-таки устоял в этакую грозовую бурю. Правда, невесть куда унесло сенки с чуланом и парою диких голубей. Голо и сиротливо торчало крыльцо. Разрушены сарай и плетень.
Мамка ждала на крыльце, прикрыла, как козырьком, ладонью глаза от солнца и не шевелясь смотрела, точно простояла так весь день. Вот сейчас, наверное, обрадуется, что сын вернулся жив и невредим. Но встретила она его без всякой радости, наоборот, зло и жестоко. Снова таскала за уши, по избе бегала за ним с ухватом.
– Опять шатался, язви тебя! – ругалась мамка. – Как отца не стало, совсем от рук отбился! Сил больше моих на тебя не хватает, ирод! Убить тебя мало, безотцовщина проклятущая!
Потом, как всегда, устало села у печки и всплакнула.
Старая табуретка расшаталась и тонко поскрипывала. Давно бы надо наладить, да некому, столярничать Юрка не умеет, кроме как строгать рогатки, «чижики» и удилища.
Мамка продолжала бранить и укорять.
Юрка сидел на койке, молчал, опустив голову, и косился в ее сторону. Ноги до пола не доставали, боялся ими болтать, чтоб быть незаметней. Приходится ждать, пока закончит. По правде сказать, ему самому надо бы реветь белугой, а не мамке.
– …хоть мать родную пожалей, – причитает она сквозь слезы, – в могилу ведь сведешь! Я уж и не знаю, чем тебя, окаянного, бить…
Чем бить, изыщет. Однажды даже стиральным вальком прошлась. В ледоход Юрка пускал с мальчишками кораблики из бересты с припая у берега. Увидел первым, как валек между льдинами застрял. Видно, кто-то с прошлой осени потерял при стирке. Конечно, заорал:
– Чур, я первый!
Первый так первый! А попробуй достань. Прыгнул на одну льдину, она качнулась, прыгнул на вторую, а она перевернулась.
Опустился плавно в холоднущую воду, отяжелевшая одежда потащила вниз. Одной рукой за валек уцепился, другой – за край льдины, и давай вовсю блажить:
– Караул, тону!
Конечно, спасли, вытащили. Весь мокрехонький, с вальком в руке, заявился домой. Мамка быстро раздела и одежонку на печке расстелила. Обтерла тело полотенцем и обсушила. Потом принялась этим же вальком шлепать по спине и ниже, не дай бог кому испытать. Опять, конечно, завыл:
– Ой, мамка, не буду! Ой, ей-богу, не буду больше! Честное слово-о, честное-пречестное-е!
Да разве ее уговоришь, пока сама не устанет, не угомонится. После руки опустит, присядет и переживает, словно сама в чем-то повинная. Напоследок расплачется.
На этот раз то же самое повторилось.
Вину свою перед мамкой он чувствовал, но, в чем виноват, в самом деле не понимал.
Разве он виноват, что нагрянула эта дьявольская гроза? Юрка здесь совсем ни при чем. Все равно мамку жалко за ее душевное страдание, а утешать он не умеет.
Она утерла со щек слезы и подошла. Погладила по голове, будто примиряясь. Тяжело провела рукой по его лицу. Ладони у нее сухие и шершавые, в тонких трещинках и морщинках.
– Что же я отцу-то про тебя расскажу? – вздохнула она.
С ней такие загадки не раз бывали. Стоит в чем-то даже совсем пустячном Юрке провиниться, как мамка сразу же грозится отцу рассказать. Но, как она это сделает, одной ей только ведомо. Ведь отца в живых нет почти два года. Что она ведет какие-то тайные разговоры с отцом, у Юрки сомнения не было. Но где и когда да еще каким таким образом, это ее секрет. По ночам вроде никуда не исчезает, на чердак одна не лазает, только с Юркой, когда в дождь стираное белье сушить надо. Может, она с душой встречается, когда из комода вытаскивает и читает отцовы письма?
Толстая пачка перевязана тугой тесемкой. Мать развязывает ее, перебирает листы и конверты, разглядывает буквы. Смотрит на письма, как на живые, будто сейчас они заговорят вслух человеческим голосом. Мамка малограмотная, читает медленно, по слогам и монотонным голосом. Перечитывает много раз, а заучить никак не может. Говорит, что память от переживаний отшибло. Юрка все до одного письма уже знает наизусть, пересказать может, как стихотворение. Он давно буквы выучил и слова знает, сам грамотный, перешел запросто в третий класс.
Она идет к комоду, негромко говорит:
– Ладно-ть, будет, поплакали и хватит. Не то перемогли и эту беду переживем, сынок.
Это она про грозу, а не про Юрку.
Просто устала она порядком. От горя в доме, от Юркиных затей, от всей работы. Как заведенная от зари и до зари со своими коровушками. Она с ними куда поласковей, чем с родным сыном.
– Они же несмышленые совсем, а ты, оболтус, все соображаешь, хотя и работают твои мозги вкривь да вкось.
Прямо смешно ее слушать, как будто она натурально видит, у кого какие мозги и как они устроены. Отец такого бы в жизни не придумал. Он был образованный.
3
На следующее утро после грозы по деревне ходили толпы народа, от дома к дому. Отыскивали свое добро и имущество. Находили на задворках железо с крыш, двери и ставни, стропила и доски, примеряли и узнавали метки. Многие разыскивали скот, который в бурю разбежался невесть куда.
Председатель сельсовета весь день мотался на полуторке, потому что дрожки его разбило вдребезги. «Раиска» тарахтела и клаксонила то тут, то там. Все шли к председателю за советом. Он оценивал, мерил и рядил, кого-то успокаивал, а когда и оспаривал. Его слушались и ему верили, но не каждому в этой неразберихе угодить было можно.
Мальчишки в розысках и дележах не участвовали, бегали по всей деревне и наблюдали за происходящим. Удивляло одно, как хозяева дворов умудряются отыскать и признать свое имущество, украденное грозой.
Сенцы Юркиного дома нашлись далеко на огородах, но чулан исчез, видно, унесло бурей за кудыкины горы.
В больнице фельдшер делал перевязки, примочки, уколы пораненным и пострадавшим. Похоронили двоих, убитых в грозу молнией.
Юрка не пошел, боялся смотреть на покойников.
Разруху и мусор убирали всем миром, восстанавливали постройки бригадами. Выходили чуть свет мужики, парни, старики и все, кто на сельхозработах не занят. Бабы и ребятишки работали в подсобье. Стук и звон топоров, пил и молотков слышался, не умолкая весь день, в лунный свет и всю ночь.
Доски пилили и заготовляли на совхозной лесопилке, в расход пустили ранее припасенные на амбар бревна. Бабы серпами жали камыш, связывали в снопы для укладки на крыши. Прошлогоднюю солому не трогали, она трухлявая и сдувается ветром.
Грозу проклинали, как нечистую силу. Крестились, чтобы колдуны, черти, леший или ведьма не накаркали новую.
Через две недели поправилась, подлечилась истерзанная Ижовка. Дома и дворы как-то сразу помолодели и принарядились. Деревня стала даже новее и красивее глядеться со стороны.
Председатель сельсовета на общем сходе говорил речь с кузова «Раиски»:
– Уважаемые односельчане! Мы с вами осуществили большое народное и государственное дело, по-большевистски ликвидировали пришествие стихийного бедствия. Теперь сами видите и судите, какой деревня приняла новый советский облик. Большое вам спасибо за это от имени Советской власти и всех трудящихся! Совхоз наш имеет правильное большевистское название «Новая деревня», а сама деревня до нынешнего дня носит старое дореволюционное имя, которое никак не отвечает текущему моменту и внутренней политике. Как председатель сельсовета, то есть представитель Советской государственной власти, предлагаю поддержать мое мнение и со всей сознательностью переименовать Ижовку в более правильное имя на теперешнем этапе и назвать «Новой деревней».
Почему-то никто не поддержал председателя сельсовета, хотя и хлопали по привычке в ладоши. Председатель еще два раза держал слово и один раз попробовал голосовать, но сход так и не уговорил. На том и разошлись, и больше об этом разговоров в деревне не было.
Сразу же после грозы из Ижевска приезжала комиссия. Несколько человек ходили по дворам, они много записывали в блокноты, давали расписки и квитанции. Председатель сельсовета красноармейским семьям выдавал деньги из грузного сейфа, что стоял у него в канцелярии.







