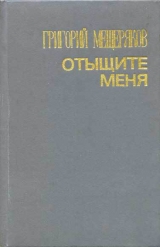
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Пошла в сельсовет и мамка, получила шестьдесят рублей. В совхозном складе выписали досок. Бригада мужиков в один вечер сколотила сенки с чуланом. Мамка поднесла им по кружке браги.
Гроза наделала столько переполоху, что долго еще о ней говорили. Набожные старухи, завидев темную тучу, молились, а особо пугливые бабы лезли под перины. Внешне спокойные мужики почаще теперь поглядывали на небо.
Мамка лишь громко посмеивалась над всеми деревенскими страхами. Она не суеверная, за одного Юрку только и боится, как бы чего худого с ним не стряслось.
При отце она была все же другой, более робкой и стеснительной, покорялась ему, как малый ребенок. Бывало, стоит оторопело и слушает отца, сама радуется, словно первый раз его видит.
Когда пришло известие о гибели отца, она чуть с ума не сошла. Утром встанет и навзрыд плачет. В коровник или на дойку сходит – опять в слезы. Так дотемна и сидит, вытирает щеки и сморкается. Велит Юрке зажечь керосиновую лампу, достанет письма и, всхлипывая, по слогам поет. Отец с войны писал аккуратно, даже когда руки отморозил. С этого вся его беда и пошла.
Почерк у него, как и положено учителю, красивый, круглый и разборчивый. Предложения длинные и понятные, слова добрые, умные. Мамка об этом не один раз говорила и сильно упрекала Юрку:
– Бестолочь! Хоть бы от отца главную жилку взял…
В ту пору часто заходил председатель сельсовета посочувствовать, горюшко мамкино поутешить. Отца он уважал сильнее других, считал его самым образованным в Ижовке, ни разу на «ты» к нему не обратился. Отец часто ходил в сельсовет заседать на исполкомах, решать важные школьные дела. Домой возвращался поздно. Заводил с мамкой негромкие разговоры, словно отчитывался перед ней за свой сельсовет. Она тогда не работала, растила Юрку. Присматривала, следила за ним, много хлопотала по дому и хозяйству. С раннего утра она всегда на ногах. От печки исходит вкусный запах. На стуле приготовлены, как для парада, выглаженные рубашка и костюм отца, начищенные гуталином стоят штиблеты. Мамка накормит его, соберет и проводит до угла.
Когда у отца час-другой свободен, это время Юркино. Любо-дорого было слушать занятные истории и стихи, которых отец знал наизусть несчетное количество.
Раньше с приходом первых весенних дождей для Юрки наступал праздник. Бежит по лужам, мокнет под дождем, пляшет под тучкой. Мамка увидит – поворчит. Отец посмотрит – улыбнется. А Юрка надрывается во всю мочь:
Дождик, дождик, пуще!
Я прибавлю гуще!
Теперь многое ушло. Радость лишь около да рядом с Юркой ходит. Потерялась охота плясать по лужам, пить с неба дождь и звать к себе тучку.
Юрка сидел в палисаднике и смотрел вверх. В чистом небе растянулись гуськом перистые облака. Даже если солнышко зайдет за них, жара все равно не спадает. Нежные облака эти застыли в небе добрыми предвестниками.
По всем приметам, быть завтра хорошей погоде. На деревне об этом тоже говорят, потому что собираются на гулянье. У кого выходной, у десятиклассников последняя школьная вечеринка. Для всех праздник будет.
Через несколько часов солнце опять спрячется за горизонт. Будет еще светло, но исчезнут тени. Вернется с фермы усталая мать, и станут они с Юркой вечерять.
Где-то протарахтела «Раиска».
По улице с совхозным трактористом шел председатель сельсовета. Он так и не собрал свои дрожки после грозы. Тракторист топтался вокруг него, поднимая яловыми сапожищами придорожную пыль. Председатель сельсовета идет ровно и прямо, точно марширует в военном походе, ступает уверенно и четко, как настоящий командир в боевом строю.
Они вдвоем прошли куда-то, и снова вокруг ни души. В низком курятнике раскудахталась курица, видать, снесла свое обыкновенное яйцо. Неплохо бы завтра сходить на рыбалку, вот лишь бы уговорить мамку. Юрка поклянется, что к ужину будет дома. К любому часу, какой она затребует и назначит. Скорее бы уж наступило завтра.
4
Мамка с вечера слова поперек не сказала. Сразу почему-то согласилась с Юркой и отпустила на рыбалку. Без всяких расспросов и наказов. Видать, под настроение хорошее попал или потому, что сама собиралась на гулянье.
Юрке всю ночь снился лес с речкой. Ранним утром он уже был на Лекме.
В реме повсюду сохранились следы недавней грозы, на каждом шагу слом и обрыв. Крутой глинистый яр еще больше обвалился. По опушке леса накатали новую дорогу. На месте бывших летних ферм и скотного двора сделали простой загон и огородили жердями. Недалеко на лугах пасется скот, вокруг которого летают слепни и оводы. Речка кое-где расширилась, в другом месте сузилась, оголились корни деревьев.
Прежняя рема порядком изменилась, многое посохло, многое наросло и расцвело. Спокойствие вокруг и безветрие, не качаются ветки, не шелестят листья.
Удочки пока не разматывали. Шли осторожно и неторопливо. С трудом узнавали и отыскивали знакомые места. Найти лисью нору не смогли.
Вчера с Генькой сговорились, что пойдут втроем, а собралось пятеро. Один пристал с соседней улицы. Напросилась еще городская девчонка, которую сразу же прозвали Фифой. Она приехала на каникулы к дальней деревенской родне. Ее, конечно, заметили, как всякого нового в Ижовке человека. Фифа упросила Геньку, и тот взял ее с собой. Вся из себя фуфыристая и любопытная до невозможности, словно из другого, неземного мира явилась. Любая ерунда ей в диковинку и новинку.
Когда Юрка увидел Фифу, то сразу подумал, что не к добру это все. Платье в оборочках, короткое до бесстыдства, совсем выше коленок. Ноги тонкие, розовые, так и лезут в глаза. А ей хоть бы хны и нисколько не совестно. У деревенских девчонок подолы чуть ли не до пят. Грех, когда выше задерут. Эта же бегает, прыгает и не замечает своего позора, чуть ли трусы не показывает. Обдерет ноги в лесу о колючки, не обрадуется. Жди, что еще нюни распустит.
Юрка не любил девчонок. Правда, несколько месяцев назад хотел тайно послать записочку какой-нибудь из своего класса. Переписка на уроках стала тогда заразой. Особенно старались девчонки. Передавали и перебрасывали на другие парты, скрытничали и секретничали. Юрка, конечно, терпел долго и записки рвал. Потом надумал и решился сам написать. Даже листок нашел и карандаш подточил. Но писать было некому и вроде бы не о чем. Вот если бы эта длинноногая с бантиками училась с ним в одном классе, то, может быть, Юрка и послал. Накатал бы записку о чем-нибудь просто так.
Фифа прицепилась к Юрке, как репей, ходит надоедливо по пятам. Пищит и визжит, только рыбу пугает. Любого комара, жучка или букашки боится. Цыкнул бы на нее, заткнул рот, да как-никак она городская и в гости приехала. Сроду такого не бывало, чтобы в Ижовке девчонки ходили на рыбалку. Лучше уйти от нее подальше и скрыться в камышах. Но как раз в этот момент Фифа в кустах завизжала и заохала, словно ее укусили или ужалили, хотя ни диких змей, ни зубастых зверей в реме не было. Она всего лишь расцарапала ногу о ветку шиповника. Юрка нехотя подошел. Красная царапина с крошечными капельками крови протянулась линией от коленки. Фифа сидела на траве, задрав юбочку, вытянув ногу, и осторожно гладила ее ладошкой. Всхлипывала и дула на больное место.
– А ты залижи, меньше болеть будет.
– Вот еще выдумал!
– Ничего я не выдумал, все звери раны зализывают…
– Я тебе не зверь, а человек. – Но она все же нагнулась и попыталась языком достать, даже согнула ногу, морщась от боли. Однако достала кончиком языка только коленку.
– Послюнявь пальцы и помажь…
– Больно дотрагиваться руками, попробуй сам мне зализать, от языка не так будет больно.
– Ишь ты какая, свою бы зализал, а от чужой крови меня стошнит.
– Ну тогда сам слюнями помажь.
Пришлось Юрке так и сделать. Когда коснулся пальцами ее ноги, по всей длине царапины, почему-то почувствовал, как учащенно забилось сердце и немного закружилась голова. Он слегка погладил ее ногу. Неожиданно ему захотелось нагнуться и действительно зализать царапину. Она сидела неподвижно и напряженно, терпеливо вытянула обе ноги и смотрела вниз. Юрке вдруг стало неловко за себя и стыдно отчего-то. Он быстро встал.
– Ты куда? – закричала она. – Еще! Еще!
– Я за примочкой… – Он пошел, сорвал несколько листьев подорожника и шалфея. Замочил в воде и, вернувшись, аккуратно наложил на царапину.
– Прижми и держи руками, как компресс, – сказала она и тут же снова напряглась, застыла, потом совсем тихо добавила: – А ты долго гладь, так мне легче и совсем хорошо…
Когда гладил ее ногу, то почему-то хотелось делать это еще и еще. Она чуть спустилась вниз, будто помогая ему, и его рука словно обожглась о трусики. И тут, не вытерпев, уже не видя ничего и не соображая, наклонился к ее ноге и подул. Она вдруг прижала его лицо руками и закричала:
– Еще! Еще! Ну давай!
После непонятной какой-то усталости Юрке страшно захотелось спать. Он отшатнулся, присел в сторонке.
– Ну чего ты! – почти истерично закричала она.
– Не ори! На рыбалке не принято глотку драть…
Фифа захромала за Юркой.
Медленно пошли по берегу. Она отстала…
Старые тропинки вдоль реки размылись и исчезли. Юрка продирался сквозь бурелом. Искал заливчик, где водорослей и коряг не густо. Полремы прошел, кажется, а еще ни разу как следует не клюнуло. Видно, и рыбу тоже распугала и разогнала минувшая гроза. Камыш стенкой встал у самого берега, упала тень на зеркало воды. Время перевалило за полдень, а на куканчике всего три рыбешки.
Ребята остались где-то далеко позади. Не слышно ни шагов, ни говора.
Юрка свистнул, чтобы те откликнулись.
Свистеть по-особому он выучился давно.
Отец смеялся и называл его «соловьем-разбойником». Про это лесное чудище Юрка узнал от него. Отец любил и охотно читал былины. Юрка забирался с ногами на кровать, слушал и забывал обо всем на свете. Перед глазами медленно проплывали богатыри на упругих конях, разбойники с саблями и усами, картины, звонких битв и сражений. Мамка у печки совсем неслышно убирает заслонку, вытаскивает ухватом чугунок и сковородником цепляет крышку. Потом осторожно накрывает ужин, боится помешать. Чуть зашумит, сразу же смутится, и на лице застынет виноватая улыбка. Но отец не замечает, и только слышится распевная былина. Хотя Юрка и сам уже тогда бы смог прочитать по слогам, но былины лучше слушать. С тех пор прошло много времени. Казалось, так много лет, что будто и сам отец ушел в былину, превратившись в сказочного богатыря.
Юрка снова свистнул на всю рему. Крикнул и позвал ребят. Никто не отзывался. Странно как-то все складывается. Не может быть того, чтобы ребята ушли и оставили его одного. Обычно если разбредутся или потеряются то потом соберутся все вместе на бугорке у крутояра. В одиночку часто сигналят друг другу, зовут. Свистнет кто один раз – значит, недалеко, два раза – просто разыскивает, а три раза – домой пора. Никто не свистнул ни один, ни два, ни три раза.
Юрка кричал, свистел, но все попусту. Так и вышел к крутояру один, а там никого и следов нет. Повисла в небе свинцовая туча. Очень уж похожа на грозовую. Это неспроста.
Во всем виновата Фифа, она могла ребят увести домой без Юрки. Не зря с самого начала было плохое предчувствие. Не успела приехать из своего города Глазова, как завоображала. У Юрки еще найдется времечко с ней рассчитаться, лето длинное. А может, поди, где-нибудь в реме заставляет сейчас пацанов ногу лечить, и они, как собаки, поочередно зализывают ее царапину? Не надо было с ней связываться, еще на заимке от ворот поворот указать бы. Прямо досада, одно расстройство.
Юрка припустил что было сил. Напрямую, по полю, через канавки и болотину. Лишь бы не догнала черная туча. В ушах завыл ветерок, в памяти всплыли слова:
Кто скачет, кто мчится
Под хладною мглой?
Ездок запоздалый,
С ним сын молодой…
Стихи эти Юрка знал наизусть. Запомнил от отца с первого прочтения. Отец до Красной Армии всю свою жизнь работал учителем. Весной, летом и по осени частенько выезжал в поле, а то на дальние фермы по делам сельсоветского исполкома. Больше ездил верхом, от подвод и телег отказывался. Иногда, на Юркино счастье, брал его с собой. Посадит у холки, возьмет одной рукой повод и слегка пришпорит лошадь. Другой рукой крепко держит Юрку и смотрит вперед. Конь побежит сначала трусцой, потом увеличит шаг, чаще зацокают копыта. В азарте отец пришпорит посильней каблуками, и вот уже рысь сменяется галопом, вместо легкой тряски будто мягко плывет Юрка по воздушным волнам. И слышно, как у лошади в брюхе внутренности прыгают и булькают. В такт галопа, над самым ухом, голос отца:
Кто скачет,
Кто мчится…
Стихов он знал такое множество, что не переслушаешь их даже в кругосветном путешествии. Отец и при прощании прочитал сыну какие-то стихи, но Юрка не запомнил, потому что ревел.
Папка уходил на финскую войну, словно уезжал совсем ненадолго в отпуск. Для сельских учителей была бронь от армии, об этом сообщил мамке председатель сельсовета. Отец сам ездил в Ижевск и настоял, добился, чтобы его как самого грамотного и сознательного отправили на военные действия к финской границе.
В юности своей отец недолго то ли учился, то ли практиковался в эстонском университете, у которого, к удивлению Юрки, было сразу три названия – Юрьевский, Дерптский и Тартуский, – хотя все три названия относились к одному городу. Как отец ни объяснял, а втолковать, что это такое, так и не смог – Юрка все равно не понял. Там отец выучил сначала немецкий, а потом эстонский язык, который был очень похож на финский. Он доказал, что на финской войне может быть военным переводчиком, и с ним согласились.
Мамка не смела отговаривать. Желание и воля отца были для нее непререкаемы. Она даже плакать при нем стеснялась. Не посмела показать слезы и на проводах, потому что папке это могло бы не понравиться. Провожали немногих, без речей и музыки, но все же торжественно. Напоследок отец обнялся с председателем сельсовета, как с родным. Расцеловал Юрку и, конечно, долго не отпускал мать. Она поехала с ним на телеге провожать до самой станции. Юрка просился, но не взяли – было мало места на телеге. Папка ушел накоротко, а не вернулся совсем и никогда больше не возвратится, не придет в дом. Мамка так и не успела еще съездить на его могилу в каком-то карельском поселке. Все собиралась и выкраивала время, но одной боязно, а вдвоем накладно. В этот год обещала съездить обязательно. Осенью или зимой приготовится и соберется.
Как только отец отбыл на финскую войну, мамка пошла на работу в совхоз. Хоть и получала военное пособие, но невеликое, а расходы росли и на Юрку, и по дому-хозяйству, и на посылки, что ежемесячно отправляли отцу. Правда, в письмах он ругался и запрещал, но мамка на этот раз его не слушалась, посылала гостинцев, стряпанных печений и хрустящего хвороста да всякого вязания на случай зимы и холодов. Там север и другой климат, погода бывает лютая. В Ижовке любую погоду перетерпеть можно. Только вот грозы теперь стали страшно злыми.
Рема, казалось, затаилась. Туча над головой пугает все больше, будто в самом деле одинокого Юрку догнать хочет. Лучше уж не оглядываться на небо, а удрать бы поскорее от нее.
…ездок запоздалый, с ним сын молодой…
То ли вслух сказалось, то ли в ушах откликнулось. Когда стремительно бежишь, все путается под ногами и в голове слова и мысли проскакивают друг за дружкой помимо Юркиной воли.
Уже завиделись спасительная заимка и череда невысоких изб. Юрка оглянулся на небо, туча отстала. Опередил-таки ее – убежал от грозы. Слава богу, все громы и молнии позади, зря так испугался. У заимки наконец-то можно отдышаться и облегченно вздохнуть, сбавить шаг и спокойно дойти до дома.
В Ижовке странная и непривычная тишина. Обычно в предвечерье шум, гам и сутолока. Идут и едут с работы люди, другие встречают скот или хлопочут на подворье. Кто за ворота выходит посплетничать, посудачить на завалинках.
Неожиданно заголосили две бабы в каком-то доме, не разберешь – то ли вечеринка, то ли беда.
С гулянья, видно, давно возвратились. Лошади распряжены, и на конном дворе полно заброшенных подвод.
Издали увидел Юрка на крыльце мамку. Она замерла каменным изваянием. Смотрит, приложив козырьком ладонь к глазам. Встречает, господи помилуй, неспроста. Видно, давно ждет. Неужели снова озлилась?
Можно, конечно, Юрке переждать на задворках. Постоит-постоит она, устанет да в избу уйдет. Но чему быть, того не миновать, хотя он вроде бы ни в чем не провинился. На всякий случай Юрка принял покорный и виноватый вид. Авось она изменит своей привычке и смилостивится.
Когда подошел к крыльцу, мамка даже не шелохнулась и словно смотрела в такую тридевятую даль, как за самый край земли. Юрка робко поднялся по ступенькам па крыльцо. Но ничего не происходит, мамка в его сторону даже не смотрит, ровно его тут нет или он человек-невидимка. Руку от глаз она не отрывает и не опускает. Губы сжатые и бледные, ни кровинки, как у тяжелобольного человека. Может, она по-настоящему занемогла? А может, всю деревню поразил какой-то неизвестный недуг? Что-то все-таки произошло такое, чего раньше никогда в жизни не было. Мамка, неотрывно глядя в небо, тихо и серьезно говорит:
– Война.
– Какая война?
– Самая что ни на есть… – Голос у нее, действительно, как у больной.
– С белофиннами, что ли?
– С фашистскими германцами.
Она говорит так, как будто ей давно все известно.
– И что будет?
– Постой тихо да помолчи.
Так они и стояли. С крыльца не уходили и оба зачем-то смотрели на небо. Юрке казалось, что она ждет какую-то чудо-птицу, которая вот-вот выпорхнет из-за горизонта и на крыльях или в клюве принесет нужные мамке вести.
От солнечного света Юрке резало глаза, и небо еще больше расплывалось в яркое зарево.
Мамка смотрит слепым взглядом и говорит:
– Ли-кась, сынок, како взошло черное солнце.
– Никакое оно не черное, а обыкновенное, и никуда оно не взошло, а висит на небе и скоро сядет за земной шар.
– Ты приглядись и не спорь, – говорит она. – Ежели долго смотреть, то посреди белого света темное пятно, как черная дыра в небе, это и есть солнце…
– Солнце темным может быть только при затмении.
Мамка в самом деле захворала или потеряла по малограмотности сообразительность.
– Я про то и говорю, что на небе его видать темным, когда на земле лихо.
Попробуй тут разберись, что к чему и отчего она говорит такие мудреные слова, которые только в кошмарном сне прийти могут.
– Это у тебя у самой в глазах темно, а вовсе не в небе.
– Ты еще мал, не удал и дурак. Вырастешь, поймешь и уразумеешь ясновиденье…
Юрка за нее испугался. От ее странностей становилось неловко и тревожно. Потом они ушли в избу и долго сидели не разговаривая. Незаметно стемнело, и наступил вечер, но свет не зажигали. Наверное, так сейчас сидят в каждом доме, во всей деревне. Может, и по всей стране.
Мамка сидела на табуретке у печки и раскачивалась, будто унимала вдруг появившуюся острую боль.
Никто не заходил, и сами никуда не собирались. Потом она прошаркала в сумерках комнаты к комоду, зажгла керосиновую лампу. Юрка увидел, как она беззвучно плачет, стягивая в узелок морщинки лица и губы. При свете лампы она показалась меньше ростом, но на стены падала огромная ее тень. Она не вытирает мокрые щеки. Потом всхлипнет, застонет, заскулит, как подраненная.
Юрке очень захотелось, чтобы люди смогли сразу выплакать все слезы, и тогда плач совсем уйдет из их жизни. Боль мамки в сто раз хуже, чем самому болеть.
Мамка повернула фитилек в лампе и увеличила огонь. Желтый свет слился с голубой полоской, падающей через окно от луны. Выдвигались и задвигались ящики комода. Шуршали листы пересохшей бумаги. Мамка опять принялась за письма. Читала она распевно. Изредка перехватывало дыхание, и она принималась читать слог сначала:
– «Милые, родные и самые дорогие мои мамочка и Юрка»…
В лунной ночи носилась по деревне «Раиска», гремела и тарахтела.
– «…как бы я хотел писать вам свое последнее перед нашей встречею письмо не в окопном сугробе, а на пенечке в мирном лесу, когда перестанут свистеть пули, а вместо оглушительных разрывов бомб и снарядов прогромыхает над головой трескучий гром и разгуляется светлая весенняя гроза…»
Такого скопления народа Юрка в Ижовке еще не видел ни на одном сходе, ни на одном собрании. Вся площадь перед сельсоветом и правлением совхоза заполнена односельчанами и приезжими людьми.
Председатель сельсовета ходил среди толпы в полной военной форме, в портупее и с орденом на выглаженной гимнастерке. Несмотря на зной, лихо заломлена его папаха с красной звездой. Жаль, нет у него командирских знаков отличия в петлицах, хотя и без того все почитают и слушаются его, как боевого командира. На фотографиях с финской войны у папки на воротничке было два треугольника, он был младший командир. Председатель сельсовета вполне может быть старшим командиром, с ромбами или шпалами. Сбоку на поясном широком ремне пристегнута настоящая кожаная кобура, но нагана в ней не было.
В толпе сновали деревенские мальчишки. Трое военных с красными кубиками в петлицах отдавали громкие команды. Проходила перекличка. С мешками и котомками в руках строились мобилизованные новобранцы.
Бабы и старухи держались ближе к своим мужикам и родне. Девчонки теснились кружком в сторонке.
Не обученные, не служившие парни и отвыкшие от армии мужики суетно выстраивались. Путались в строю, топтались на месте. Никто не злобился и не переругивался. Отдавались распоряжения, наводился порядок. Девки украдкой целовались с парнями. Старики напутствовали молодых. Некоторые пришли слегка подвыпивши и громче всех балакали. У других торчала из мешка четверть с бражкой. Гармошка играла грустный вальс «На сопках Маньчжурии», но никто не танцевал. То появлялась из-за угла неугомонная «Раиска», то исчезала в переулках и мчалась к окраинам. Из других деревень приезжали новые призывники.
На столбе у сельсовета наспех повесили большой квадратный радиорепродуктор. Оттуда слышались речи о войне.
В толпе новобранцев много знакомых Юрке парней. С ними он обменивался рогатками, удочками и поделками, гонял по деревне голубей, играл в «козны» и «чижики». Сейчас они выглядели настолько серьезными и взрослыми, что просто трудно представить их прежними деревенскими баламутами. На красноармейцев они тоже мало походили своими полудетскими лицами и разношерстной одеждой. Председатель сельсовета придирчиво осматривал отъезжающих.
По команде военных первые мобилизованные стали рассаживаться по возам и подводам. Заголосили бабы, молча прощались старики. Мамка глядела воспаленными глазами, много сморкалась и вытирала слезы. Ей провожать было некого. Впереди обоза поставили «Раиску», председатель сельсовета стоял на левом крыле и держал речь. От волнения поправлял и дергал портупею. Закончил он речь, подняв руку, совсем тихим поперхнувшимся голосом:
– Дорогие односельчане, да здравствует наша победа!
Никто не аплодировал, люди плакали. Председатель сельсовета подал знак, махнул левой рукой и сел в кабину. Взвыла мотором «Раиска», и обоз медленно тронулся с места. За подводами шли пешком провожающие, некоторые – до заимки, другие намерились до станции. Мамка сама не пошла и Юрку не пустила вслед за обозом.
Через Ижовку потянулись обозы из других районов, деревень и околотков. Проходили пешие колонны красноармейцев из военных летних лагерей до станции. Провожали их и встречали всей деревней. На постой бойцы не вставали, останавливались лишь на короткий привал. Дымила походная кухня, раздавали из котла кашу, развязывали походные вещевые мешки. Снимали с плеч скатанные шинели и ели прямо на траве. Пили деревенское молоко, угощались пышными пирогами. Пахло мясными и рыбными консервами. Переобувались и чистили от пыли ботинки и одежду. Сушили на солнце потные портянки и длинные обмотки, потом скручивали, как бинт, туго и ровно наматывали на ноги.
Юрка подолгу стоял, наблюдал и удивлялся, как ловко они приноровились к походной своей жизни.
Уже немолодой красноармеец посмотрел снизу вверх и подмигнул:
– Нравится?
– Что?
– Да вот это. – Красноармеец показал на обмотки.
– Не знаю.
– Тебя как зовут-то?
– Юрка.
– А фамилия?
– Сидоров.
– Веселая у тебя фамилия, парень, а у меня тоже есть «сидор» – улыбнулся красноармеец и поднял большой вещмешок. – Хочешь, достану гостинца?
– Не хочу.
– Дело хозяйское, была бы честь предложена. Мамка-то у тебя есть?
– Само собой.
– А тятька где? Дома еще?
Юрка не ответил, промолчал, сделал вид, что не расслышал. Некстати и ни к чему сейчас говорить, что отец погиб. Он присел на корточки, чтобы лучше разглядеть прочные железные подковки на подошвах солдатских ботинок. Наверное, такие носил и отец, когда пошел на войну.
– Вы сейчас на фронт?
– Почитай, что прямиком, без задержек.
– А меня примут на фронт?
– Нет, Сидоров, не примут, не смеши честную публику и не спрашивай никого про такие глупости.
– Я просто так, а вовсе не про глупости… А вот если я добровольцем напрошусь, возьмут тогда?
– Все одно нет, ребятишек не берут и не пустят.
– Я вырасту.
– Далеко хватил, Сидоров, не успеть! Пока ты растешь, мы с войной покончим, разделаемся в два счета, понял?
– Конечно, понял… Только когда?
– Полагаю, Сидоров, что месяца через два-три, от силы через полгода, и возвернемся.
– Тогда, конечно, не поспеть.
– Вот и слава богу!
Красноармеец громко рассмеялся и дружелюбно похлопал по Юркиному плечу.
– В строй!.. В строй!.. В строй!..
По цепочке прокричали команду, и все красноармейцы побежали строиться.
Построенные колонны, дружно ступая в шаг, прошли по Ижовке дальше, к станции. Если бы Юрка сейчас был большим, то тоже бы шел по этой дороге на фронт.
По радиорепродуктору весь день передавали военные песни и марши. Люди быстро к радио привыкли и меньше глазели, разевали рты и разглядывали это чудо в деревне, а больше слушали, старались не пропустить ни словечка.
На старой тряской телеге проехала тетка Марисова, вожжами отмахивая слепней. Они вились вокруг спины и морды лошади. Тетка Марисова ехала за полуденной дойкой, негромко позвякивали пустые пузатые фляги. Странно и непривычно было видеть шоферку с вожжами в руках – ее родную «Раиску» тоже мобилизовали на фронт.
Юрка промотался на улице допоздна, домой шел при белой пуне. На черном небе светились звезды, мерцали и подмигивали земле. Им оттуда вся земля видна: затихшая Ижовка, медленные обозы и скорые поезда, что увозят людей на войну, далекий-предалекий фронт, где стреляют и убивают, «Раиска», которая подвозит к окопам снаряды, председатель сельсовета в конном полку или даже впереди целой дивизии.
Мамка сидела одна в темноте. Потом зажгла лампу. Поужинали без аппетита, мамка отправила Юрку спать, а сама осталась на кухонке помыть посуду в медном тазу.
От луны не спасают занавески на окнах, просвечивают насквозь, пропускают холодный свет. Юрка отвернулся к стенке. Лучше накрыться с головой одеялом до завтрашнего утра, может, сны хорошие приснятся.
…Приснились, наоборот, страшные путаные картины и цветные кошмары, которые наяву представить ума никакого не хватит. Ползли синие, черные и коричневые толстые стеганые одеяла. Шевелятся, крадутся, готовы вот-вот наброситься на голову. Их рубят, кромсают саблями и шашками, пронзительными и острыми, как огонь и молния. Взрываются красные, желтые и оранжевые всполохи, озаряют все зримое пространство. Ослепляют, и каждый раз приходится мигать, закрывать плотнее веки. Проносятся кони с рыжими гривами, сверкают клинки и стрелы. Совсем низко раскрывается огненная пасть, а в центре черное солнце. Белое небо орет, хрипит и гогочет неистовым голосом: «Вой… на! Вой… на! Вой… на! Война!»
Разобрать невозможно, где война и где гроза, спуталось все.
Некуда человеку деваться и спрятаться. Бросает то в горячий воздух, то в холодный огонь. Мелькают, исчезают лица знакомых. Позвать бы их на помощь, да никто не услышит в таком аду. Прыгают от страха длинные тонкие ноги, а Фифы нет, потому что она уехала в город. Пробежала осторожная лисица и провалилась в глубоком дупле. Гудит истошно гром, зовет человеческим голосом: «В… строй, в… строй! Война! Война!.. В строй!»
Нет, это командует пожилой красноармеец. Но он так далеко, что к нему не пройти через огромную пропасть.
Нужно разбежаться, прыгнуть и перелететь по небу. Треснуло и раздвоилось могучее дерево. У самых ног раздвинулась земля и образовалась бездонная яма.
Хочется закричать во весь голос, но страх не дает. Нет сил сладить с горлом, будто обручами его стянуло, и дышать нечем. Юрка медленно начинает сползать в обрыв синей пустоты. Спастись, зацепиться не за что – сейчас провалится, а там, внизу, нет жизни. Совсем издалека доносится неумолкающий неизвестно чей рев: «В строй!.. Война!.. Вой…»
Юрка проснулся от собственного крика. Мамка у печки звякала чугунками, сковородой и заслонкою. Дрова догорали последним жарким пламенем, тепло которого обжигало Юркино лицо. Ранний утренний свет окрасил потолок и стены в пепельные цвета.
Мамка испуганно отставила кочергу и ухват. Подошла, стала говорить какие-то бессвязные слова. Юрка спросонья ничего не понимал. Она торопилась побыстрее приготовить завтрак, чтобы ранехонько успеть на работу.
Сгоревшие дрова уже распадались в угли. Прохладный пот Юрка вытер со лба ладошкой. Пытался сообразить, что с ним происходило. Не спутать бы, что в жизни, а что во сне. Слово «война» заклинилось в мозгах, и никакими щипцами не вытащить, никакой кувалдой не выбить, хоть голову раскалывай на две части, на две половины. В одной останется война, в другой – довоенная жизнь. Но у человека всего лишь одна голова, одна душа и одна жизнь.
Плохо, что мальчишек не берут на войну. Неправильно это, несправедливо. Наверное, неправду сказал тот пожилой красноармеец, просто наврал для своей утехи. Но он же пришел во сне и позвал Юрку с собой. А может, это был не он, а сам родной отец? На фронт обязательно пустят, потому что лучше пацанов никто в войну не играет. Юрка прошел на кухню, задумчиво сел у стола.
– Мамка, а кто дальше, Финляндия или Германия?
– Обе у черта на куличках, – нехотя ответила она, завязала туго косынку и заспешила на утреннюю дойку.
Пора самому сходить на призывной пункт и запроситься добровольцем. Нельзя канитель тянуть, глядишь, и война кончится. Когда сам на фронт явишься, то назад не отправят. Из Ижовки уже трое сбежали и не вернулись. Розыскной команды на всех не хватит. Утром, поговаривают на деревне, поезда ходят чаще. Юрка был на станции всего лишь один раз. Тетка полгода назад телеграфировала, что будет проездом. Просила повидаться у вагона. Мамке дали выходной, с собой взяла Юрку. Помнится, что шли медленно, устали, потратили почти целый день. Минуты три они покалякали у вагона, и та уехала. В буфете железнодорожной станции мамка накупила карамели и рассыпчатого печенья. Всю обратную дорогу Юрка сосал конфетки. Больше всего его поразили поезда. Они важно дышали через трубы, фыркали белым паром, ползли или катились на колесах, как многоногие гусеницы, да еще свистели, гудели и перекликались на своем паровозном языке. Тормозили и стояли уставшие, отпыхиваясь с дороги… Сейчас им, пожалуй, некогда на стоянках задерживаться, надо безостановочно доставлять грузы и людей фронту. На них Юрка запросто доедет. Хотелось бы, конечно, с напарником, хотя бы с Генькой Морозовым, да кто знает, как дело обернется, вдруг сорвется, а медлить нельзя…







