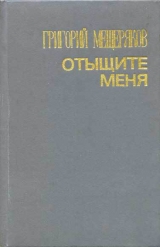
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
…Черный репродуктор на белой голой стенке. Вокруг кажется много людей, а может, нет ни одного. Они слушают радио, где говорят слова о смерти. Об этом говорили так давно, много-много лет назад, и вот сейчас опять говорят, как будто человек умер второй раз в жизни. Снова от слов и музыки плакать хочется. Но нет уже ни белых пятен, ни черного репродуктора, а по знакомой улице идут люди. Их так много, что опять ни одного не видно. Они спешат куда-то. На работу или праздничную демонстрацию? А может, просто на именины? Среди них счастливый и улыбающийся папа, он несет на плечах чужую девочку, которая руками хочет дотянуться до головы жирафа. Папу окружают его друзья и много, много знакомых. А потом все они пьют чай. Как хорошо, что всякие неприятности у папы закончились так благополучно… Надо обязательно подойти и сказать ему об этом… Откуда-то выходит мама и идет прямо к огромной клумбе с цветами. Она почему-то несет в руках свою печатную машинку и держит ее, как стопку дров или дорогой хрустальный подарок, боясь выронить. Машинка не может быть подарком, но в день рождения все может случиться. Мама, наверное, никогда не будет больше печатать, а папа до сих пор не умеет. Тук-тук-тук… Как дятел по дереву, постукивает машинка… Тук-тук-тук… Мама, оказывается, несет обыкновенные дрова, которые совсем не нужны, потому что в квартире центральное отопление, а в кухне нужны лишь сухие щепки. Маме очень тяжело, иона сгибается от ноши. Но почему она идет в другой дом? Наверное, по ошибке, ведь никуда они не собираются переезжать. Хочется позвать, остановить ее и помочь ей. Но тут мама растворилась в коричневом воздухе. Исчез и большой незнакомый дом. Может, его вовсе и не было? Вместо него маленькая и тесная комнатка, где так много людей, что невозможно повернуться. Среди них опять счастливый папа. Но только как он сумеет поднять Зинку на руки, посадить на плечи и нести далеко и высоко в такой крохотной каморке? Вокруг люди тоже хотят смеяться весело, как папа, но не могут, у них ничего не выходит. Поэтому они лишь бубнят непонятное закрытыми губами, ходят вокруг папы, словно в хороводе, топают и стучат по полу каблуками.
Ходят и ходят, стучат и топают по полу…
Зинка проснулась от стука каблуков, что доносился из гостиной. Там действительно ходили какие-то люди и загораживали щель в двери. Глубокая ночь. В окнах домов напротив не видно ни одного огонька. Все люди еще спят крепким предутренним сном. Из гостиной доносились тяжелые шаги да стук задвигаемых ящиков стола. Почему-то стоит милиционер, переступает с ноги на ногу. Еще двое незнакомых ходят вокруг папы. Все в сапогах с толстыми и громкими подошвами. Мама молча и растерянно прижимается к стенке. Папа, осунувшийся и сумрачный, торопливо одевается. Зинка не хочет шлепать босыми ногами по гладкому полу, подходит к двери на цыпочках, в темноте спальни ее не увидят из гостиной. Быстро накинув пальто и не глядя ни на кого, папа выходит вместе с ночными посетителями. Мама подошла к Зинкиной комнате, открыла дверь:
– Ты не спишь?
Зинка, чувствуя неладное в доме, испуганно посмотрела. Мама погладила по голове и тихо сказала:
– У папы свои дела, не беспокойся, он скоро вернется…
Тут же ушла к себе в кабинет и плотно прикрыла дверь. Лучше бы папа уехал тогда, после того неприятного разговора, чем сегодня ночью уходить куда-то с незнакомыми людьми и милиционером. Без папы будет совсем скучно и плохо, просто невозможно будет жить без него…
Папа не вернулся, как обещала мама, и через несколько дней они выехали из квартиры. В самом деле, зачем двоим теперь столько больших комнат? Поселились с мамой на самой окраине города в одноэтажном глинобитном доме, где очень длинный коридор и много дверей. Комната с низким потолком и одним окном, посередине выбеленная кирпичная плита с квадратной трубой в мелких трещинах. Дрова приносила и топила плиту мама. Зинка с белым цинковым ведром ходила на колодец, вода в нем холодная и вкусная. Почти всю обстановку оставили на прежней квартире. Мебель здесь не нужна, да и не поместится, вполне достаточно одной кровати, стола и двух стульев. Взяли с собой белье, посуду, две попавшиеся под руку игрушки, стопку книг и те папки с мамиными бумагами, которые ей разрешили иметь. Все это погрузили и уместили на одну подводу. Помогал им только кучер. Прощаться и провожать никто не выходил, но молча в окна смотрели многие. К Зинке подошел мальчишка-одноклассник из другого подъезда и, насупившись, спросил:
– Правда, что твой отец враг народа?
– Нет, неправда…
– А то кто-то говорил… – замялся он и при появлении мамы ушел за угол дома. «Глупый вопрос задал, – подумала Зинка. – Наверное, кто-то распустил слух, сплетню из мести или тайного зла?»
Мама, было видно, переживала, но продолжала держаться сухо и собранно. Зинке не давало покоя долгое отсутствие папы, да еще этот нелепый вопрос мальчишки у подъезда.
– Пожалуйста, не слушай никаких оговоров! Это ложь! – отвечала раздраженно мама. – Но об этом ты никому не должна говорить. Папа уехал надолго, он обязательно возвратится, и вообще, держи язык за зубами…
Зинка не знала, куда и на какую работу ходила мама. Пишущая машинка осталась в старой квартире. Они прожили здесь, на окраине Магниегорска, совсем немного. Потом маму куда-то вызвали, и им пришлось уехать в деревню Огаповку. Там протекала река Урал и можно было много купаться с деревенскими мальчишками. Поселились в мазанке, вокруг которой был запущенный огород. Хозяйка уехала к сыну на Дальний Восток, и мама посылала ей деньги по почте. Огород вместе с мамой расчистили, посадили картошку, морковь и капусту. Хлеб пекли сами в русской печке, в основном лепешки. Муку мама ходила покупать на мельницу. Она устроилась уборщицей в начальной школе. Вставала рано, чуть свет уходила, в обед возвращалась и хозяйничала по дому. Она перешивала и штопала одежду. По вечерам что-то писала, скрипела по бумаге пером номер 86. Написанное прятала в чемодан. Мама ни на что не жаловалась, почти не разговаривала и ничего не объясняла дочери. Зинка пожалела, что не взяла с собой все игрушки. Они остались там в одиночестве. Наверное, их раздарили и раздали или просто выбросили с балкона. Куклу пришлось сшить из тряпок, она оказалась даже красивей и занятней покупных. Но играть с куклой удавалось не так уж часто. Зинка уставала от учебы, помогала маме по дому и по работе, потому что натаскать дров в школу и истопить четыре печи маме было одной трудно. Тоска и ожидание доводили Зинку до головной боли. Как ни тяжело им было жить, но слезы скрывали друг от друга.
Плакали вместе лишь в тот день, когда узнали о начале войны с фашистской Германией. Сидели вдвоем и молча вытирали слезы. О папе так и не было никаких вестей. Где он и что с ним, мама об этом молчала. Один раз в месяц она ходила отмечаться, что никуда не выезжала за пределы Огаповки и района. Каждый раз Зинка надеялась, что мама наконец принесет радостное сообщение о папе, ведь должна же в конце концов знать все о своем отце родная дочь.
– Пожалуйста, никогда и никого ни о чем не расспрашивай, – сердито говорила мама, – и сама не будь болтлива. Если кто-нибудь будет спрашивать, можешь говорить, что у тебя папы нет и не было.
– Как же его не было, если он был. Я должна от него отказаться, что ли?
Мама посмотрела испуганно и как-то странно, немного смягчилась и сказала после долгой паузы:
– В крайнем случае… можешь сказать, что он на фронте и воюет против немецких фашистов и больше ты ничего не знаешь. И, пожалуйста, не задавай ни одного лишнего вопроса…
Кому-то и можно что-нибудь наговорить и придумать, но себя-то ведь не обманешь. Однажды она услышала, как старый фельдшер говорил маме:
– Извините, Полина Лазаревна, здесь совершенно ясная картина, почему обязательно нужно отказываться? Как вы сами помните, сын за отца не ответчик.
Зинка догадалась, что они говорили о папе, вокруг имени которого столько таинственных загадок. Бедная мама, она живет в страхе. От всего этого Зинка чувствовала себя усталой и совсем разбитой. С каждым днем становилось хуже и хуже. Видно, не побереглась от сквозняков и простудилась. Будто какой-то комочек застрял в груди, мешает в горле и постоянно вызывает, кашель. Воздуху вокруг вроде бы в достатке, а все равно не хватает. Лицо похудело, поблекло, скоро кожа просвечивать будет, хоть в зеркало не смотрись. Мама мерила температуру, ходила за старым фельдшером. Тог прописал порошки и душистую микстуру, но очень противную и горькую на вкус. Соседка по огороду, которая приносила молоко, советовала пить топленое собачье сало, но никто не знал, где его достать.
Мама пошла подрабатывать в колхоз. Ей казалось, что дочь мало ест, потому что невкусно, а на самом деле Зинке просто не хотелось. Маму в колхозе посылали на разные работы: то на ферму, то в поле, а то прибираться в помещении конторы и красном уголке. Зарабатывала и получала мама на трудодни продукты. Приносила в мешке немного зерна, брюквы и овощей.
Близких знакомых у них в Огаповке не было. Лишь старый фельдшер заходил один-два раза в неделю и Справлялся о здоровье Зинки. Как-то он сказал, что Зинку надо свозить в город и показать врачам. Но маме отлучаться из Огаповки не разрешалось, а хлопоты на временный выезд займут слишком много времени. По своим делам старый фельдшер поехал в Троицк и взял с собой Зинку. Там он с ней ходил по разным врачам. Они смотрели на рентгене, прослушивали, как она дышит, и совещались.
По возвращении в Огаповку фельдшер успокоил маму, но настаивал на дальнейшем лечении и пообещал свою помощь. Зинке уже было все равно, но не хотелось лечиться где-то вдалеке от мамы. Для себя Зинка сделала печальное открытие, что разучилась, перестала, как это было раньше, радоваться всему на свете: солнечному и светлому утру, зимним протоптанным дорожкам, весенним проталинам и капели, теплому летнему дождику, зеленым, желтым и красным листьям, опадающим с деревьев осенью. Раньше все поражало, восхищало, удивляло, а теперь нет. Наверное, так уходит детство, и уже никогда не возвратится то счастливое настроение, когда не замечаешь ни бед своих, ни горя других…
– Хочу тебя обрадовать, Зиночка, – говорит старый фельдшер и по привычке поправляет пенсне, – скоро ты поедешь в санаторную школу за Челябинском. Там очень здоровый лес и климат, много чистых озер. Ты будешь отдыхать, учиться и лечиться. А когда вернешься назад в Огаповку, возьму тебя рыбачить на Гумбейку, в ней рыбы больше, чем в Урале…
5
У Толика с Дядиваном вышел большой спор, начало которого Зинка не застала. Возбужденный Дядиван горячился больше обычного, обижался на Толика и укорял его:
– Ты меня извиняй, Анатолий, но ты перегнул палку явно не туда! Как это так, не может быть директором? Кто это и когда ему зарекал? Нет такого положения, что ежели музыкант, то к руководству не способен! Это ты своим малым умом так раскидываешь и еще упрямишься! Лишь бы для пользы человек старался, не ради себя, а он с делами по школе справляется ладно, упреков и нареканий грех на него иметь… Да где тебе, несмышленышу, знать! Ведь он отчета перед тобой не ведет и не будет? Погоди, погоди, не лезь в бутылку! Я защищаю его, потому как он такой же фронтовик, что и я перед тобой, а к фронтовикам нынче доверие полное, понял! Беда с тобой, с бухты-барахты всегда наплетешь лишнего…
Зинка слушала и в разговор не вступала. Упрямый Толик никак не соглашался с Дядиваном, мотал головой и, отвернувшись, смотрел обозленно в сторону, словно его очень обидели. Дядиван принялся увещевать и совестить Толика, точно уговаривал и выпрашивал добра:
– Ты вот, Анатолий, ведь сам музыку уважаешь да все насвистываешь, как бы наигрываешь свой мотив. Значит, у тебя в душе та музыка поет. А раз поет, то и слава богу, я не осуждаю и, больше-того, благодарю и приветствую, хотя и нет у тебя толкового инструмента, акромя охрипшего патефона да красивого свиста. Но одно дело, Анатолий, патефон играет, и совсем другое, когда живой человек берется за настоящий инструмент, это тебе не художественный свист. По правде признаться, ежели бы не было Михаила Афанасьевича, то и музыки бы тут никакой бы не существовало, и жили бы люди, точно глухие и скуковатые. А как можно сейчас здесь без музыки? Никак нельзя, насквозь прозябли бы. Что тебе доказывать? Ты сам с усам… Вся твоя, Анатолий, ошибка кроется в подходе к живому человеку, маловато ты еще пожил среди людей, вот тебе навыка и недостает, чтобы разобраться в душе. Однако твоя жизнь вся еще впереди, глядишь, и образумишься, зазря не станешь обижать хороших людей. Это я тебе авторитетно говорю! Самому мне, конечно, жалко, что никто тут на балалайке не играет: уж она-то что та же тебе скрипка, только другим голосом и переливами поет.
– Я его скрипку все равно разбил бы вдребезги! – зло говорит Толик и снова морщится. – Директор кислых щей…
– Опять за свое! Опять двадцать пять! Этого варварства ты никогда не позволишь, дурья твоя голова, – вздыхает Дядиван. – И откуда у тебя такая накипь? Поди, и сам толком не объяснишь. Запутался ты, Анатолий, в своих внутренних отношениях, заупирался, как кабан у дуба, а умом пораскинуть не желаешь. Нехорошо так-то и несправедливо. Скрипка при нем как есть вещь ему необходимая. Она нужна и для всей лесной школы. И назначать сюда для руководства тоже надобно не кого попало, а тонкого и дельного человека. Не меня же на эту должность посылать, потому что грамотенка у меня не ахти какая, а образования так и вовсе достойного нету. Михаил Афанасьевич же еще до войны самую что ни на есть высшую учебную консерваторию окончил. У нас в районе, почитай, ни одного такого не найдешь. Учись и ты, Анатолий, у тебя тоже получится, характер твой подходит, упрямый ты и гордый…
Толик неожиданно рассмеялся. Дядиван, довольный таким оборотом, сказал совсем примирительно:
– Я, видишь ли, настоящих людей всей душой уважаю… Михаила Афанасьевича также к им причисляю, и обижать его не только словом, а хотя бы даже намеком, неправильно и оскорбительно. Вот тебе мой совет, Анатолий, остановись и отрешись от зла к людям! Да оглянись позорче на себя, ты ведь еще не самый высший судья. Пора тебе умерить слепой глаз и злой пыл. Не то так ты и к Зинаиде всякие придирки да обидные зацепки отыщешь, хотя она-то и вовсе не заслуживает твоих капризов…
Зинке неловко. Дядиван все говорил правильно и мудро. Но не тем вдруг закончил. Зинка тут совсем ни при чем. С этого последнего разговора Толик перестал вообще говорить вслух о Михаиле Афанасьевиче. А Зинке директор нравился по-прежнему, он всем в школе нравился. Вот только Нина Томиловна все же ему не пара. Не такую бы ему надо, немножечко другую, чуть поинтересней. Она, наверное, кроме частушек, никакой другой музыки не знает. Да и не такая уж она по внешности симпатичная, как с первого взгляда кому-то кажется. Иной раз Зинка так и ткнула бы пальнем в ямочки на ее щеках, чтобы перестала до ушей улыбаться и заливаться смехом от своего счастья…
От мамы письма приходили два раза в месяц. О себе она писала скупо, больше беспокоилась о Зинке. Сообщала, что все там же работает уборщицей и подсобничает чернорабочей. Решила поднакопить денег на мед и гусиный жир, которые помогают при болезни легких.
Еще насадила в горшках алоэ, при лечении тоже хорошее средство, если знаючи сделать настой. Мамины письма Зинке приходилось скрывать от Толика. Сам он никогда не получал писем, хотя каждый день откуда-то ждал. Присутствовал каждый раз при раздаче почты, стоял в сторонке, хмурился, смотрел исподлобья на счастливчиков, а потом убегал прочь. Он, наверное, ждал писем всю свою жизнь, но так и не получил ни одного. Может, еще поэтому он бывает таким нервным. Любая чужая радость для него как личное горе. Мамины письма Зинка читала и прятала у себя в спальне. В последнем письме мама сообщила самую радостную новость – от папы получена первая весточка. Он второй раз на фронте после ранения и госпиталя, на самой передовой линии боев с фашистами. Обещал написать и Зинке, как только мама пришлет ему, адрес. Если позволит фронтовая обстановка, то он будет писать Зинке каждый месяц или даже каждую неделю. Маме переслал денежный перевод на 188 рублей, и она отложила деньги к приезду Зинки.
В лесной школе Михаил Афанасьевич запретил распечатывать и читать чужие письма всем педагогам и воспитателям. Ребята писали часто, но отправляли письма доплатными, конверты с марками выдавали только один раз в месяц. В следующем письме мама написала, что ей разрешили работать лаборанткой в школе и даже вести политзанятия и уроки истории, поэтому жить ей стало немного полегче. Зинка хотела поделиться своей радостью с одним лишь Толиком и больше ни с кем. Но случилось так, что он сам вдруг разыскал Зинку и протянул толстый треугольный конверт.
– Обязательно прочитай, доверяю, лично мне пришло…
Зинка сначала было замешкалась, но он стоял и упрямо ждал.
«Здравствуй, Толя!
Пишет тебе Егор Федорович Бесфамильный. Из розыскных учреждений узнал я, что ты живешь и поправляешь свое здоровье в лесном курорте. Вот и решил сразу же написать тебе туда. Сведения о тебе, полученные мною по документам и отдельным справкам, конечно, скудные, но некоторые факты из твоей жизни вполне сходные с моими предположениями и воспоминаниями, поэтому я считаю, что ты должен быть моим сыном. По всем приметам полагаю таким образом. Я тебе кое-что напомню, и ты сам попробуй вспомнить это, тогда мое мнение подтвердится определенно. Жили мы всей семьей в своем доме в городе Курске, ты тогда был совсем еще мал. Когда ты начинал ходить, твоя мать уехала из семьи и забрала тебя с собой. Мы с ней, так уж получилось, разошлись. Сообщаю тебе об этом, поскольку ты уже не маленький, сам соображаешь и можешь делать свои выводы и заключения. Ничего плохого я не могу сказать о твоей матери, и она обо мне тоже плохого, не скажет, однако она была упрямой и никакого адреса своего не оставила, поэтому я никак не мог отыскать вас, хотя долго дознавался. Наверное, она выходила замуж и сменила свою фамилию, а твоя осталась моей, поэтому мне и сообщили твой адрес. Я много делал разных запросов о тебе, но сейчас это дело поставлено на такой порядок, что детей отыскивают. Я знаю, что на нынешний день ты считаешься сиротой войны, а что случилось с матерью, ты мне потом опишешь или расскажешь. Сейчас ты можешь считать себя не сиротой, а с полным правом законным сыном, только постарайся как следует вспомнить меня. У тебя должен остаться в памяти наш дом, где под окнами в палисаднике рос большой старый вяз, он давал летом прохладную тень, и ты любил сидеть под ним на травке. Я тебе делал из камыша трещотки и погремушки, ты ими очень баловался и часто ломал, а я делал тебе новые. Когда у тебя были капризы, я играл на нашей курской гармошке, ты топал ножками и плясал вприсядку. Тебе музыка всегда нравилась, и ты каждый вечер перед сном тыкал пальчиком в гармошку и требовал, чтобы я на ней играл. Ты еще очень веселился, когда я со смехом подпевал под гармошку разные куплеты. Еще ты можешь вспомнить, как носил матроски, я тебе купил их сразу две, одну белую с голубыми полосками, другую синюю с белыми полосками, а вот белую бескозырку я тебе купить так и не успел. Очень прошу тебя, попытайся вспомнить.
На сегодняшний день я работаю в артели инвалидов, продолжаю вносить свой посильный вклад в нашу борьбу с лютым врагом. На фронте я получил орден Славы III степени и четыре боевых медали за участие в операциях. После очень тяжелого ранения меня отправили в глубокий тыловой госпиталь города Копейска вблизи от Челябинска. Врачи и хирурги меня на ноги поставили, но обе кисти рук все-таки ампутировали, так что я теперь вроде бы как без рук, вот почему мне без попутчика трогаться с места в дальнюю дорогу пока почти что невозможно. Понемногу привыкаю к протезам да к ремешкам и резинкам, постепенно осваиваю новую работу, чтобы был пригоден к нормальной трудовой жизни.
Жду твоего подробного письма, до скорой встречи. Толя. Остаюсь твоим родным отцом Егором Федоровичем Бесфамильным».
Толик никогда не был в Курске. Он приехал сюда из Тюменской области, там он в Ялуторовском детдоме с самых малых лет. Он даже не знает своего места рождения. Сейчас Толик молчит от волнения, смотрит на Зинку исподлобья, наконец говорит:
– Никогда я не писал писем и, наверное, не сумею… В письме не скроешься за словами, надо говорить открыто, как есть, или тогда не писать совсем, но врать я не смогу.
– Давай я за тебя напишу?
– О чем это ты вдруг напишешь?
– А что скажешь, то и напишу.
– Глупая! А то я сам безмозглый? Так я тебе и доверил! Брехать я ни себе, ни тебе не позволю, поняла?
– А чего ты злишься, я же как лучше…
– Я решил, поеду к нему, – твердо говорит Толик, – пусть он будет моим отцом.
– Когда?
– Что – когда? – переспросил он.
– Поедешь…
– Сегодня ночью или завтра утром.
– С кем?
– Чего – с кем? – злится Толик.
– Один, что ли?
– Конечно! Не с тобой же! – кричит он. – И смотри не проболтайся! А может, и возьму…
Отговаривать его было бесполезно.
– Надо все же сказать и отпроситься… – робко подала голос Зинка.
– Кому сказать? Скрипачу? А это вот – фигушки – видела! – Он вертел пальцами у самого носа Зинки.
– Ну хотя бы Дядивану…
– Ты что, очумелая?
– Сам ты очумелый! – Зинка вот-вот расплачется.
Толик сразу изменил тон:
– Он не поймет, если узнает, что я еду не к родному отцу. А обижать Дядивана я не хочу, поняла…
Завтрак они спрятали и завернули в носовые платки. Толик майкой обернул свою любимую пластинку. Больше с собой ничего не взяли. Пошли в лес будто бы на прогулку. У них было четыре пайки хлеба, два ломтика сыра, два кусочка сахара и одна баночка с американской колбасой, которую давали за завтраком на двоих.
Пошли на полустанок прямой, ненаезженной, заросшей бурьяном дорогой, ведущей к озеру Тургояк, потом свернули на обходной путь в сторону райцентра. Всю дорогу молчали и торопились, чтобы поспеть до розысков к любому поезду. К полудню добрались до полустанка. На двух путях стояли товарные составы и попыхивали паровозы. Один смотрел на запад, в сторону Златоуста и Уфы, другой – на восток. Он-то и довезет до Челябинска. Народу мало, пока не ожидают пассажирского поезда. Товарные вагоны наглухо закрыты, и охраны нет. Стараясь быть незамеченными, они подошли к прицепу между вагонами, где у одного из них в торце выглядывали убегающие вверх тонкие ступеньки.
– Лезь!
– Боюсь… – шепчет Зинка.
Но Толик уже на крыше. Оберегая спрятанную под рубашкой пластинку, он протянул руку. Никто не остановил и не окликнул их. Они проползли до середины и легли на чуть покатую прохладную крышу. Держаться здесь не за что, высоко очень, и вниз не спрыгнешь. Прогудел паровоз, поезд тронулся. Удалился полустанок, и путь назад был уже отрезан. До вечера ехали с остановками почти у каждого столба. Дорога Зинке казалась утомительной и долгой. Постепенно привыкли к крыше товарного вагона, садились, немного передвигались, цепляясь ладонями за выкрашенную, с щербинками, жесть и чуть торчащие поперечные ребра. Вскоре Толик совсем обвыкся и освоился. Он вставал в рост, разгуливал по крыше, приплясывал, демонстрируя перед Зинкой свою отчаянность и смелость. На какой-то станции он спустился вниз и у раненого бойца попросил помятую солдатскую фляжку. Набрал в нее кипятку и принес. Когда отъехали, то с удовольствием пили чай без заварки, съели кусочек сахару и одну пайку хлеба на двоих. Угольная пыль оседала на лицо, во рту ощущался привкус земли и гари, но прохладный воздух освежал лицо, и дышалось им на крыше легко.
Постепенно и незаметно стемнело. Договорились спать по очереди, караулить друг друга, поддерживать в случае чего во время сна, чтобы не скатиться вниз. Толик заснул. Сейчас Зинке уже было не так страшно, как сначала. Если бы не пугающая ночь и не кончался бы еще светлый день, то ехать можно на крыше сколько угодно.
На какой-то безвестной станции, освещенной керосиновыми фонарями и тусклыми застекленными свечами, состав долго перегоняли с одного пути на другой, освобождая место пассажирскому поезду. А когда тот прибыл, послышались частые гудки, свистки и крики. Они разбудили Толика. Поеживаясь от прохлады, он сказал:
– Теперь спи ты…
Была полночь. Зинка свернулась калачиком, подтянула коленки к подбородку. Толик сел вплотную, прикрывая ее от набегающего ветра. Воротник платья зажал в кулаке.
Зинка проснулась от яркого света, который прямо-таки бил в глаза. Солнце только что встало.
Толик сидел все так же рядом и держал воротник ее платья. Поймав взгляд Зинки, крикнул:
– В Челябинске пересядем на пассажирский, так вернее будет!
Сейчас он походил на доброго и сильного покровителя, уверенного в себе.
Товарный состав очень длинный, растянулись гуськом вагоны, слегка покачивались, вздрагивали на стыках рельсов и чуть подпрыгивали. Крыши все до одной одинаковые и пустые, только проносятся по ним рваные клубы пара, вырываются впереди из глотки паровоза, несутся навстречу и обдают прохладной влагой.
У Толика с утра хорошее настроение, он все время чему-то радуется, прыгает и бегает по крыше, никого и ничего не остерегаясь. Поезд то выскакивает на высокую насыпь, то словно ныряет в расщелины разноцветных скал, которые нависают над самой головой. Но почему на душе у Зинки грустно и тревожно? Толик вытащил пластинку и отошел на два десятка шагов вперед по ходу поезда. Облачка пара словно разбивались о его тонкую фигурку и разлетались в стороны. Он держал пластинку в одной руке, другой стал размахивать, точно дирижировал огромным оркестром природы. Толик пронзительно свистел своп любимые вальсы, что-то кричал Зинке и смеялся. Она лежала на боку лицом к нему, упираясь руками в покатую крышу. Встречный ветер слезил глаза и лохматил волосы, она смотрела на Толика и тоже смеялась.
Сквозь шум и грохот прорывается и доносится до Зинки знакомая мелодия «Вальса-фантазии». Даже резкий гудок паровоза не в силах перекрыть эту музыку. Но уж слишком долго и предупреждающе гудит паровоз. На середине вагона Толик выглядит по-прежнему длинным, хрупким и чудным. На лице его прямо-таки счастье. Опять протяжный гудок паровоза. Впереди еще больше заволокло белым туманом. Он стремительно несется, стелется, надвигается тучею.
Из этого белого облака пара вдруг вырвалась черная гора.
– Толик!
Черная гора точно прыгнула с раскрытой пастью и погребла под собой весь видимый свет. Мир погрузился в кромешную темноту. В тоннеле гулко стучало, казалось, этому не будет конца…
Взрывом ворвался солнечный свет и ослепил. В первое мгновение Зинка зажмурилась. Поезд, не сбавляя хода, удирал прочь от черной пасти.
– То-олик! То-о-олик!
Его нигде не было. Лишь недалеко от Зинкиной руки валялся острый черный осколок патефонной пластинки.
– То-о-о-о-лик!
Зинка кричала сколько было сил и насколько хватало голоса. Оглушительно огрызался паровоз и мчался вперед.
– Помогите!..
Только что здесь был живой человек, а теперь его нет. Неужели разметался там, в темном пространстве? Нет, он не мог раствориться в том черном аду.
– Помогите-е-е!..
Если он успел спрятаться в тамбуре между вагонами, тогда почему он так долго не появляется? Вагоны дергаются и мотаются. Встать и пойти по крыше опасно. Поезд остановить невозможно, как ни стучи кулачками по жестяной крыше. Никто и ничто не услышит, мир сейчас глух.
– То-олик!
Зинка увидела на матовой крыше глянцевые полосы и брызги почти черной крови.
– Остановите-е!
Зинке казалось, что она сходит с ума… Он стоял спиной, его, наверное, ударило в затылок.
– Толи-ик! То-олик!..
Лучше бы никогда не встречать его, не уезжать от мамы, не попадать в эту противную лесную школу. Будьте прокляты, черные патефонные пластинки со всей придуманной кем-то музыкой, с острыми угловатыми осколками и надоевшими вальсами. Не надо ничего – ни поездов, ни станций, ни домов. Не надо Огаповки и Магниегорска. Не видеть бы никогда никого!
В беспамятстве Зинка не могла пошевелиться. Все тело до кровиночки и кончиков пальцев пронизывала острая боль, как будто она сама получила сильный удар и сейчас наступает ее предсмертная судорога. Если наглухо зажать уши ладонями и сдавить что есть силы голову, можно ли вытеснить все больные мысли? Скорее бы прошла эта боль, осталась где-то там позади и не мучила бы. Что скажет мама при встрече?
Зинка с напряжением всматривалась вдаль, но от боли мало что было видно впереди. Заводские трубы выплыли откуда-то, как в мираже…







