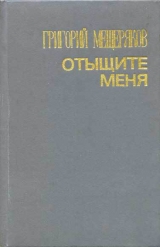
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Ветер рябит воду

1
Ветер рябит воду. Осенний, холодный, носится с одного берега на другой и обратно. От его порывов вода в реке будто вздрагивает и местами покрывается рыбьей чешуей. Но вот ветер утихает, течение снова становится спокойным. Ползут воронки, появляясь на глазах и тут же исчезая, словно рыбы хвостами виляют и круги на воде рисуют. Если с пристани смотреть, то Кама видится широкой, не всякому переплыть.
На другом берегу старая деревенька. Одна-единственная улочка убегает в ельник, прячется за соснами, березами и вековыми тополями. Из труб вырывается дымок и разметается ветром, точно белый чубчик. Кажется, что топят там круглосуточно, сберегая тепло в избах и не переставая готовить еду. По обеим сторонам деревни камыши, кусты, разные заросли. Они ровным заборчиком огородили берега. По крутой горе взбирается вверх чистый лес, тянется вдоль берега и скрывается за излучиной.
Подолгу можно стоять, смотреть на лес и ждать, не выйдет ли вдруг по тропе какой зверь из чащи к водопою.
В стороне от пристани бревна к берегу прибились. Чуть подальше лодки на приколе, закрепленные ржавыми цепями за криво вбитые колья. Висят старые амбарные замки. Весельные плоскодонки и шлюпки служат для рыбалки и других нужд хозяйства: когда сена перевезти потребуется, веток или хвороста подбросить, людей куда доставить. Кто попросит, хозяева не откажут, охотно переправят на другой берег. Плату берут не деньгами, а продуктами. За один перевоз расплачиваются то ложкой соли, то стаканом крупы или лепешкой.
Раз в сутки старые пароходы приходят к пристани с южной и северной стороны Камы. Причалит такой пароходик и покачивается на волнах. Прокричит глухим надрывным голосом, оглашая округу и сзывая людей. Да тут и так уже народу полно, потому что ждут задолго до его появления. Каждый норовит по сходням скорее на палубу проскочить да место поудобнее занять. Кто с билетом, а кто и нет. Другой десятку или даже тридцатку сует, чтоб на пароход взяли. Проверка не помогает, милиционер справиться не может. Бывает, что и не пустят кого или высадят, выведут по трапу назад на пристань. Людям все куда-то ехать надо, не сидится на месте. Свои дела и заботы гонят их до Сарапула или в обратную сторону, до Перми, а кого и выше – до Соликамска. Пароход старый, закопченный и давно не крашеный. Посередине реки медленно проплывает баржа с военными машинами под брезентом. Вдалеке длинный плот ползет еле-еле, глаза устают провожать. Быстрый катерок обгоняет баржу. Народ шевелится и волнуется на пристани. В толпе снуют какие-то оборванцы, медленно передвигаются калеки и слепые. Невесть откуда к каждому пароходу сбегаются, выманивают что-нибудь, выпрашивают, а то начнут ругаться меж собой и грозиться. Их побаиваются и сторонятся. Бывает, соберутся у парома, недалеко от дебаркадера, делят барахло, пьют самогонку.
Дебаркадер ветхий, отдельные доски треснули и сломались. Люди с осторожностью и опаской проходят. От дебаркадера вверх по косогору каменные ступеньки ведут к двухэтажному зданию с четырьмя квадратными окнами по каждой стороне. На втором этаже контора, на первом – небольшой зал для ожидающих, где вдоль стен лавки, а в центре скамейки с высокими спинками. Пол давно и прочно вымощен красным кирпичом, да и вся пристань выложена крупным серым булыжником, который за долгие годы отполирован подошвами.
Над дебаркадером потускневшая от времени короткая надпись «Аса».
Вода в Каме от большой глубины кажется черной, долго смотреть страшновато, может голова закружиться. Пароходы часто опаздывают, тогда ожидающие кто где найдет, там и притулятся. Чаще всего на дебаркадере или в зале конторского дома, который все называют речным вокзалом. Уставшие прилягут на деревянную лавку, под голову узелок или ладонь подложат, прикорнут, задремлют, поспят. Заслышат топот, крики и голоса или далекий гудок с Камы, тут же хватают мешки, утварь и вроссыпь бегут к причалу.
Хоть Асу городом и называют, а на самом деле это деревня, и до приезда сюда Рудик ни разу в таком городе не жил. Кроме Ленинграда, он нигде не был, здесь оказался сразу же после эвакуации. Раньше Рудику казалось, что все города похожи на Ленинград, но это совсем не так.
Самым притягательным местом Асы был рынок. За наскоро сколоченными прилавками стояли там местные жители, приезжие из соседних сел и эвакуированные. В толкучке носили разные вещи и шмотки, показывали и расхваливали. Кто деньгами брал, кто платил товаром за товар, как выгоднее. У одного из прилавков торговались старики. Видно, что не эвакуированные, из местных. Они рассудительны, сдержанны, слова произносят по-особому и весомо.
– Ково просишь?
– За пять сотен уступлю…
– Пошто так дорого?
– А сторгуемся, то частищку сбавлю, сброшу…
– Нет, дорогой щелоэк, не пойдет так. Туто-ка сэлую сотенку скостить надо-ка.
– Не хощешь, как хощешь. У меня товар не залежится, сыганам обменяю…
Цыгане наезжали в Асу часто. Никто толком не знал, откуда они появляются и куда свой путь держат. Они приезжали на сытых лошадях, запряженных в брички или рыдваны. Гадалки ходили с чумазыми младенцами на руках. Бородатые цыгане держались поодаль, а то и вовсе их было не видно. Асинские бабы и молодухи на мужиков и парней гадали, как они там, на фронте-то, живы ли еще.
– Скоро получишь, милая, письмо из казенного дома, – внятно и уверенно говорит кому-то цыганка. – Он у тебя в лазарете сичас, выздоравливает и поправляется здоровьем…
Бабы слушают, плачут, верят каждому слову и благодарно расплачиваются.
Приезд цыган был целым событием в Асе. Люди сбегались к гадалкам, чтобы тревогу унять, поверить весточкам, о которых не сообщат ни письма, ни радио, ни газеты, как будто цыгане больше всех знают. Напарник Рудика, старый цыган Василий, сторонился их, никак не хотел с ними якшаться. Нервно поглаживая седую бороду, он говорил:
– Они мне, Рудька, ни за какие целковые не нужны, и я им тоже ни на что не нужен. Пускай едут своим табором по своей дороге, куда им нужно, а мне с ними ходу только до развилок…
Если кто-то из цыган все же приставал к нему с расспросами, Василий отмалчивался. Он давно затаил на них какую-то скрытую обиду. Дома Василий часто ворчал:
– Нет сильнее греха, когда воровство и обман. Рудька, запомни это. У цыган такие люди есть, а по мне лучше с голоду помереть… Ты меня, Рудька, никогда не выспрашивай, ума это не твоего! Боль у меня в сердце есть, понимаешь?
В душе Василий добрый, а на словах злой. В последние недели он заметно устает от частой ходьбы, долгих разговоров и своих молчаливых раздумий.
Взгляд у Василия хмурый, тяжелый. Черные с проседью густые волосы обрамляют тонкое острое лицо глинистого цвета. Невысокий, сутулый, он ходит всегда неторопливо и с достоинством. Когда устанет, молча присядет передохнуть. Потом разотрет поясницу ладонями и позовет:
– Пошли, Рудька, дальше…
Так вдвоем и ходят, как бродяги по белу свету, на заработки да на промыслы. Иногда промышляют успешно, когда и нет, все дело в случае. Но с Василием не пропадешь, он старик бывалый, чего-нибудь да придумает. Правда, хвастается он много, врет про свою жизнь и того больше. По рассказам Василия выходило, что он чуть ли не всю страну исколесил и за границей побывал, видал Испанию, жил в Бессарабии, проезжал по Франции и даже по Германии. Отборными словами ругал Гитлера, который расстреливал цыган и отправлял в концлагеря только за принадлежность к этой нации. Но Рудику известно, что Гитлер вообще враг всех народов на земле и у всех людей к нему самая лютая ненависть. Когда началась война и Рудик еще жил в Ленинграде, то вместе с Мигелем и Ганзи они придумывали самый страшный суд и особую казнь главному фашисту. Кто-то из них требовал четвертовать его, и непременно тупым топором, на эшафоте. Другой отправлял на съедение к живым ядовитым змеям. А если привязать веревку на шею и водить по всему миру и по всем странам и не давать ни еды, ни питья?
– Может, взять и медленно утопить в уборной! – сказал тогда Рудик.
Но все наказания казались им слишком мягкими и легкими для Гитлера. Хотелось казнить его нечеловеческой смертью, какой еще в истории не было, но так окончательно и не договорились…
Василий не мог быть в других странах, нет у него никаких документов, чтоб подтвердить это. Бумажный паспорт он хранит в потертом кисете и каждый раз достает при проверках. Еще показывает какие-то замусоленные справки с печатью, и подозрений документы у проверяющих не вызывают. Встречались, правда, недоверчивые, на них Василий недовольно ворчал, при этом горячился:
– Ну что тебе показывать, товарищ начальник? Если у тебя глаза не верят, так душа должна поверить! Я тебе не обертки конфектов предъявляю, а настоящие государственные документы. Посмотри, с круглой печатью и подписью!
Для Василия все незнакомые и проверяющие были «начальниками».
В старом кожаном портфеле с веревочной ручкой Василий носил немудреное свое богатство. Там же хранилась завернутая в красный платок плоская потертая мандолина. Пуще всего дорожил ею старый цыган и называл не иначе как «кормилицей». Особенно оберегал струны мандолины, их нигде не достать. Звонкая мандолина приносила чуть ли не половину всего заработка. Если удавалось попасть на пароход до Оханска и обратно, то Василий без устали всю дорогу на ней играл, я. Рудик с готовностью пел жалобным высоким голосом:
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою…
Песню эту Рудик разучил, как только встретил Василия. Она всегда трогает слушающих. Взгляды их становятся скорбными, по лицам текут слезы. Люди сочувствуют и платят. Денежку ли бросят в фуражку, пирожок или рыбешку подадут, две-три отварные картошки принесут, все сгодится на прожитье.
Портфель каждый раз разбухал, но деньги старый цыган держать в нем опасался. Василий тщательно складывал деньги в большой шелковый вышитый кисет, который завязывал и прятал на волосатой груди под рубашкой.
– Это наша с тобой копилка, Рудька, – говорил он, придерживая рукой кисет, чтоб не очень бренчали монеты, хотя там было больше бумажных денег.
Тратили деньги редко, припасали на черный день. Каждый месяц Василий аккуратно платил за постой горбатой хозяйке дома. Он, как казначей, вел свои подсчеты. Прикидывал в уме, какой получился доход, сколько расходу вышло и каков остаток в кисете. До единой копеечки рассчитает, куда надо расходовать и сколько ладо еще подзаработать. Даже расписание составил, когда и на какие промыслы идти.
Старый цыган был неплохим артистом. Мог изображать то удалого музыканта, то скрюченного до безобразия старика, а то слепого. Он надевал черные очки, шаркал неуверенно подошвами и постукивал палкой по земле. Рудик становился поводырем, держал его свободную руку и шел немного впереди, неся перед собой фуражку.
– Дяденьки-тетеньки, подайте, Христа ради, слепому и малому сироте на пропитание… – плаксивым голоском просил прохожих.
Слова эти Рудик разучивал и репетировал с Василием много раз, пока наконец они вышли на промысел. И первый же день принес хороший куш. Когда Василий заболел, то «по слепому промыслу» Рудик ходил один, научившись закатывать глаза под верхние веки и пугая белками встречных.
– Дяденьки-тетеньки, подайте, Христа ради, слепому сироте на пропитание…
И люди жалели, подавали, некоторые забегали в дом, чтоб что-нибудь вынести.
– Спасибо вам. Дай бог вам счастья и чтоб у вас в родне убитых не было.
«Слепой промысел» действовал наверняка, ни разу пока не подводил, но был трудным до боли в висках. Иногда казалось, что однажды закатишь глаза под веки, а они оттуда не выкатятся, и тогда останешься на весь свой век слепым.
– Рудька, запомни, люди сами тебе дают, – наставлял Василий. – Ты не воруешь и ни у кого силой не отнимешь. Обмана и хитрости тут тоже никакой нет, потому что мы с тобой зарабатываем. Видал в цирке фокусников? Им тоже не за обман и хитрости платят, а за работу. А если люди не дают, сам не бери. Я долго живу на земле и никогда нечестно не брал даже иголки, поэтому, наверное, у меня есть враги… Но, может быть, совсем не поэтому? – вздыхал старик.
Потом он еще долго учил Рудика, как надо жить, хотя и без его слов ясно, что жульничать всегда плохо.
Иногда они собирали на свалках и помойках старые грязные тряпки и лоскутки, разные рваные вещи, что пошли на выброс, Василий все подбирал и складывал портфель. Вместе ходили на Каму, рванье отмывали, стирали, сушили. Из крепких ремков и тряпок дергали нитки для шитья, связывали узелками и наматывали на самодельные катушки. Блеклые лоскутки Василий долго кроил и потом шил манишки с воротником, пуговицами, двумя тонкими завязками на спине.
Манишки люди покупали неохотно. С удивлением и улыбочками рассматривали, смеясь, примеряли и возвращали назад. Иногда брали, но больше носили манишки сами портные. В другой раз Василий принимался шить да клеить чувяки и тапочки из старых кож и клеенок, что валялись на хоздворах. Клей из костей варили на костре в лесочке, дратву вили из суровых ниток. Готовую обувку смазывали солидолом, она получалась мягкой и приглядной, шла нарасхват и по приличной цене. Еще Василий подрядился работать на промкомбинате, чтоб получать продовольственные карточки. Брал работу на дом и раз в месяц сдавал ее в пеньковый цех. Вдвоем плели и крутили мочальные веревки, по пятьдесят метров на моток. Ходили в лес, отыскивали липы, драли и мочалили лыко. Работенка трудная, муторная, доход совсем вшивенький, плата смехотворная, на один стакан базарной муки, но зато имели справки, продуктовые карточки.
– За это тому промкомбинату, – говорил старик, – низкий поклон и душевное спасибо, никто к нам не придерется, как к паразитам… Веревки эти, Рудька, нужны обороне, ими на заводах перевязывают грузы, что идут прямиком на фронт…
Было тяжело – руки исцарапаны, в мозолях, ноют, болят, но Рудик помалкивал.
Кисет каждую неделю на глазах набухал. Вроде бы денег и много, да уж очень они дешевые, на одну покупку чуть полкисета не тратили. Изредка на несколько дней собирались в отхожий промысел по деревням и пристаням, то на пароме, то ходили пешком.
Когда Василий чинно шел по деревне с портфелем, некоторые принимали его за сельского фельдшера, другие – за нового учителя, но для большинства он был артистом из города. Перед выходом на публику Василий надевал светлую глаженую манишку и прицеплял булавкой к воротнику потертый галстук-бабочку. В таком виде он больше походил на швейцара из старого ленинградского музея, но в здешних местах никто никогда не видел швейцаров.
Василий не торопясь открывал портфель, доставал мандолину, нежно гладил и негромко говорил:
– Рудька, она со мной жизнь прожила. Без нее нам с тобой никак нельзя. Голову продам, душу заложу, а вот её – нет. Только она и есть у меня… да вот ты еще навязался…
В деревне Василий выбирал видное место на площади или у клуба. Садился на скамеечку, ногу на ногу закидывал и начинал наигрывать, подпевая и мурлыча цыганские песни. Рудика он не обучал ни цыганским словам, ни цыганским песням, но научил плясать чечетку и отбивать коленца.
– Умей все делать, Рудька, жизнь у тебя еще большая будет…
В кожаных тапочках да если еще на досочке или фанерке плясать, чечетка классно отбивается.
– Ай, цыганочка, ай-ай! – подпевает Василий. – Ой, цыганочка, ой-ой! Гоп-и-го, гоп-и-гоп! Йех!
Мандолина заливается, Василий сам готов в пляс пойти. Рудик из всей мочи чечеточку отщелкивает, руками машет, ногами притопывает, языком причмокивает.
Заслышав их и завидев, быстро собирается народ. Толпятся, с Интересом поглядывают, некоторые удивляются:
– Лихо отщебущивает!
– У них сызмальства в крови это!
– У кого так?
– Сыган, конещно!
– Вишь, какой щерненький и симпатищный сыганенок…
– Да-а, кареглазенький!
Между собой переговариваются, не ведая, что никакой Рудик не цыганенок, а стал им только тогда, когда встретился с Василием. От пляски пяткам больно, от хлопков ладоши жжет. Пот ручьями течет, дыхание перехватывает.
Зато сбор хороший. Рудику нравились аплодисменты. Им хлопали, как настоящим артистам, многие «спасибо» говорили.
Хорошо бы стать артистом и всю жизнь получать почести. Идти по большим улицам Ленинграда и молча говорить всем встречным-поперечным: «Смотрите, это иду я…» И встречные-поперечные прямо на улице будут аплодировать, пока идешь по самому длинному и широкому проспекту города.
Печка натоплена, и в избе тепло. От мягких домотканых половиков уютно, тихо. Ступаешь, и шагов не слышно. Старая горбатая и нелюдимая хозяйка Руфа опять у себя на кухне у печки сидит. Так всю жизнь одна в доме и на подворье. Одна свой век коротает и хозяйство ведет. Огород на задах, за покосившимся сараем, ухоженный. Урожай в погреб складывает да часть в подполье держит. Сколько живет в своем доме, всегда квартирантов пускает, чаще всего студенток из педучилища. Недолгое время квартировали у нее эвакуированные, потом уехали в Воткинск.
Василия с Рудиком, по ее словам, приютила из жалости. Но своей выгоды не упустила, больших денег требовала на месяц вперед. Василий плательщик был исправный. К тому же еще керосину приносил. Он получал керосин на карточки в промкомбинате. Неудобств ей от квартирантов почти никаких, днями и даже неделями их дома порой не бывает. На ночь она стелила два половика у печки, давала овчину укрыться. Сама на печку залезала и долго шуршала там обшитым грубой тканью одеялом. Василий с головой укрывался, словно прятался от жизни в невидимом мире, и в теплой от дыхания темноте смотрел свои сны. Рудик, наоборот, панически боялся укрываться с головой. В темноте страшно. Кажется, что попал в пропасть или на дно, и не смеешь открыть глаза, от тесноты дышать трудно. Надо как можно скорее освободиться, сбросить, скинуть с себя овчину и вынырнуть наружу.
– У тебя, Рудька, ума нету, потому что ты его не бережешь, – ворчит недовольно Василий. – Голове тепло нужно, и простужать ее нельзя. Я болеть тебе не дам. Ты, Рудька, глупый…
Лучше болеть любой болезнью, лишь бы не мучиться и не томиться в темноте.
– Капризный ты, балованный, Рудька, – вздыхает старик, наглухо укрывается и быстро засыпает.
Рудик еще долго лежит с открытыми глазами и прислушивается к тишине.
Хоть дом Руфы неказистый и ветхий, с низкими потолками и квадратными оконцами, но жить в нем можно. Половину избы занимает русская печь. Правда, горбатая хозяйка туда не пускает, чтобы вшей не развели. Гостей в доме не бывает, с заезжими цыганами Василий встречается на рынке или на пристани. Рудик видел и слышал, как они настойчиво звали его с собой, но тот упорно отказывался. Однажды даже махал руками и наговорил им много обидных слов на их и русском языках. Всю обратную дорогу он молчал, домой вернулся злой. Долго перебирал и мял бороду, ворочал глазами, наконец не выдержал и вдруг признался в сокровенной своей тайне:
– Они, Рудька, плохие… никудышные. Они украли у меня дочь. Она была очень красивая и совсем грамотная, умела читать книги и писать большие бумаги, она могла быть бухгалтером. Они сделали ее побирайкай, попрошайкой, может, даже воровкой. А у нее совсем другая жизнь должна быть…
Василий говорил негромко, медленно подбирая, слова:
– Они ее увезли и спрятали, а меня выгнали взашей. Много лет я ищу свою дочь, ее звали Нюрой… Они ее погубили.
– А кто это – они? Не эти же приезжие? И не все такие, как те.
– Ты, Рудька, глупый и не знаешь обычая. У нас у всех одна кровь и одна речь. Но своей родней я их не называю… – Он молчит, потом говорит: – Тебя тогда еще на свете не было, и я был здоровый и крепкий; совсем не такой порченый старик, как нынче.
Рудику казалось, что Василий все же что-то знает о дочери, но скрывает. Может быть, знакомые цыгане весточку о ней привозили.
– Рудька, ты своим языком обо мне и моей дочери Нюре никому не болтай, а то мне еще хуже будет… Я буду искать ее всю жизнь, – строго говорит он.
– Меня самого сейчас в Ленинграде разыскивают.
– Ты вернешься, Рудька. Война закончится, отправлю тебя. Сам тебя увезу, места мне те тоже знакомые, я родился в Финляндии.
– А Нюра где родилась?
– В Бессарабии. – И вдруг Василий напустился: – Что ты, Рудька, как следователь, пристал? Допросы твои глупые! И ты мне не начальник, документы я тебе показывать не стану! Молчи, Рудька! И больше никогда не говори, закрой свой рот и молчи, как умный человек.
Старый цыган отвернулся, в глазах его блестели слезы.
Оба замолчали, и каждый досадовал на себя. Неожиданно Василий повернулся и мягко заговорил, как будто просил прощения:
– Я тебе, Рудька, пожалуй, новый пиджак куплю, чтобы ты не хуже других ходил. Этот у тебя пообносился, и мне стыдно тебя людям показывать.
Пиджачок уже в заплатах на локтях, борта засалены, похож на обдергайку.
– Э-э, Рудька, Рудька… – продолжал свое Василий. – Я в твои одиннадцать годов ходил, как таборный вожак, в красном шелке и хромовых сапогах, поясок носил с кисточкой на боку. Я был красивый, нарядный, все мне завидовали. А ты, Рудька, похож на бессарабского босяка, это очень нехорошо.
Василий вздыхал, щупал пальцами пиджак, потом снова вздыхал и подсаживался ближе.
– Нехорошо у нас, Рудька. В школу ты не ходишь, не учишься грамоте. Ой, плохо, Рудька, плохо…
– Сейчас многие не учатся, такое время.
Вот только кончится война, тогда Рудик опять сядет за парту. Еще он будет ходить в библиотеку и читать все подряд книги, как это делала мама в Ленинграде. Он хорошо помнит ее взгляд, походку, каждое движение, как будто видел ее вчера. Лицо отца уже с трудом вспоминается – Рудик очень редко видел его и в Ленинграде. А вот мама часто приходит во сне, как живая, но каждый раз исчезает в полосе мелкого дождя…
2
Такие красивые дома можно встретить почти на каждой улице Ленинграда.
Пятиэтажный серый дом стоит у самого канала, верхние окна смотрятся в воду и отражаются там. Короткие мостики сверху кажутся игрушечными. Окно их квартиры выходит во двор, который похож на глубокий квадратный колодец. На дне его мощеная площадка, куда не проникает солнечный свет. Через низкую полукруглую нишу можно со двора попасть сразу на освещенную набережную. Снизу, с дворовой площадки, видны все до одного окна дома. Без солнца от времени почернели стены; во многих местах покрылись мокрой плесенью. Подъезд полутемный, ступени каменной лестницы выложены массивными тяжелыми плитами. Шаги отдаются здесь гулко. Пять поворотов и пять лестничных площадок. Двери высокие и резные, ручки медные, отполированные ладонями. За дверью кричат входные звонки да кого-то зовут телефоны.
В просторной прихожей, заставленной утварью, семь дверей. За каждой дверью комната, а то и две, в каждой комнате семья. Когда все в сборе, коридор напоминает улей. Хлопают двери, суетятся жильцы, жужжат голоса.
Мама гулять Рудика выпускает редко, мало ли что может случиться с маленьким мальчиком в большом городе: Среди длинных улиц, высоких домов и хитросплетений каналов немудрено заблудиться. Но она зря опасается. Прямые улицы все равно выведут куда надо. А если идти вдоль канала, то обязательно выйдешь к своему дому и вскоре окажешься у своей квартиры с медной табличкой. Надо нажать кнопку звонка три раза, тогда мама выйдет открывать дверь и никто в квартире не всполошится. Комната большая, но от вещей, этажерок и шкафов тесная. За матерчатой ширмой мама устроила рабочий кабинет, поставила письменный стол и электрическую лампу с зеленым стеклянным абажуром. К стене придвинут старый диван, на нем спит мама. За другой ширмой кровать Рудика, под ней валяются игрушки и стопкою лежат тонкие книжки и картонные картинки.
Мама работает переводчицей в библиотеке какого-то института. Это далеко от центра, у заставы, почти на окраине города. Она ездит туда на трамвае. По утрам складывает бумаги в черный кожаный портфель, рано уходит из дому и возвращается к обеду. Хозяйничает, готовит на кухне, кормит Рудика. Потом скрывается за ширмой, садится за письменный стол и занимается допоздна. Чай на ужин кипятит Рудик, приносит ей с сухариком на подносе и краем глаза заглядывает в ее бумаги.
Книжки и брошюрки, которые переводит мама, совсем неинтересные, без единой картинки и в серых обложках. Рассматривать их мама не дает и всякий раз, закрывает на ключ в столе. Хотя книжки тонкие, но над каждой мама работает долго, до поздней ночи горит за ширмой зеленый свет. Когда дома появляется отец, то мама зовет его привидением. Говорит она это шутя. Отец действительно очень редко бывает дома, всего по нескольку дней. Он приносит Рудику подарки и долго о чем-то рассказывает маме. Потом он с веселым и беззаботным видом прощается и опять надолго неизвестно куда исчезает. Но письма, правда, приходят от него регулярно. Некоторые места мама читает вслух Рудику. Все письма она складывает в ящик и тоже запирает на ключ. Обратный адрес на всех московский, но мама как-то проговорилась, что отец от Москвы очень далеко.
– Так кто же наш папа?
– Летучий голландец! – смеется мама и показывает на толстую немецкую книгу, которую давно купил отец и поставил на нижнюю полку своей этажерки.
У всех вокруг отцы как отцы, постоянно живут дома, а если и уезжают, то известно куда и на сколько. У Рудика совсем по-другому, вроде бы отец есть, а на самом деле его почти нет.
– Ну вот что, – не удержалась однажды мама, – я тебе кое-что скажу, но ты об этом никому не должен говорить. Кроме того, я запрещаю тебе приставать когда-либо с глупыми вопросами и расспросами о папе.
– Я буду молчать, только скажи…
– Твой папа красный комиссар, и он борется против фашистов в Испании.
Тогда про войну в Испании много говорили по радио, писали в газетах и просто рассказывали на утренниках по торжественным дням. В журналах на фашистов рисовали карикатуры и называли их палачами людей.
Так почему о папе нужно говорить по секрету?
В двух кварталах от дома, где жил Рудик, стоял трехэтажный розовый особняк с балконами, колоннадой и высокой металлической оградой. Железные с красивыми переплетами ворота были всегда на замке, но сбоку была калитка, которая никогда не закрывалась, и там дежурный. В особняке разместился детский дом «Спартак» для испанских и австрийских детей, которых привозили из-за границы. Перед ужином ребята гуськом выходили через калитку к Неве. Воспитательница им что-нибудь рассказывала, а они смотрели по сторонам на прохожих. Некоторые уходили в скверик напротив и играли в классики или хлопуши. Там Рудик познакомился и подружился с австрийкой Ганзи и испанцем Мигелем. Играл с ними в круговую лапту, в пуговицы и перышки. Черный и кучерявый Мигель играл азартно, всегда переживал, когда проигрывал. Прищелкивал недовольно языком, восклицал что-то на своем языке и хлопал себя по бокам. Ганзи, наоборот, была тихой и спокойной. Она понравилась Рудику. Из всех знакомых девчонок была самая красивая, с волнистыми белокурыми волосами и большими голубыми глазами. Мигель и Ганзи по-русски говорили хорошо, но с сильным акцентом и часто переспрашивали смысл отдельных слов. Внешне они выглядели очень аккуратными и опрятными, всегда в отглаженной одежде. Когда Ганзи и Мигель вспоминали о своих родителях, то говорили «там». Это слово Рудик иногда слышал от мамы.
– Ганзи, а вы письма получаете?
– Нет, – ответила Ганзи.
– Да, – ответил Мигель, – через МОПР. Это Международная организация помощи революционерам…
О своей жизни «там» они говорили неохотно. Детдомовцы увлекались игрой в «длинные рассказы». Каждый из играющих поочередно придумывал свое продолжение, и складывался порой такой длинный рассказ, что не хватало фантазии его закончить…
– Рано утром я пошел в лес за ягодами, и когда вышел на поляну, то увидел большой четырехмоторный самолет… – начинал Рудик.
– А я в это время сидела в кабине этого аэроплана и приготовилась взлететь в воздух… – продолжала Ганзи.
– Я тоже был в лесу, только совсем в другом, и ел сладкие сливы… – вступал Мигель.
– В самолете сидел летчик в шлеме и очках, но я совсем не узнал Ганзи… – говорил Рудик.
– Тогда я позвала Рудольфа и попросила завести моторы…
– Сливы были очень вкусные, и мне было жалко, что их не попробовали Рудольф и Ганзи…
– Лопасти винтов были очень тяжелые, но я все же сильно крутанул их, и моторы заработали…
– Аэроплан задрожал, и я показала Рудольфу, чтобы он занял место в кабине…
– Я наелся и еще собрал целую корзину слив, чтобы угостить Ганзи и Рудольфа…
– Еле-еле я вскарабкался на крыло самолета и оттуда забрался в кабину…
– Я нажала кнопки, и аэроплан покатился по поляне…
– Полную корзину спелых слив я принес к дому, но мне сказали, что Рудольф и Ганзи куда-то исчезли с самого раннего утра…
– В кабине я крепко ухватился за ручки и ждал команды…
– «Держись крепче!» – крикнула я Рудольфу…
– Мне было обидно, что я остался один с полной корзиной спелых слив…
– Самолет взлетел вверх, и я спросил Ганзи: куда мы летим?
– «Мы летим на каникулы в Вену!» – ответила я Рудольфу…
– Неужели, думал я, Рудольф и Ганзи меня обманули и оставили одного у полной корзинй спелых слив?
– Нам было жалко, что Мигель не летит с нами… – сказал Рудик.
– Мы решили приземлиться в лесу, где растут сливы…
– Я увидел в небе, как огромная птица спускалась ко мне…
– Мы плавно снижались к Мигелю…
– Я посадила самолет прямо у самой корзины, полной спелых слив…
– Когда вы вышли из кабины, я угостил вас спелыми сливами…
– Это было настоящее объеденье…
– Мы с Рудольфом съели всю корзину спелых слив…
– Мне захотелось нарвать еще одну корзину спелых слив…
– Но нам было некогда, и мы начали спорить с Мигелем…
– Нет, вы со мной не должны спорить, – вдруг сказал Мигель и прервал продолжение фантастического рассказа. Так в тот раз никуда и не улетели…
Ганзи и Мигель были старше Рудика на один год, но держались с ним на равных.
В ленинградской квартире семь комнат, и в каждой дети. На кухне постоянная толчея. Все время варятся супы, каши и компоты, разносятся по всей квартире вкусные запахи. В коридоре расставленные по углам чемоданы и ящики постоянно кому-то мешали. В прихожей не сразу разберешься с одеждой на вешалках и обувью у порога. По утрам в туалет очереди, нетерпеливых пропускают вперед. Взрослые создали в квартире детскую коммуну, от дошкольников до семиклассников. Ребята вместе обедали и играли, иногда делали уроки у кого-нибудь в комнате. Хотя всем было весело и интересно, но дружбы между собой не вели и на пары никто не делился. Дружили больше с дворовыми, уличными или школьными ребятами. В детской коммуне каждый день, кроме воскресенья, дежурили родители. Они кормили, присматривали, давали на все разрешения. Мама, как и все взрослые, тоже дежурила в коммуне два раза в месяц, но она меньше всего обращала внимания на детей, лишь бы были они сыты. Еще дежурила тетя Клава, хотя у нее не было ни детей, ни семьи. Жила она в приспособленной под комнату кладовке с небольшим оконцем у потолка. Иногда она приходила к маме поговорить. Тетя Клава была большая искусница. По выходным дням и именинам устраивала «сладкие праздники». На всю детскую коммуну пекли домашние пироги и торты, готовили морс и сиропы. Тетя Клава была поварихой высшего класса. У нее ловчее и вкуснее всех выходило. Рудик каждый раз угощал пончиками Ганзи и Мигеля.







