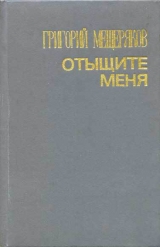
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
«Магнийка… Магниевая гора… Магниегорск».
Папа никогда не звал дочь Зинкой, он говорил:
– Да здравствует Ровесница!.. С днем рождения, Ровесница!.. Ура-а Ровеснице!..
Именины Зинке справляли весело и торжественно. Город тоже выглядел празднично. На улицах висели флаги, лозунги и портреты. Дома на столе появлялось пирожное. Трехэтажный дом их стоял далеко от комбината, росли вокруг тонкие саженцы будущих деревьев с несколькими листочками на макушке.
Утром рабочие вереницей шли по улице на смену, совсем рано уходил на работу папа. Он был инженером и парторгом какого-то большого цеха. Зинка несколько раз была в этом цехе, приходила с мамой и держалась за ее руку, чтобы не потеряться. На работе папа только ходил и разговаривал с рабочими, показывал чего-то на расчерченном большом листе бумаги. Ни молотком он не стучал, ни с лопатой не бегал. Папа уходил из дому, когда Зинка еще крепко спала. Вечером или в ночь-полночь приходили к ним папины сослуживцы, приносили толстые папки, подшитые бумаги и чертежи, много говорили и спорили. Мама укладывала дочь и шла в кабинет печатать на машинке. Она работала в газете и еще два раза в неделю ходила в техникум проводить уроки по истории и политграмоте. Это объяснил Зинке папа. Пишущая машинка, старая и черная, с русскими и иностранными буквами, стрекочет негромко и ровно.
Папа и его сослуживцы оставались в просторной гостиной, обставленной резной мебелью. Посередине стоял круглый стол, у стены – кожаный диван, с потолка спускался молочного цвета стеклянный абажур, и от него падал вокруг мягкий свет. За день Зинка набегается так, что ноги мозжат и щиколотки ноют. А ляжет в прохладную постель и блаженствует. Дверь никогда плотно не закрывалась. Из темноты через щелку многое видно. Зинка смотрит и слушает. Никому сейчас нет никакого дела до Зинки. Вот они там сидят на стульях и диване, потом ходят, расстилают чертежи на столе и полу. Подтянутая и строгая мама молча приносит им чай, каждому по чашке, и снова уходит к себе. Говорят они много, а когда заспорят, то переходят на шепот и шипят друг на друга, ни одного слова Зинке не разобрать. Засидевшись допоздна, они мирно и дружелюбно расходятся. Замолкает в кабинете печатная машинка мамы, и вся квартира погружается в темную тишину. Засыпает и Зинка… Но звенит телефон в спальне у родителей, и голос его проникает во все щели квартиры. Опять кому-то нужен папа, обязательно срочно и неотложно. Папа привык и не сердится, мама тоже. А Зинка не согласна, потому что ночью нужно всем спать. По телефону папа что-то объясняет, низкий голос его хорошо слышен. В другой раз он собирается, одевается и на цыпочках уходит до следующего вечера.
Нет, что бы кто ни говорил, папа совсем не хозяин своей жизни. Его свободным временем распоряжаются как хотят и кто угодно, только не сам папа и даже не мама с Зинкой. Если так у человека проходит вся жизнь, тогда лучше не становиться взрослой. Но папа считает работу самым главным делом.
В свободные вечера он брал Зинку на руки и бегал с ней по всем комнатам, изображая погоню. Больше всего Зинке нравилось сидеть у него на плечах, обхватив одной рукой его голову с жесткими, коротко подстриженными волосами. Голова ее почти задевает абажуры и лампочки, она взахлеб начинает кричать:
– Я жирафа!.. Я жирафа!.. Я жирафа!..
В зоопарке Зинка еще ни разу не была. Папа обещал сводить, когда будут в Челябинске. Жирафу она видела только на картинках и «переводках».
Мама стучит на машинке в кабинете, ей этот шум не мешает.
Когда она ходит на работу в редакцию, то потом в газете печатают ее статьи. Она строже папы, и с ней не поиграть.
В праздники поет революционные песни, знает их много. Голос у нее красивый и сильный, вполне смогла бы даже со сцены петь. А когда наденет свою кожанку, перетянется туго ремнями, повяжет красную косынку, совсем напоминает артистку из спектакля про гражданскую войну. Мама много курит, почти не выпускает папироски изо рта. Папу это не волнует, хотя сам он не курит. Выученные уроки Зинка сдает маме. Она выслушает, перелистает страницы, затушит папироску, сухо скажет:
– Это задание ты должна переписать, здесь у тебя грязно и неаккуратно.
Мама всегда строгая, поэтому Зинка не спорит и переделывает.
– Сейчас нормально, – заметит мама, но никогда не похвалит.
После уроков Зинка сама себе хозяйка. Но с игрушками ей скучно, они быстро надоедают. Так и валяются в углу детской. Зинке куда интереснее бегать во дворе с мальчишками. А вот с девчонками нет желания дружить. Чуть что – идут жаловаться родителям. За это их и презирают мальчишки на улице. Вечно девчонки шушукаются и секретничают, шепчутся, обсуждают, оговаривают других. Зинке просто слушать их противно. У мальчишек все проще, ни наговоров нет, ни ехидства, ни жалоб. А что не поделят – в драке разберутся. Однажды Зинка тоже подралась с одним из чужого двора. Он топтал на клумбе цветы. Зинка, конечно, возмутилась. Сначала умоляла, даже пробовала в голос реветь, но это не подействовало. Тогда она отчаянно вцепилась в его короткий чубчик и стала таскать вокруг клумбы, пока тот не взмолился. Такая злая сила у Зинки появилась, что бесполезно было сопротивляться или вырываться.
– Отпусти, гадюка!.. – прокряхтел он.
– Не отпущу, пока цветы не вырастут, идиотик несчастный! – задыхалась она.
Наконец Зинка сжалилась, отпустила. Он неожиданно наотмашь ударил ее по щеке. Она даже упала. Зинка еще не научилась бить по лицу и готова была снова броситься на его чубчик. Но когда вскочила, он уже во всю прыть и без оглядки удирал к себе во двор. Щека распухла и, казалось, готова была лопнуть от боли. Сначала жгло внутри, но потом боль прошла и слабо отдавалась где-то за ухом. Дома маме сказала, что у нее днем болел зуб. Очень боялась говорить о драке. Строгая мама отложила свои дела, прикрыла печатную машинку серой матерчатой салфеткой и больше ни о чем не спрашивала. Она крепко взяла Зинку за руку и без всякой жалости отвела через три квартала к дантисту. Тот вставлял в рот круглые зеркальца и рассматривал редкие Зинкины зубы. Она помалкивала и вертела глазами в разные стороны, пугаясь расспросов и показывая пальцем, какой будто бы болит. Врач стучал по нему молоточком, отчего ей приходилось подпрыгивать в кресле. А потом он взял и вырвал, наверное, совсем здоровый зуб. Зинка даже особой боли ощутить не успела, так все быстро произошло. По дороге домой держалась за руку мамы. От ноющей в десне боли не вытерпела и охнула. Мама посмотрела, но не пожалела, не остановилась, а только сказала успокоительным тоном:
– Ничего страшного нет, зато теперь у тебя не будет флюса.
Да, теперь-то уж точно не будет, просто вырастет новый зуб.
Когда мама уходила из дома в город, на комбинат, в редакцию или техникум, Зинка оставалась в квартире одна. Рассматривала книжки или слушала радио. Чаще просто сидела и мечтала, кем станет, когда вырастет, и как замечательно будет жить. Вот бы превратиться в птицу и летать по чистому небу, дышать самым прозрачным воздухом, поднимать вместе с собой разноцветную стайку детенышей, которые совсем не похожи на птенцов, а на настоящих маленьких людей с крылышками. Они будут барахтаться и баловаться в небе, слушаться свою маму, поэтому не разобьются и не улетят в вечное пространство.
К той поре, когда Зинка вырастет, пройдет, конечно, так много времени, что люди обязательно сумеют стать птицами. Зинка, когда вырастет, повяжет красную косынку и пойдет работать на комбинат. Там много дыма и жары, дышать обыкновенному человеку трудно, а легкие у Зинки, как сказал маме доктор, не очень пока здоровые.
Можно стать поварихой и готовить самые вкусные обеды, кормить маму с папой и всех знакомых. А еще хочется быть почтальоном и приносить в каждую квартиру счастливые письма. Одних «спасибо» полную сумку за день насобираешь.
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это он, это он…
Почтальону сразу открывают дверь, его всегда ждут.
Еще Зинка помнит, как радио сообщило о смерти Серго Орджоникидзе. Говорили короткие траурные слова, весь день передавали очень печальную музыку. Зинка сидела на диване под черным круглым репродуктором и в страхе слушала. Мама сразу куда-то ушла. Вернулась уже поздно вместе с папой. Зинка никогда не видела его таким. Он облизывал сухие губы, блуждал, мутными глазами, порывался что-то сказать, но только стонал и глотал слюну.
– А что я говорил, Полина? – Язык его заплетался. – А что? То-то так, Полина! А?..
Выглядел он исхудавшим и постаревшим, словно вернулся из очень далекого и трудного похода. Потом облил голову водой из-под крана и ушел с мамой в кабинет, плотно закрыв дверь. Там он громко и несвязно ругался, кого-то проклинал, кому-то грозил. Мама сдержанно уговаривала его и успокаивала. Зинка пошла в свою комнату, легла в постель и заплакала от жалости ко всем живым людям.
В кабинете у мамы с папой висело два портрета Серго Орджоникидзе. На одном он строго и даже грозно смотрел куда-то в сторону, на другом – смотрел прямо перед собой и, казалось, улыбался в черные усы. На следующий день папа оба портрета поместил в черный креп, и теперь они казались Зинке совсем другими, не живыми, как раньше, а словно пришедшими из учебника по истории.
С того печального дня жизнь потекла каким-то странным и непривычным течением. Папа стал неразговорчивым и угрюмым. От него теперь ни шутки и ни радости Зинка не ждала. Порой ей казалось, что о дочери вообще в доме забыли. Через месяц мама перестала печатать на машинке. Она уходила с утра неизвестно куда и поздно возвращалась вместе с папой, стараясь не раздражать его дома. С каждым днем он становился мрачнее, взгляд стал тяжелым и хмурым. Снова всякий раз уходили они в кабинет, запирали плотно дверь, о чем-то долго и тихо разговаривали или просто сидели и молчали, но Зинке не говорили ни слова. В доме появилось предчувствие беды.
Как-то вечером они позвали Зинку в кабинет. Мама отвернулась к окну и курила. Папа сидел в кресле, внимательно смотрел на дочь, потом с трудом и серьезно заговорил.
– Скажи, Зина, – голос его был сдавленным, – если так случится, что мы с мамой будем жить отдельно друг от друга, е кем бы тебе хотелось быть?
– А почему отдельно?
– Видишь ли, так могут сложиться обстоятельства, что я вынужден буду уехать…
– Куда уехать? Зачем?
– Это тебя никак не касается, – не поворачиваясь, строго сказала мама.
– Мы хотим подготовить тебя, – говорит папа, – на первое время, а дальше…
– Это обязательно?
– Скорее всего, да, – говорит мама.
Они говорят просто невозможные слова! Лучше им не отвечать на эти нелепые вопросы.
– Да что это такое! – крикнула Зинка и убежала в свою комнату. Там громко ревела на постели. Вскоре пришла мама, заметно расстроенная, в глазах у нее блестели слезы, но она не плакала.
– Ну хорошо, успокойся, – сухо сказала она. – Папа никуда не поедет, и мы будем все вместе.
Снова жизнь в семье пошла своим чередом. Но тягостное чувство нисколько не покидало Зинку, с каждым днем усиливалось. Она чувствовала в родном доме ужасную тоску и одиночество.
3
Толик совсем стал невыносим. Все чаще злится и огрызается по пустякам, без всякого на то повода. При звуках скрипки еще больше морщится и мотает головой. Увидит Михаила Афанасьевича, гневно сжимает кулаки. Бледные и тонкие пальцы его хрустят. Откуда только и отчего такая у него ненависть? Здесь, в лесной школе, никто ему зла не делает, напротив, оберегают от обид и даже ублажают его. Михаил же Афанасьевич больше других беспокоится о здоровье и настроении Толика.
– Не унывай, – старается приободрить он, – держи, Толик, хвост пистолетом, тогда никакой хворобы не будет. Послушай меня, я не ошибусь…
– Откуда вам все это известно? – Даже шутка выводит Толика из себя. – Мне от вас лично ничего не надо!
– От здоровья, Толик, никто пока не отказывался, – улыбается Михаил Афанасьевич, делая вид, что не заметил грубости.
Но Толик резко поворачивается и уходит, лишь бы не продолжать разговор. Зинке за него стыдно и неловко, она готова сама извиниться перед Михаилом Афанасьевичем. Он работает директором лесной школы совсем недавно, и его здесь все любят. Приехал он из госпиталя. Про фронт, про свои ранения никому не рассказывал, и без того видно, какой он искалеченный. На правой ладони у него не было трех пальцев, а вместо левой руки торчала клешня. Кожа красная, на рубцах стянутая в паутину, сморщилась. Зинке смотреть больно. Он не стеснялся уродства и закатывал рукава гимнастерки выше локтей. Михаил Афанасьевич по-военному подтянут, лицо продолговатое, худое, волосы светлые, голубые глаза постоянно усталые. Каждый день он выбрит, чист, аккуратен, ходит только в своей выглаженной солдатской гимнастерке с белым целлулоидным подворотничком, не снимая орденских колодок. В кабине грузовичка он чувствовал себя заправским шофером. Клешней крепко зажимал руль, а правой рукой научился переключать скорости. Когда не было Дядивана, сам заводил рукояткой машину. Дядиван редко уходил домой, пока Михаил Афанасьевич на работе или еще не вернулся из райцентра.
Дядиван жил в домике сотрудников у леса, немного на отшибе. Жена его работала ночной нянечкой и сторожем на территории. Днем она копалась в огороде и много, хлопотала по дому, с вечера выходила на дежурство. Трое их детей еще были малолетками. Дядиван из всех ребят школы выделил Толика и больше других его привечал. В свободное время любил рассказывать ему о войне, о фронте, о солдатской жизни. Случалось, ремонтировал патефон, когда тот ломался, и расспрашивал Толика про разную музыку. Одно время даже хотел усыновить Толика, но в райцентре не разрешили. Да и сам Толик не согласился.
– Не артачься, Толик, покумекай, подумай, – говорил Дядиван. – Ежели не теперь, то когда тебя отсюдова выписывать станут или после войны… Пора тебе иметь свой дом и свою фамилию. Так положено…
Толик уклонялся, как мог, чтобы не задеть обидой душу Дядивана. Завхоз любил посидеть с ним в беседке, которую сам сколотил в небольшой роще, метрах в ста от корпусов. Присядет покурить, передохнуть от забот да начнет рассуждать. Тут же, на скамейке, сидит Зинка, нисколько не мешая их разговору. Толик молчит, внимательно слушает, вопросов почти не задает. А Дядиван рассказывает и размахивает руками для убедительности.
– …Представить невозможно, какой бой выпал! Сам бес не разберет, что наяву творилось! Ни земли, ни неба – все перемешалось в одну кучу и встало черной полосой, как в аду. Уши до боли заложило, будто их тяжелым свинцом залило, а по мозгам будто бы танки зубастыми гусеницами громыхают. Батюшки вы мои, на том свете таким духом и не пахнет! Всего страшнее на передовой – как кому, а по мне артподготовка, артобстрел, так сказать, артналет, потому как нет от него, проклятущего, спасения. Не хочешь, да перекрестишься от страха, последнюю свою молитву придумаешь. Заухает, засвистит и сольется в одно ревьё, забушует, и тут-то земля дыбом встает, летят вверх руки, ноги и кишки человеческие, кочки, щепки, пилотки. Лежишь на брюхе, и земля, как живая, под тобой шевелится, пуще всякого землетрясения ходуном ходит. Господи-батюшки, хоть бы норочку какую, хоть малюсенькую, хорьковую, все равно бы головушку засунул. Но в таком безумстве нигде не упрячешься, никуда не ускользнешь и не приткнешься, лежи и жди, пока не пронесет иль вдруг черед твой наступит, молись всем святым, чтоб не задело и быстрее утихло. Глазами косишь, а мудрено разобраться, где и что рвется, то ли, мать моя небесная, за тобой или впереди тебя, то ли совсем рядышком, под боком… И вот тут хотел было я перевернуться, чуток приподнялся, но у меня в голове помутилось-помутилось, и сразу как-то я впал в беспамятство. Веки наплыли тяжелее каменных, еле-еле с глаз отворотил. Вдруг меня тошнить и рвать зачало, боль в боку живота нестерпимая, к тому же ступни болят, будто кто по пальцам пилой или бритвой резанул. Чуть скосил голову, вижу, под боком лужа, хвать ладонью, а там кровь липкая. Соображать некогда, бежать, пока цел, надо как можно скорей назад, в окоп. Пятки и пальцы на обеих ногах болят невозможной болью, судорогою сводит, вскочить и ступить боюсь. Перевернулся, приподнялся малость, а у меня из живота кровь хлещет… Зажал как можно шире пятерней. А голова еще сообразительная, значит, жив пока. Как стоял на коленях, так, на коленях, и побежал к окопу спасаться. Держу ладонями живот, не дай бог, думаю, по дороге кишки растерять, тогда я никакой не жилец. Просвет в небе увидел, все равно что грозовые облака в стороны разошлись. Вон уж и окоп близехонько… Только бы мигом возьми вскочи на обе ноги да добеги, а вскочить-то боюсь, боюсь, ноги в коленях переломятся, так и бегу на коленках. Добежал до бруствера, перепрыгнуть осталось. Тут я сгоряча оглянулся за себя, а ног-то у меня вовсе и не было, на левой одна рвань, а правая с обрывком штанины волочится. Упал я, перекатился в окоп, он совсем неглубокий, правая нога так и осталась со штаниной на бруствере, а дальше ничего не помню…
Толик сидел бледный, прерывисто дышал, неожиданно покачнулся.
– Тебе что, нехорошо, Анатолий, от моих россказней? – участливо спросил Дядиван.
– Как же вы остались в живых, Дядиван? – чуть слышно спросила Зинка.
– Э-э, милая дочка, – он свернул самокрутку, откусил кончик, – человек живучее любого зверя, это сама природа так распорядилась… Очнулся, кое-как можно, в тыловом уже госпитале. Пришел в себя, но повернуться не могу, весь от шеи перевязанный и забинтованный, одни руки да голова свободные. Первая мысль, как там мои ноженьки-то бедовые, уж очень нытьем ныли пятки и пальцы там. Тихонько голову приподнял, руку протянул – так оно и есть, нету моих ходульчиков… Видно, долго до того в бессознании лежал, ой долго. Считай, что целых пять месяцев будто я и не жил на этом свете и на тот свет еще не успел, так и болтался где-то на перепутье, для самого себя вроде бы меня и не существовало… В госпиталях жутко хорошо работают, вот на что никогда в жизни пообижаться не смогу, выходили меня, вылечили, человеком, как видишь, остался, хоть и полчеловека…
Когда Дядиван, спрыгнув со скамейки, скрылся за домом, Толик вскочил и хрипло произнес, наступая на Зинку:
– Вот скажи, только откровенно, почему Дядивану не дали Золотую Звезду Героя? А?
– Я не знаю.
– Нет, ты не выкручивайся, а скажи! Это справедливо, да? Это правильно, да? За то, что он прошел такой бой, за то, что он так пострадал на войне! Между прочим, на Великой Отечественной войне! Это справедливо? Чего молчишь, как воды в рот набрала?!
– Но я-то при чем? От меня, Толик, ничего не зависит.
– Чего ты оправдываешься? Раз не знаешь, так и не раскрывай рот, молчи!
Ни возражать ему, ни соглашаться с ним было невозможно. Зинка расплакалась от обиды.
– Ну вот, с тобой и говорить-то серьезно нельзя, сразу в нюни, – примирительно сказал Толик.
Каждый праздник Дядиван надевал китель, на котором было пристегнуто пять круглых медалей. В таком праздничном виде он появлялся и 21 декабря, в день рождения Сталина.
Михаил Афанасьевич награды не носил, но орденские колодки никогда не снимал. Он преподавал пение и географию, рассказывал о жизни знаменитых музыкантов и путешественников. Говорил так, как будто сам с ними встречался и каждого хорошо знал. Отвечать уроки и петь никого не вызывал, не заставлял. Но всем до одного ставил отличные отметки за то, что научились хорошо слушать. Потом брал коричневую скрипку, хрупкую и потертую, прижимал щекой к левому плечу. В клешню вставлял смычок, поверх туго затягивал красной резинкой, культями пальцев левой руки держал гриф и прижимал струны до синевы и вмятин. Смычок походил на танцующую стрекозу, то плавно взлетающую вверх, то часто прыгающую, словно обжигающуюся о струны, и по классу разливалась музыка. Неожиданно обрывается мелодия, будто кто-то ее обрубил, а в ушах Зинки все еще звенит ее высокий голос. Михаил Афанасьевич держит под мышкой смычок и скрипку, культей вытирает капельки пота со лба.
– На сегодня все… Урок окончен… До следующего занятия, – отрешенно и устало говорит он и, не дожидаясь звонка, уходит из класса. Все дружно встают и молчат.
Одному Толику все это не нравилось. Он кричал на Зинку в лесу:
– Нашли тоже гения, безрукого и беспалого скрипача! Да он фальшивит, как немазаная телега!.. Никакой я не жестокий, сама дура!
Вот, всегда так, и все-то у него не как у других. Зинка часто от него плакала. Но он сам подходил и первый мирился:
– Ну ладно, подумаешь, обида… Давай лучше будем над чем-нибудь смеяться. – И он сгибал указательный палец, дразнил им Зинку и при этом заразительно хохотал.
По совести признаться, Толик многим обязан Михаилу Афанасьевичу. Он впервые услышал свои любимые вальсы в его исполнении. А когда директор привез однажды из райцентра пластинку с этой музыкой, то Толик попросил:
– А можно, я возьму ее себе?
– Можно, – согласился Михаил Афанасьевич, – дарю тебе музыку в личное пользование…
С тех пор Толик не расстается с этой пластинкой. Прячет у себя в спальне, тайно приносит в пионерскую и заводит патефон.
Чего же он придирается к Михаилу Афанасьевичу?
Неужели опять обострение болезни, как в прошлом году?
Весну того года прозвали «траурной». Более трудной и страшной поры никто из старожилов лесной школы не помнил. Разразилась напасть, и сладу с ней не было. Многие почти одновременно и совсем неожиданно стали кашлять, харкать кровью. Две спальни переоборудовали под изоляторы. Приезжали из Челябинска врачи. Они смотрели ребят, проверяли легкие, и лечили уколами, усиленным питанием, новыми лекарствами. Отменили все уроки и занятия. По школе ходили какие-то полусонные тени, появлялись медленно и тихо, чтоб не потревожить ни себя, ни других. У всех была одна надежда – на скорый приход лета, тогда будто бы полегчает. За полтора месяца похоронили одиннадцать человек. В лесу Дядиван копал могилки. Жена помогала ему, горестно приговаривала и крестилась:
– Бог дал, бог взял…
Умирали на изоляторских койках в полном сознании. Мальчишки задыхались и кричали, требовали разбить все стекла в окнах, им не хватало воздуха. Девчонки беззвучно лежали в белых постелях. Не слышно было и не видно их последнего вздоха, рот чуть полуоткрыт, и верхняя синяя губа изогнута дугой. Кто-то мог выходить в ясный день и тогда подолгу смотрел на небо, весеннее солнце, сидел на ступеньках крыльца или на завалинке и не хотел вставать. Похудевшие лица казались ко всему безразличными и равнодушными. Говорили только шепотом. У некоторых выступили на бумажных щеках розовые пятна, словно подрисованные цветным карандашом. Веки у всех провалились, выделяя большие, красивые, четко очерченные глаза.
Глухо покашливал Толик, выплевывая в белую марлю капельки крови. Иногда он задыхался, убегал за угол дома и там захлебывался в кашле. Однажды в столовой за обедом Толик упал. Его отнесли в изолятор. Там он отказался от пищи, решил поскорее умереть голодной смертью. Дежурили в изоляторе по очереди все до одной сотрудницы лесной школы и девочки, кто постарше. Лишь Зинка одна смогла уговорить Толика поесть.
– Хочешь, я тебя поцелую?
– Совсем сдурела!
– Тогда я разревусь!
Он боялся ее слез и подчинился просьбе. Она умоляла его, как маленького ребеночка, отшучивалась на обидные слова и почти не отходила от его постели. Он поклюет с тарелки, как птичка, и устанет, отвернется, часто и прерывисто дышит. Когда начинает кашлять и задыхаться, бежит Нина Томиловна и, приговаривая ласково, выносит его на крыльцо, на свежий воздух. В руках у нее Толик выглядел длинным и несуразным младенцем, почти невесомым. Он подышит немного, вроде бы ему полегчает. Но вскоре ему уже и тут, на воздухе, плохо, тогда Нина Томиловна несет его обратно.
К Толику в изолятор приходил Дядиван. Он стоял у койки – голова чуть выше подушки – и рассуждал сам с собой на какие-то совсем мудреные темы. Говорил про солнечные пятна и лунные приливы, видно, хотел отвлечь Толика от его горьких мыслей.
– Я, конечно, не ученый, в науке не силен, но запомнил и уразумел, что умные головы сказывали… Кумекаю малость, так что я не такой уж малограмотный… Точно я тебе, Анатолий, говорю, что вся эта эпидемия стихийная и хворь неспроста, а связана со светилом, с пятнами и вспышками на ем. Да еще с лунной фазой. Это я тебе не басню сказываю, а ученую теорию излагаю. По моей прикидке, скоро болезням будет отходная, точным образом… Я вот в бинокль вчера рассмотрел, что на солнце и на луне вроде бы складки стали распрямляться…
Болезнь вдруг отступила. Толик перестал до удушья кашлять, ему разрешили вставать. Сначала он ходил вокруг кровати, потом до крыльца, а дальше смело разгуливал по двору. К середине лета уже и вовсе бегал по лесу.
– Эй, Доброволина, тебе какие цветы больше всех нравятся?
– Самые маленькие…
В лесной школе уже привыкли, что Зинка с Толиком всегда вместе. Никто и никогда не дразнил их, никто косо не смотрел и глупых вопросов не задавал. Да и у Зинки с Толиком тоже друг к другу особых вопросов не было, все и без того вроде бы понятно – они дружили.
Толик в роще нарвал небольшой букет цветов, принес и положил у самых ног Зинки. Неожиданно покраснел, поймав лукавый ее взгляд. Щеки и уши у него стали прямо-таки пунцовыми, словно он долго смотрел на костер. Между ними возникла минутная неловкость, которую Зинка хотела шуткой развеять:
– Тоже кавалер нашелся…
Тогда Толик тут же истоптал цветы да еще неумеючи и сгоряча сплясал вприсядку. И сразу же убежал, не оглядываясь.
Потом прибежал, лег на траву и смотрел в небо. Послышались тонкие, как острие, звуки скрипки. Толик вскочил и плюнул с досады. Он демонстративно затыкал уши ладонями и зло гримасничал.
– Зря паясничаешь, Толик…
– Да ты ничего не знаешь! – вдруг надрывно кричит он.
– Тут и знать ничего не надо, и так все понятно…
– Да ты бы видела, ненормальная, – даже зубами заскрипел, – как он в лесу Нину Томиловну целовал!
– Ну и что особенного? Ничего особенного…
Этого Толик не ожидал. Он, наверное, думал, что сделал убийственное открытие, объявил вслух ужасное, самое тяжкое обвинение, а в ответ никакого сурового приговора не последовало. Зинка и не думала осуждать Михаила Афанасьевича. Даже немного было любопытно. Не отказалась бы сама посмотреть, как все это выглядит на самом деле. Знала бы, где это происходило, сбегала бы на то место, ради интереса. Мальчишкам до этого не додуматься. Нина Томиловна как-никак приятная и симпатичная. Это она, наверное, целовала Михаила Афанасьевича, а не он ее, потому что при его характере у него это просто не получится, решительности не хватит. Она смелая, она сможет. А если у них настоящая любовь? Толик, видно, и не знает, что это такое.
– Ты хоть понимаешь, что болтаешь? – затопал он ногами и руками замахал. – Да от таких слов у меня разрыв сердца может произойти, и я умру!
– Сумасшедший!
– Сама идиотка беспробудная! – И тут Толик впервые за все время их знакомства заплакал. Он закрыл лицо руками, голова и плечи его тряслись.
Зинка пришла в полное замешательство. Она никак не могла найти этому хоть какое-то объяснение. Только этого еще не хватало. И без того было у нее так много в жизни необъяснимого и неразгаданного, что голова просто пухнет…
4
Магниегорск перестал радовать Зинку. Теперь она боялась выходить в город. Тяжелое предчувствие оправдалось. От мамы узнала, что папа не работает больше начальником цеха. Его исключили из партии и перевели на другую работу, поставили слесарем, и он чинил в мастерской инструменты. Папа говорил маме, что просился сторожем, но ему отказали. В гости к ним уже никто не приходил. Телефон звонил очень редко и случайно, больше из-за путаницы номеров. Мама с папой подходить отказывались, и трубку брала Зинка. Однажды телефон отключили совсем, пришел мастер и молча снял аппарат. Из разговора родителей Зинка поняла, что знакомые и бывшие друзья их дома теперь боялись встреч с мамой и папой.
Папа приходил с работы рано, снимал брезентовую куртку, долго мылся, расплескивая воду, не замечая, что делает. Потом он сидел, что-то читал, чертил какие-то чертежи, исписывал листы бумаги, откладывал в сторону или рвал на мелкие клочки. Тяжело поднимался со стула и принимался ходить из угла в угол, не находя себе места в этой большой квартире, словно мучился от боли, скрыть которую или утихомирить невозможно. Времени свободного у него появилось много, но оно было теперь совсем ему не нужно, и он продолжал маяться, как в больничной палате, от этого лишнего времени. В квартире все стояло и висело на своих привычных местах, но обстановка уже казалась Зинке чужой и сиротливой. Паркетный иол, потолки, даже сам воздух будто давили на плечи, и освободиться от этой тяжести можно было только на улице, да и то подальше от дома.
Мама сидела в кабинете и печатала какие-то письма, которые ей диктовал папа. Иногда он обрывал на полуслове, быстро выходил и направлялся в ванную мыть лицо и голову.
Зинке казалось, что они жили теперь на необитаемом и далеком от людей острове и никому уже нет дела до их тревог и волнений. Во дворе сверстники почему-то стали сторониться, избегать Зинку и перестали играть с ней. Неужели она им может в чем-то повредить?
Зинка заметила, как быстро многое переменилось в жизни. Люди стали замкнутыми и подозрительными. В школе в спешном порядке проверяли сумки, не разрешали ученикам пользоваться старыми учебниками или заставляли некоторые портреты и надписи замазывать химическими чернилами.
Папа каждый день слушал внимательно радио, никогда не выключал, словно боялся пропустить что-то очень важное и нужное. Он ждал каких-то особых сообщений, которые смогли бы отвести прочь его тревогу и беду. Но дни проходили за днями, и ничего утешительного для себя папа не услышал, отчего еще больше расстраивался и волновался.
В один из таких дней мама пришла откуда-то с очень бледным лицом и синими кругами вокруг глаз. Она взглядом увела папу в кабинет. Был слышен их разговор, из которого Зинка узнала, что маму тоже исключили из партии. Папа говорил громко и резко, как будто там был еще кто-то третий или вместо мамы какой-то совсем другой человек, которого надо в чем-то переубеждать. С каждым словом папа повышал голос:
– Да я жду! Я написал еще Калинину и Молотову, и у меня нет никаких сомнений! Он настоящий секретарь горкома! Я убежден, что в преданности Ломинадзе никто не должен сомневаться! Нельзя играть в поддавки!
Поздним вечером папа в кабинете опять начинает мерить шагами расстояние от стенки к стенке, не замечая молчаливо сидящую на диване дочь. Зинка осторожно, словно боясь потревожить тяжело больных в доме, идет в свою комнату, раздевается и забирается в постель. Дверь по-прежнему не закрывается плотно, и щелка позволяет Зинке наблюдать за тускло освещенной гостиной, которая уже, видимо, отвыкла от гостей, ночных посетителей, спокойных и уверенных людских голосов. Слышатся лишь нервные шаги папы и мерный ход часов. Они постепенно убаюкивают Зинку. Расплывается полоска света и смешивается с синей темнотой…







