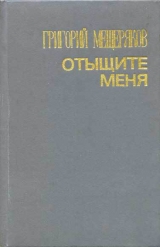
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Чьи-то сильные руки несут Петьку, как младенца. Он веса своего не ощущает. Не слышно ни шума, ни взрывов, ни шороха. Закроешь глаза, и исчезает живой мир, нет его больше на свете, и возвращаться туда не хочется. Лес пахнет пожаром и гарью…
Боец с усами ловко орудует ножницами, укорачивая полы и рукава серой шинели. Разно одетые партизаны чистят винтовки. Молодая врачиха строчит на швейной машине. К шинели пришиты желтые медные пуговицы с пятиконечной звездой…
Горячая каша в котелке дышит паром, обжигает щеки и губы.
В штабной комнате, просторной и светлой, много командиров, а может, бойцов или партизан. Они что-то говорят и о чем-то спрашивают. Но ни слов, ни вопросов не слышно, хотя все они шевелят потрескавшимися губами…
В затылке нестерпимая боль никак не унимается. Хочется запрокинуть голову и прижать затылок к спине. Неужели это было на самом деле? Непонятно, где это могло происходить…
Все еще не слышно ни голосов, ни шагов, ни стука.
Плывут перед глазами вагоны, поезда и рельсы. Мелькают паровозы, станции, колеса…
Широкие темно-коричневые гладкие полки у самого потолка вагона, где слегка покачивает, как в люльке. Свечка в фонаре бросает грязный желтый свет. Под нижней лавкой очень неудобно лежать, свернувшись ежиком, и видеть одни ноги и обутки. Пошевельнуться нельзя, могут заметить и вытащить, как кутенка из конуры, потом станут таскать, проверять и выяснять…
Какие-то незнакомые и, кажется, знакомые улицы. Много больших и малых зданий. Плывут названия и номера детдомов.
Медленно склоняются какие-то приветливые лица. Совсем близко к глазам. Санитарка в военной форме, чем-то похожая на Валентину Прокопьевну. Это она везет Петьку в зеленом вагоне, водит по улицам, держит за руку и не отпускает. Плавно и спокойно, как будто и нет войны, катятся по рельсам красные трамваи, глазастые и набитые людьми. Во дворе белого трехэтажного дома полно детворы. Они окружили Петьку со всех сторон. Каждый норовит в лицо заглянуть. Слишком много любопытных глаз. Они тоже раскрывают беспрестанно рты, но все глухо, как в немом кино. Неужели все детдома одинаковы и похожи один на другой?
Идут прямиком в бесконечном строе люди. Они словно слепые и сбившиеся с дороги. Измученные лица мужчин и безумные глаза женщин. Пятна дыма пачкают пушистые облака, и кажется, что в небе куда больше грязи, чем на земле…
Новая «эмка» прыгает на ухабах, урчит и воет в трясине. Торчат вверх колесами разбитые и перевернутые машины. Шинель на голом теле кусает кожу, спина зудится и чешется. Целые россыпи цветов на лужайках. Никто ими не любуется, не собирает в букет. На старом, вытертом локтями столе букетик уже повядших цветов. Строгая женщина в очках заполняет бланки, пишет справки, готовит документы. Макает железное перо в стеклянную чернильницу-непроливашку…
От высоких домов вокруг тесно, но ни одна стена не отвалилась, и в стеклах окон остановился блеск слепящего солнца. Надо пройти еще несколько кварталов. Там, на перекрестке, должен стоять батька. Ноги очень болят. В городе много перекрестков. Сильнее всего болит голова. По вискам, кажется, прошли трещины. Гудит воздух. Различить бы хоть один человеческий голос…
…В лесу так много снега, что можно утонуть, если упадешь или с разбегу нырнешь в его перину. Выпал толстым пушистым и ровным слоем. Раздвинулся в стороны, уступая полосе твердой, накатанной зимней дороги. Скрипит и дребезжит старый фанерный автобус, на скамейках сидят и кутаются в рваные пальто и одежды двенадцать мальчишек. Всякое тряпье на них висит лоскутами. В тонкой шинельке без мехового воротника ни носа, ни рук не спрятать от холода. Так и хочется окунуться лицом в большой лисий воротник Валентины Прокопьевны. Она сидит сбоку у шофера. Внимательно осматривает каждого оборванца и, наверное, жалеет, потому что взгляд ее грустный.
Все молчат, как глухонемые. Путь от Котельничей не близкий… Подобранных и снятых с поездов бродяг держат в милицейской комнате на станции. Одних отпускают, за другими ждут нарочных…
Худой высокий милиционер обрадовался, увидев красивую Валентину Прокопьевну. Он расшаркался и заулыбался. Надоело ему шпану гонять. Он, видимо, очень торопился поскорее спровадить беспризорников. Быстрехонько составил какую-то опись, справку и сунул Валентине Прокопьевне. На прощание он от радости и облегчения каждому пожал руку. За лесом – поля, за полями – лес. В полынье Вятки да на быстрых протоках льда нет. Дымит холодным паром река. Видать, еще живая. Стелется внизу белый туман. Еще немного проехать – и будет Купарка. Странное название…
Серый пыльный туман подступил к зрачкам. Не различишь ни света, ни земли. Идет батька с пустым рюкзаком на лямках. Потом бежит навстречу медленными и длинными шагами. Он прыгает высоко и плавно. Так не бывает в жизни. Хочется сорваться с места и полететь к нему. Но совсем не слушаются ноги. Они болтаются в воздухе. Может, наоборот, прибиты гвоздями к земле. Руки так тяжелы, что поднять их и махать, как крыльями, тоже нет сил.
Батька, кажется, совсем близко. Уже различимо его лицо. Батька настойчиво зовет Петьку к маме с Ленкой. Он еще не знает ничего. Нет голоса, чтобы крикнуть ему: «Они погибли, их больше нет!.. Они погибли!..»
Неправда, это они погибли только во сне. На самом деле они живые. Это просто приснилось, потому что самое ужасное происходит только во сне. Сон скоро пройдет. В жизни такого не может быть и никогда ни с кем не будет. Как хорошо все-таки, что жизнь всегда лучше всяких колдовских снов. Вон же они живые стоят на железнодорожной насыпи и держатся за руки. Кругом почему-то красные цветы, зеленое небо и белое солнце. От тишины и счастья все до единого оглохли. Никто не слышит друг друга. Они зовут к себе. Наконец-то прошел тот кошмарный сон. Мама с Ленкой снова живые и невредимые. Надо только подойти к ним. Но чем Петька ближе, тем они дальше. Только бы дотянуться рукой. Но они тут же исчезают. Неужели опять вредничает Ленка? Надо бы стоять на месте и спокойно ждать. Тогда бы не было никакого обмана. Батьки тоже не видно. Ведь Петька про часы ему еще не успел сказать. Может быть, это сон во сне или уже совсем другой сон? Скорее бы очнуться…
5
– Ты что, Генералец, обалдел, что ли, скулишь, как подбитая сука?
– Сам ты сука продажная!
Князя в спальне уже не было. Нехотя и лениво одевались остальные, спросонья огрызаясь друг на друга.
Петька, накинув шинельку, вышел из спальни. Морозный воздух чуть освежил лицо.
Во дворе немка, направляясь в класс, увидела и остановила Петьку. Удивленно уставилась и с беспокойством спросила:
– Что с тобой, Крайнов, на тебе лица нет, может, ты болеешь? Если что-нибудь неприятное случилось, расскажи мне, я попробую тебе помочь…
Да она сама в защите больше всех нуждается, потому что одинокая старуха. С урока своего она отпустила, и Петька пошел разыскивать Валентину Прокопьевну, чтобы попросить ее первый раз о помощи. Болтался по территории и корпусам почти полдня, даже на обед не пошел. Правда, видел Валентину Прокопьевну дважды, но она куда-то торопилась и не замечала его, хотя Петька подходил к ней близко. Каждый раз она быстро скрывалась за дверью канцелярии. Можно действительно пойти прямо в райсовет, там люди справедливые, разберутся и помогут, наведут порядок. Князю крепко попадет за все измывательства. Прошлым летом, когда Петька в Казани бедствовал, голодал и пошел милостыню просить, старик татарин посоветовал:
– Айда-шагай в райсовет, там тебе помощь дадут, вниманием окажут…
Отвел и показал на низкое деревянное здание, где внутри по обеим сторонам узкого коридора было много скрипучих дверей. В одной из комнат строгие женщины долго расспрашивали Петьку, так ничего не выяснив и не поняв, но накормили досыта и велели подождать подводы в детдом. Подводы ждать он не стал. Недалеко была станция, оттуда снова поехал неизвестно куда, лишь бы батьку разыскать. В конце концов попал к милиционеру в Котельничах.
– Может, ты переживаешь, что письмо тебя не обрадовало? – снова спросила немка, встретив Петьку у столовой.
– Какое письмо? От Сталина, что ли?
– Разве тебе Валентина Прокопьевна еще не говорила? Она взяла письмо себе.
– Нет, я еще с ней не разговаривал. А когда пришло письмо?
– Кажется, вчера или позавчера, на днях, одним словом, – говорит немка, раскуривая папиросу.
– А что там, в письме?
– Местопребывание твоего папы пока неизвестно, но его настойчиво разыскивают и обязательно найдут… – Она еще что-то говорила, но Петька уже не слышал ее слов. Письмо читать ему не хотелось. Но Валентина Прокопьевна могла хотя бы сообщить?
Обычно она сама подзовет, пальцем поманит или окликнет, а тут вроде бы как избегает. Петька решил Князя повидать, чтобы поговорить окончательно. Может, еще сильнее ему пригрозить, а может, даже унизиться и встать на колени. Но тот куда-то запропастился: сказали, что в поселок ушел.
Дверь, ведущая из коридорчика в комнату Валентины Прокопьевны, была массивная, обитая с двух сторон кошмой, поэтому Петька никогда раньше не стучал: бесполезное дело, все равно не слышно, хоть ногами пинай. Он просто брался за деревянную ручку и тянул на себя. Если Валентина Прокопьевна дома, то дверь никогда на крючке не держит, заходи, не стесняйся, в любой момент, она не испугается и не рассердится.
Он медленно потянул на себя знакомую деревянную ручку. Дверь мягко, без скрипа отворилась. Петька вошел и остановился, как всегда, на пороге.
Валентина Прокопьевна сидела на сундуке у стола и писала. Быстро повернула лицо и, как только увидела его, почему-то сразу растерялась. Вскочила с места, засуетилась, запахивала халатик, словно пряталась от посторонних глаз или холода, потом вдруг резко спросила:
– Тебе что?
– У меня срочное дело…
Она быстро перешла к другому косяку, пытаясь что-то загородить и скрыть от его взгляда. Там, на подоконнике, лежала подушечка для иголок, а поверх видны были карманные часы в корпусе с решеточкой, которые она, будто невзначай, прикрыла ладонью, но от острого взгляда Петьки скрыть так и не успела. Недовольно заторопила:
– Ну, что у тебя? Говори скорей, а то мне некогда и я очень спешу, ночью муж приезжает, я должна заранее подготовиться и встретить, а у меня еще вечером педсовет…
– Зачем он приезжает? – странно спрашивает Петька, не найдя других слов.
– Попутно! – словно гавкает она. – Это, что ли, твое срочное дело?
– Нет…
– Ответ по розыску я оставила в канцелярии, можешь сам забрать. Ну, что еще?
– Да так, ничего…
Сейчас она совсем некрасивая и вид у нее неряшливый. Особенно противные у нее пугливые глаза и рот с презрительными морщинками.
Сил и ума не хватало Петьке быть посмелее. Повернулся и вышел. Медленно побрел по тропинке прочь от этого дома. Хотя уже там, у порога, ему хотелось закричать во весь роздых, затопать ногами, бить кулаками в стену, плакать, скрипеть от злости зубами, требовать и спрашивать:
– Неужели это вы? Неужели это вы?! Неужели это вы, Валентина Прокопьевна?!
Странно ползет сегодня время. На улице уже бледный и усталый вечер, пришел рано и быстро. Всюду серый снег, на черное небо выползает луна, и люди похожи на тени с бледными слепыми лицами. Если ждать до утра, она может передать батькины часы в подарок своему мужу и плакали тогда они о Петьке. Пора самому выкрасть то, что принадлежит ему, Петьке. Первый раз в жизни его вынуждают воровать. Раньше только просил милостыню, и люди от жалости подавали. Сегодня он украдет не чужое, а свое кровное. За это даже суд простить может и оправдает. Петька забрел в спальню, взял с койки короткое полотенце и сунул в карман шинельки. Потом пошел в столовую; дежурные посудомои уже разошлись. В огромном цинковом бачке остыла вода, болталась рядом на цепочке жестяная кружка. Петька отвернул кран, намочил полотенце.
В канцелярии шел педсовет. У спального корпуса маячат людские тени, видать, «холуи» тихарят, а «холопы» изгаляются над «падлой» перед сном. Петька крадучись пошел к дому сотрудников и обогнул угол. Все окна смотрели черными стеклами, лишь в одном, отдаленном, слабо горел свет. Петька подошел к знакомому окну к осторожно забрался на высокую завалинку. Быстро расправил и приложил к стеклу мокрое полотенце. Надавил обеими руками, стекло треснуло и бесшумно сломалось. Осколки попадали вниз, остальные стряхнул с полотенца в снег. Таким же образом выдавил стекло второй рамы и выбросил подальше полотенце. Одной рукой ухватился за косяк, другую просунул в разбитый пролет окна. Пальцы забегали по подоконнику, укалываясь о мелкие острые осколки. Вот наконец игольная подушечка. Теперь не сверху, а под ней лежали часы, гладкие и круглые, с крышкой в мелкую решеточку. Он взял их, тут же сунул за пазуху и спрыгнул в снег. По-воровски прячась и пережидая тени, вышел с территории детприемника. Пригнулся и побежал по знакомой тропинке к тракту. Снег так громко хрустел, что казалось, сзади бежит погоня. Часто оглядывался, но все было спокойно, на белом пространстве не появлялось ни одного человека.
Жаль, что батька не приехал и не подарил пистолет, а то обязательно пристрелил бы Князя. Метился бы только в голову, прямо в переносицу, чтоб сразу наповал, с кровавой дыркой вместо носа…
И на нее дуло направил бы, метко бы целился, прищурив левый глаз. Она бы наверняка очень испугалась револьвера. Но дуло в упор выстрелит ей в крашеные губы, и она захлебнется собственной кровью. Если бы достал раньше простой хотя бы поджиг, то тоже смог бы их убить. Рука не дрогнула бы, глаз не моргнул, в жизни не покаялся бы.
На трассе слабо светили фары. Послышался кричащий звук клаксона. Машины остановились, открылась со скрипом дверца.
– Возьмите меня…
– Тебе куда? Мы – в Котельничи.
– Я тоже туда.
Петька с трудом забрался в кабину и сел четвертым между чьими-то коленями.
– Куда отправился на ночь глядя? Что за спешка-то?
– С фронта батька объявился. Позвал повидаться.
…Все равно у часов какая-нибудь душа да есть, коли они отсчитывают человеческое время. И человеческую боль тоже. Если эта боль не заживет, то всю жизнь часы будут отсчитывать ее время…
– А здесь ты чего делал? – послышался откуда-то сверху вопрос.
– Как что? Жил.
– Прямо на дороге, что ли? – смеется мужик.
– Почему на дороге? В Купарке.
– В детраспределителе? В приемнике? Ну, чего замолк? Сбежал или как?
– Я не молчу… Я детприемник не знаю…
– Так с мамкой, значит, живешь?
– Нет, с теткой.
– А почему она тебя одного отпустила?
– А ей на меня теперь наплевать.
– Что так?
– Она ненормальная.
– Чем же?
– Она батькины часы хотела присвоить, а я не дал…
Больше никто ни о чем не спрашивал.
Слышится «Вальс-фантазия»

1
Слышится «Вальс-фантазия». Словно из всего птичьего гомона вырывается тонкоголосым солистом где-то спрятавшийся соловей, стараясь перекрыть все песни леса. Зашедшему сюда путнику странно было бы вдруг услышать в безлюдном лесу мелодию Глинки.
Как всегда, Толик снова от Зинки куда-то ушел. Опять скрылся за редкими стволами сосняка и берез, а может быть, прилег на землю, уставился в пушистое, если смотреть через ветки, небо и забылся. Когда он остается один, то насвистывает полюбившуюся мелодию.
Надоест ему сидеть в одиночестве, он спохватится, пронзительно свистнет и громко позовет:
– Зинка-а!
Сейчас он не зовет, хочет остаться наедине с самим собой.
Поляна усыпана земляникой. Ходить здесь надо бы осторожно, а то помнешь и раздавишь нежные и ароматные ягоды. В жизни Зинка не видела столько ягод, сколько в этом лесу. Да и где ей было раньше видеть, жила в городе, далеко одна не ходила. В городе лишь трава на газонах растет. Клумбы в центре улицы или площади – с живыми цветами, но ягод нигде не выращивают. А здесь, в лесу, ягод ешь – не хочу. Цветов не меньше, чем на любых самых больших и ухоженных городских клумбах. С одного перелеска на полгорода хватит, а со всего леса – так, может быть, даже на несколько городов.
Нарвет Зинка букетик, еле в кулачке умещается, поднесет к губам и чувствует сладкий запах. Вдохнет, и почему-то голова закружится.
Меж стволами деревьев сверкает солнце, пробиваются длинные лучи.
– Зинка-а!
Толик зовет. Она давно привыкла к его хриплому голосу.
Толик худой, бледный и долговязый. Капризный, пуще малого ребенка, хотя и старше Зинки на целый класс. Все знают, что его здоровье хуже некуда, поэтому многое ему прощают. Здесь все больные, у всех один диагноз. Кто сюда прибывает или кого привозят в эту лесную школу, тот уже на следующий день становится грамотеем и быстро заучивает, а вскоре четко выговаривает малопонятный, труднопроизносимый диагноз – «туберкулезная интоксикация». Лечат долго, не по одному году. Кто поправляется, другие нет. Каждое лето кого-нибудь привозят и, пока не выздоровеет, не отпустят. Толик уже три года здесь живет, с самого начала войны. У Зинки только второй год пошел.
Летом в этих местах свежесть, Зинке легко дышится. Зимой в любые трескучие морозы и визгливые вьюги в комнатах тепло и сухо. Буран до окон снег наметает, Зинку так и тянет лизнуть его языком, как сливочное мороженое. Уютно сидеть в тишине натопленного класса и писать мелком по твердой грифельной дощечке. Покажешь учителю и отметку получишь, сотрешь влажной тряпочкой и дальше пишешь. Но «отл.» или «хор.» Зинке стирать не хочется, а другой дощечки нет, у каждого ученика только по одной. Тетради только на контрольные работы выдавали. Они хранились в шкафу учительской целый год до весенних переводных испытаний. Домашние задания выполняли на газетных блокнотах, которые каждый сам себе нитками сшивал. Учились по одному учебнику на весь класс, по очереди или вслух читали, собравшись кружком.
Когда Зинка закончила пятый класс, табель послали маме. Она хвалила, осталась довольна отметками. Толик с грехом пополам перешел в седьмой. Учился он плохо, на уроках сидеть не любил. Его несколько раз обсуждали на педсоветах, на активе и пионерских сборах. Грозили, что в комсомол не примут.
– Мне вообще учеба не нужна, – говорил он Зинке, – я без нее замечательно обойдусь. Только забивают голову всякой ерундой…
Говорить с ним невозможно, он очень упрямый и самолюбивый. Через год ему выпускаться из лесной школы, а свидетельства может не получить из-за плохих отметок. Но директор Михаил Афанасьевич сказал, что этого он не допустит. У Толика свои тайные планы, которыми он как-то поделился только с одной Зинкой да, может быть, еще с Дядиваном. Собирается в пчеловодный техникум, поэтому много читает книг по ботанике и зоологии. А анатомию, говорит, будет презирать и в руки учебник не возьмет. В лесу, уединившись, он подолгу наблюдает за шмелями и осами, рассматривает раскрытые лепестки живых цветов, где собирают нектар тонкие хоботки. Бывал Толик и покусан не раз, глаз затекал, щека походила на оплывшую оладью. Колхозная пасека стояла километрах в трех от школы, на опушке леса, у самого гречишного поля. Он часто туда бегает, но Зинку с собой не берет. Все уши прожужжал ей про пчел: какая у них особая жизнь, куда и когда летают, какие цветы для меда вкуснее. Давал Зинке пробовать на вкус клевер. В самом деле, красный и сиреневый сладкие, а вот белый, как трава, безвкусный. В лесной школе мед давали всего два раза в году – ранней весной и осенью по пол чайной ложечки для укрепления здоровья. Чай пили с сахаром, с маленьким пиленым кусочком вприкуску. Всем казалось, так вкуснее и можно больше выпить. Толик сладкого не любил и свой сахар отдавал Зинке. «Все до одной девчонки жадные сластены и обжорки!» – смеялся он безобидно…
Сердиться на Толика нельзя, характер у него добрый, хотя глаза и слова колючие.
При звуках музыки Толик преображается, ничего не видит вокруг себя. Старый патефон крутили ежедневно в пионерской комнате. Заигранные пластинки громко шипели от тупых иголок, но на это никто не обращал внимания. Девчонки учились танцевать, мальчишки с любопытством подглядывали. За фокстрот ругали, разучивали и танцевали его тайком: раз-два – в сторону, раз-два – в сторону…
– Лисий шаг! – говорил Толик. – Ненавижу все эти танцы-манцы! Музыку надо слушать, а не скакать! Глупо извиваться и шаркаться!
Иногда, да и то нехотя, воспитатели разрешали танцевать танго. Зато на вальс запрета не было, и тогда девчонки до упоения танцевали с девчонками. Под концертный вальс или «Вальс-фантазию» танцевать невозможно, сбивался шаг и ритм. Но Толик другой музыки не признавал. Зинка сидела с ним и слушала, а все остальные расходились из пионерской.
Он и песни не особенно любил, лишь насвистывал изредка какую-нибудь навязчивую мелодию. В сумерках девчонки собирались гурьбой в пионерской и начинали петь грустные песни. Кто-то негромко начинал, потом подхватывали остальные:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына…
В темноте Зинка незаметно утирала слезы…
Радио здесь не было. Из райцентра далеко тянуть провода. Радиоприемник, большой, как домашний комод, безмолвно стоял у директора в кабинете. Никто никогда его не включал.
Патефон крутили все, кому только не лень. Затаскали ящик, ручку оборвали, синий коленкор руками залоснили. Многие хотели заглянуть вовнутрь патефона и увидеть там чудо-юдо, но боялись сломать. Патефон переносили к длинному столу, ставили в самом центре. Вот щелкнул замочек и открылась крышка. Стоит опустить головку на пластинку, как она заговорит, запоет, заиграет. Толик ставил лишь свои любимые пластинки и, как заколдованный, слушал. Если ему мешали, он злился и фыркал. Его раздражала даже скрипка, на которой играл Михаил Афанасьевич у себя в комнатке. Звуки скрипки казались Зинке красивее всех других на свете. Они сквозь любой шум прорвутся, их никакие голоса и патефоны не заглушат. А Толик, наоборот, услышит, вскочит, как обожженный, и потрясает в воздухе угрожающе кулаками. Михаил Афанасьевич часто играет на своей скрипке. Когда он репетирует, вся лесная школа замолкает. Перестают петь в пионерской, уходят от патефона и прислушиваются, как звучит живая музыка скрипки. Непонятно, почему это так не нравится Толику? Сам уши всем просвистел своими вальсами, не перечесть, сколько получил строгих замечаний и выговоров за нарушение культуры поведения, а других понять не хочет. Может, он ни за что ни про что возненавидел и Михаила Афанасьевича? Но уж это совсем необъяснимый для Зинки каприз.
– Тоже мне, артист художественного свиста! – кричала Зинка.
– Много ты понимаешь! – огрызался Толик. – Этому тоже учатся в консерватории!
– Как на скрипке?
– Еще больше!
– А тебя кто учил?
– Сам!
Он мало рассказывал о себе. Ни отца, ни матери не помнил, не знал, кто они и где. Еще в доме ребенка, в Тюмени, его назвали Толиком Бесфамильным и записали так в метриках.
– Я никто! Меня нет, я безродный! – зло смеялся он.
Зинка его жалела, словно была перед ним в чем-то виновата. У нее есть мама, где-то живет папа, а у Толика никого нет…
– Доброволина-а!.. Зинка-а!
Полкружки ягод насобирала, а все вроде бы мало. Зинке неохота отрываться от богатой полянки и уходить отсюда. Пусть Толик лучше сам придет. На удивление, он принес горсть ягод и высыпал ей в кружку. За перелеском прокричал звонок. Обыкновенный медный колокольчик позвал к обеду.
Лесная школа стоит недалеко от шоссе. Дорога вымощена булыжником, по которому в разное время суток слышится стук тележных колес. Несколько двухэтажных корпусов построены были для курорта перед самой войной, и потому деревянные стены все еще сохранили свежий желтый цвет и хвойный запах, в щелях я щербинках застыла светлая живица, подтеки на венчиках потемнели и стали коричневыми. Окна большие и квадратные, со множеством мелких переплетов и форточек, в которые, как в зеркало, смотрится зеленый лес. На подоконниках ни одного комнатного цветка, ни одного летнего букетика. Лишь выглядывают куклы и игрушки малышей, стопки книг и бутылочки с микстурой.
За школьными постройками – огороды. Дальше за ними прибились к лесу домики для сотрудников, медиков и учителей.
Километрах в пяти-семи за лесом находился райцентр. Туда и оттуда два раза в день бегает дребезжащий школьный грузовичок. Кабина его давно не крашена, облупилась старая темно-зеленая краска. Фанерные крылья трясутся, готовые отвалиться. За руль садился только Михаил Афанасьевич. Он был и шофером, и заправщиком, даже грузчиком и почтальоном. Привозил хлеб из райцентра, бидоны с молоком, овсяный кисель в бачках и флягах, разные крупы и продукты. Иногда брал в помощники Дядивана, но чаще медсестру Нину Томиловну. В райцентре им помогали, но там тоже остались одни женщины, старики и калеки. Мужчин в лесной школе было только двое. Остальной персонал был женский и почти все пожилые, старше Нины Томиловны. Ученикам работать на погрузке или разгрузке строго запрещалось.
Молоденькая Нина Томиловна с симпатичным лицом и немного полной фигурой походила на кругленькую пышку. Она была добродушной, улыбчивой и неунывающей. Ребята шли к ней, передавали письма, чтобы она по пути опустила их в почтовый ящик райцентра или на станции. Вечером вся школа дожидается грузовичка. Вдруг привалит счастье кому, привезут письма или посылочки от родных. Встречать выходили к воротам. Очень огорчались, если поездка по какой-то причине срывалась. Машина, к всеобщему сожалению, часто ломалась, и тогда в райцентр на сером мерине по кличке Мальчик, запряженном в телегу, отправлялся завхоз дядя Ваня. Его так и звали Дядиван. Они вместе с Михаилом Афанасьевичем часто ремонтировали грузовичок, всякий раз уверяя, что больше поломки не будет, но старая машина барахлила. Гайки откручивал или закручивал Дядиван, а когда ногами что-то надо поднажать или подтолкнуть требуется, тут уж дело за Михаилом Афанасьевичем. Любил Дядиван Мальчика больше, чем грузовичок. Правил лихо, ласково покрикивал на коня:
– Но-о! Пошевеливайся, корноухий мерин!.. Но-о!
Он сидел на плоской телеге, как толстый обрубок. На фронте Дядиван потерял обе ноги выше колен. Ходил по земле в самодельно сшитых, натянутых чулком, кожаных обувках, подворачивая и обвязывая штанины. По вечерам Дядиван водил Мальчика на водопой к озерку, спутывал на ночь веревками передние ноги и оставлял пастись. С трудом притягивал за уздечку голову покорной лошади, оценивал зубы, гладил и ласкал другой рукою челку.
– Машина – это, что ни говори, не живое существо, не от природы родилась, а от ума, человек ее придумал, – рассуждал Дядиван, – потому такая от роду и жизнь ейная. Шурупа или болта нет, так стоит себе и ни пить, ни есть не попросит, на судьбу не пожалуется, ничего-то ей и никак не больно, одним тольки хозяевам огорчительно. Мотор заглох, и нету больше у нее души, как ни суди, ни ряди. А животное – оно существо особое, поскольку самой природой, а не башкой изобретено и в ем живой организм бьется. Случись какая внутренняя неполадка, так тут тебе, не дай бог, и погибель идет. А зубы у лошади – первейшая причина, по ним года жизни считать можно. Машина молчит, а вот ежели занеможет животина, так о боли своей одними глазами все без утайки расскажет, и, хоть плачь, тут уж ни болтов, ни шурупов искать не будешь. Вот оно как, а про человека я уж и не говорю.
Дядиван часто рассуждал и философствовал. Толику и Зинке интересно было его слушать. Однажды рысь покусала Мальчика, и Дядиван с трудом выходил его, но ухо у коня отвисло.
– Оба мы с тобой калеки, – говорил Дядиван, похлопывая Мальчика по бокам и животу, – я безногий, а ты корноухий…
Железнодорожная станция в стороне от райцентра днем будто спит, и никакой оттуда шум не доносится. А ночную тишину словно черт будит, станция просыпается, слышны стук колес, гул составов, гудки паровозов. Если прислушаться и пересчитать разноголосые гудки, то можно узнать, сколько поездов простукало мимо и сколько остановилось.
Железнодорожную станцию Толик не помнит. Его привезли в лесную школу на машине в плохом совсем состоянии. В дороге он так ничего и не видел. Зинка с первого раза запомнила станцию хорошо. Там вокруг деревянного желтого вокзалишка много посадок молодого клена. Штакетник во многих местах разобрали, видимо, на дрова. На перроне и у насыпи было малолюдно, никто не приезжал и не уезжал, хотя поезда с пассажирами и солдатами проходили один за другим в обе стороны. У стрелки стоял дежурный в красной фуражке и с жезлом в правой руке. Омытые после дождя деревья распушили листья и встретили свежим дурманящим ароматом, от которого закружилась голова, и Зинке захотелось лечь на землю с открытыми глазами. До лесной школы Зинка с мамой шли через лес и несколько раз отдыхали. Строгая, молчаливая и усталая мама ничего не говорила, только думала о чем-то своем и внимательно смотрела на Зинку. В лесной школе она заплакала, будто расставалась навсегда. Маму стало жалко, как никогда в жизни. Она оставалась теперь совсем одна. Одна должна возвращаться через лес на станцию, одна сядет в поезд и приедет в Огаповку, длинную и пыльную деревеньку. Войдет в низкую избу и с этого времени станет жить в одиночестве. Наверное, она будет плакать каждый день. А может, опять сожмется в кулачок и не уронит ни одной слезинки. Зинке тоже хотелось плакать, но она сдерживалась и говорила маме ласковые слова.
В канцелярии Михаил Афанасьевич сказал маме:
– Не волнуйтесь, Полина Лазаревна, и успокойтесь. Здесь вашей дочери будет хорошо, и когда вы приедете за ней, она уже будет вполне здорова…
Мама молча кивала, слушала, соглашаясь, но было видно, что вот-вот готова разрыдаться. Она оставила Зинку в лесной школе и пошла по заросшей дороге в лес к станции. Старая вязаная кофта повисла складками на сутулых плечах, полотняная перешитая и с заплатами юбка, стянутая на талии бечевкой, топорщилась колоколом, мальчишеские потертые добела ботинки совсем износились, весь прежний облик мамы изменился, она походила сейчас на нищую старушку, хотя не была даже пожилой. Мама медленно, не оглядываясь, ушла в лес, склонив голову к груди и наглухо спрятав лицо в красную косынку, с которой, пожалуй, с юности не расставалась. Поздно вечером мама придет на станцию, попросит проводника или машиниста дать ей хоть какое-нибудь местечко в поезде и уедет обратно в Магниегорск.
2
Зинка родилась в Магниегорске. Строился город, и росла Зинка. Торчали вверх длинными дулами трубы комбината. Из них вываливался наружу черный дым, иногда рыжий или синий, мазал небо, натягивался косматыми хвостами на ветру и расползался над городом.
О Магниегорске много говорили по радио, писали в газетах. На одной из фотолистовок о городе Зинка узнала папу.
Она научилась читать сама по заголовкам газет. Мама лишь подсказывала буквы. Прочитанные слова Зинка сначала не понимала, больше отыскивала знакомые буквы, расстелив на полу несколько свежих газет. Но потом буквы сами складывались в понятные слова и фразы. В первом классе Зинка старательно писала и соединяла буквы тонкими хвостиками:







