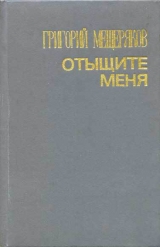
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Слава богу, – говорит дома бабка, – что пленных брать начали, видно, скоро конец проклятой войне.
Вот бы бабка эту радость накликала, но она никогда не была провидицей.
3
Мастер привязался, как жлоб. Зануда он, по пустякам гоняет, армейские порядки свои вводит. От этого солдафона не жди никаких поблажек, одно только на языке:
– Как стоите?.. Как обращаетесь?.. Как отвечаете?..
В тонкую струнку вытянуть хочет, чтоб руки по швам и подбородок вперед, будто на парад дрессирует.
– Гражданин колонист, я вас спрашиваю, как вы стоите перед старшим по званию? – И пойдет, понесет, заталдычит. Никто его не боится и особенно-то не слушается. Говорит он много и строго, а вот в карцер сажает редко. Иной надсмотрщик лишнего слова не проронит, лишь посмотрит и отрежет:
– В карцер на сутки!
Мало кто знал тут, как зовут мастера и какая у него фамилия.
Севка вышел в просвет:
– Ну вот я, гражданин мастер…
– Вижу, что это вы, гражданин колонист, – сухо говорит мастер, шагая дальше к конторскому дому. – Вам, во-первых, надо расписаться в ведомости. По одной накладной не проходите, а мне пора закрыть наряды. И, во-вторых, какая-то там розыскная бумага на вас пришла.
Только-то и всего, а хипеш поднял, как будто Севка лесопилку запалил. В конторке мастера тесно. Новый добротный стол завален образцами ученических линеек и Мелкими бумажками. Севка каракулями расписался в амбарной книге, не зная, для чего и зачем. Слышал, что за работу идет кое-какое жалованье, но сколько, не знал. Просто расписывался, где покажут. Может быть, весь заработок уходил на казенные харчи, шмотки, а может быть, в фонд обороны? На руки никому деньги не выдавали, да и некуда здесь тратить. В канцелярской комнате воспитатель сказал, что бумага на бланке пришла из Куйбышевского военкомата, который разыскивает сына раненого бойца Петрухина. Лучше бы батя не разыскивал Севку до конца срока, а то ему, когда он узнает про колонию, этот розыск второй раной откроется.
– Севмор, – говорит воспитатель, – у тебя в самом деле была фамилия Петрухин?
– Может, была, а может, нет.
– Тут у тебя в деле три фамилии, а какая настоящая, толком не дознаешься. Какой поверить, не знаешь.
– Да хоть какой верьте.
– Поступил ты и числишься Морозовым, а Петрухин тут к чему? – не унимался воспитатель. – Имя тоже совпадает, потому как оно на свете редкое. Так ты Петрухин или Морозов?
– Морозов.
– А петрухинская откуда взялась?
– Это по ошибке записали одного давлетхановского пацана, который по другому делу проходил…
– Фамилия Чижов тоже, что ли, по ошибке?
– Нет, тут я сам придумал, у следователя…
Вот и весь тебе спрос, сказ и допрос. Воспитатель не стал больше доискиваться и отпустил с миром. Ни за что им не узнать, кто такой в действительности Севка, а без очной ставки с бабкой, вовсе не опознают. Батю сейчас пугать не нужно и ни к чему. Севка сам его со временем разыщет, после колонии, может, даже еще до срока, если, конечно, удастся. Королер все чаще тайком поговаривал о побеге, вдвоем, мол, легче его осуществить. Они забирались подальше от ушей на нары, и Королер нашептывал о разных своих планах, каждый из которых был заманчивым, но маловероятным. Душа истосковалась, скорей бы на свободу. Хочешь, гуляй фертом по земле или поезжай на фронт фашистов бить. Куда голова велит, туда и валяй, хоть к самому бате, в Куйбышев.
Севка на все согласился бы, лишь бы вырваться отсюда. На любую муку пошел бы без оглядки. Там, на воле, можно пойти на завод, устроиться работягой, встать к станку и вкалывать положенное время. Отработал законные двенадцать часов – и вольный казак, вольная птица, бегай и летай в полное свое удовольствие. Никто за шкирку хватать не будет, барахло тырить и последние пайки отнимать не станет, никто не заставит играть в «орлянку», «очко», «буру» и принуждать к наколкам. У Севки пока одна наколка, на левой руке: синий рисунок холма с крестом и словами «Не забуду мать родную». Эту татуировку проиграл в «очко»; конечно, урки кропили карты, подтасовывали и мухлевали. Шулеров разномастных здесь хватает, даже с излишком. Севка погорел на переборе, больше двадцати одного очка на руках оказалось. Наколки делали на выбор, кто какой рисунок пожелает: можно русалку, змею или сердце с кинжалом. Севка выбрал «Не забуду мать родную», хотя помнить о ней, откровенно говоря, не очень хотелось, да и вряд ли она в могиле. Азартный Королер продулся в «буру» на «маечку», и ему целую неделю по ночам на пузе и спине при свете барачной лампочки медленно накалывали. Королер терпел, пыхтел и скрипел зубами, на лбу выступали капельки пота, а в глазах слезы. Когда от боли совсем невмоготу стало, Королер пошел на риск и отыграл «полмайки». Урки согласились на «поясок» и от него отстали. Кожа у Королера на животе и пояснице вздулась серо-розовым цветом, он целый месяц ходил навытяжку, боялся согнуться или неловко пошевелиться. Воспитатели и охрана не подозревали, в чем дело, от них огольцы скрывали. В картежном деле сексотов не бывает, одна у всех порука. Королер придумывал всякие причины и просился на легкую работу. Потом схитрил и попал за неповиновение надолго в карцер. Там отсиделся, «поясок» зажил, и кожа на том месте стала, как у негра, с синим оттенком. При воспитателях в бараке нательную рубаху не снимал, а в бане прятался в парных углах. Но потом все увидели, привыкли, не удивлялись, потому что почти все тут, в колонии, ходили разрисованными, как дикари. Узнала бы бабка про такую Севкину жизнь, с испугу умерла бы. Зато мать, наверное, осталась бы по-прежнему безразличной ко всему. А вот батя бы нет. Жалко его, он, видно, до сих пор ждет ответа на свое письмо, которое так и осталось лежать в узле на дне бабкиного сундука…
«Дорогие и родные жена Наталья, мать Леокадия Игнатьевна и сын Севмор! Пишу я вам из госпиталя, в котором лежу вот уже три месяца. Вы, конечно, сразу догадались по почерку, что письмо это вам я пишу не сам, а диктую медсестре Анастасии. Из сообщения от военкомата я узнал, что вы получили известие, будто как бы я пропал без вести. Так оно в действительности и было, потому что носили меня раненого по немецким тылам. В северных лесах меня дополнительно крепко шарахнуло вражеским осколком, и я даже плохо все помню. Знаю, что самолетом вместе с другими ранеными нас вывезли через фронт. Начались в моей жизни лазареты и госпитали, поэтому давать знать о себе я долго не йог и не хотел. Все думалось, что не выживу, а зачем посылать весточку о своей смерти, пусть уж лучше тогда останусь для вас „без вести пропавшим“. Мне, конечно, очень хотелось сразу сообщить о себе, но уж очень я был искалеченный и каждый день находился на волоске от смерти. Приду в себя и разумом чувствую, что все еще, значит, не умер. Сейчас уже многое из того позади, поэтому-то я и решился на письмо к вам. О делах своих в военных действиях в одном письме не опишешь, да и не только в одном, а может, даже тысячи писем не хватит. Сообщаю, что у меня нет правой руки, ее оторвало в жестоком бою, и к тому же еще нет левой ноги, ее по самый пах отрезали хирурги, поэтому получается вроде как я полный инвалид по диагонали. Крепко, конечно, думаю, как мне начать свою новую инвалидскую жизнь, как и чем быть полезным обществу и родной семье, но об этом мы подробно обговорим по моем прибытии.
Приезжать ко мне пока не надо, порядок и начальство в нашем госпитале для тяжелораненых очень строгие, и без разрешения никакие уговоры не подействуют. Посылки тоже не отправляйте, так как я обеспечен всем казенным в полную меру и ни в чем не нуждаюсь, а вот письма можете писать. Сам же я часто отвечать не смогу, потому что у медсестры Анастасии очень много работы по госпиталю. Другим откровенно диктовать не могу, друзей у меня еще нет. Медсестра Анастасия меня очень хорошо понимает и от души сочувствует. Обо всех изменениях в моей госпитальной жизни я буду вам сообщать, особенно жду встречи с вами. На этом письмо кончаю и посылаю свой пламенный бойцовский привет. Как могу, обнимаю всех и крепко целую. До скорой нашей встречи. Ваш муж, отец и зять Андрей Петрухин».
4
Письмо от отца пришло в Давлетханово с опозданием, матери дома уже не было. Севка с бабкой читали письмо вслух, не зная, радоваться или горевать. Бабка надевала старые очки, вместо дужек оправы цепляла шнурок на затылке. Когда она несколько раз прочитала письмо, то сильно расстроилась и плакала подряд несколько дней. О дочери своей после ее отъезда бабка не вспоминала, как будто у Севки не было родной матери вообще. Бабка долго не решалась ответить отцу, садилась несколько раз за письмо, черкалась на бумаге, перечитывала и исправляла. Потом прятала бумаги под клеенку и какое-то время не брала письмо в руки, но вечером при свете керосиновой лампы снова принималась строчить.
Бабка грамотная, в гражданскую войну была писарем в красном отряде, воевала с белогвардейцами. Она не врет, у нее даже есть орден Боевого Красного Знамени, который хранится в том же сундуке. Бабка помнит много интересных событий, часто рассказывает о них и читает книги про революцию из библиотеки отца.
Когда отец перешел из депо на линейные паровозы, то много ездил в разные города Башкирии и в соседние области. Оттуда он обязательно привозил сладкие гостинцы и книжки в коленкоровых обложках. Севка часто просился с отцом в рейс, чтобы прокатиться на паровозе, но отец так ни разу и не взял его. Паровоз казался Севке живым чудовищем, у которого большая силища. Он важно катит по рельсам, выставив толстый нос. Толкает и крутит красными локтями колеса, и все-то ему нипочем. Выпустит пар, крикнет гудком и будто вот-вот заговорит низким и тяжелым человеческим голосом. Севке интересно считать вагоны, они проплывают сначала медленно, потом не успеваешь языком работать, проскакивают быстро, только просветы мелькают. Мать не ходила провожать отца в рейс. И ни о чем сына не спрашивала. С отцом тоже больше молчала. Они даже ни разу не поругались и ни разу на глазах не помиловались. Бабке это не нравилось, она ворчала на дочь, отчитывала ее, но та в ответ только улыбалась и оставалась безразличной ко всему и спокойной. Она работала в конторе мельзавода до самого своего отъезда и почему-то половину своей зарплаты откладывала на сберкнижку. Дом и семья для нее были как бы между прочим, она жила своими заботами. Бабка ею была постоянно недовольна. Но души не чаяла в отце, любила повстречать, обиходить и вела с ним разговоры о мировой политике. Как началась война, отец уехал на фронт на своем паровозе. Провожали его втроем. Бабка вытирала слезы, отец был молчалив и серьезен, давал какие-то наставления по всяким мелочам. Мать, не таясь от окружающих, ласково его обнимала, а он стеснялся на людях и смущенно отворачивался. Она будто расставалась с мужем навсегда. Севке же казалось, что провожают его просто в очередной рейс. Отец был высокого роста и выделялся на проводах среди всех. Лицо у него волевое, как у нарисованных героев из исторических книжек, руки сильные и жилистые. Он поднял последний раз Севку, расцеловал, опустил на землю, быстро поднялся в кабину и повел состав с добровольцами и новобранцами. Письма от него приходили с дороги, но потом что-то случилось, и больше никаких известий не поступало. Мать ходила в военкомат, бабка писала прошения и заявления. Наконец решилась и отослала длинное письмо от себя, от орденоносца, Ворошилову. Вскоре пришло письмо, которое сообщало, что отец пропал без вести. Но через некоторое время неожиданно пришла похоронка, в которой на машинке было отпечатано, что «Петрухин погиб смертью храбрых». Севка не верил ни единому слову похоронки. Убить могут слабого, а отец был очень сильным, и невозможно представить его мертвым. Бабка от расстройства и горя еще больше постарела и много дней ходила с красными глазами. Мать каждый вечер тихо плакала в подушку, скрывала свои слезы. В доме никто никого не утешал. На старом патефоне крутилась любимая Севкина пластинка, которую часто заводил отец перед отъездом.
Эшелон за эшелоном,
Эшелон за эшелоном…
Недалеко от Севкиного дома до войны был городок Осоавиахима. Теперь там разместилась воинская часть. Заново огородили территорию, у въезда поставили будку с часовым, и проходить туда можно только по пропускам, как на мельзавод. В военный городок навезли какие-то машины и поселили в четырех зданиях много молодых парней. Севка бегал смотреть через забор, как на небольшой площадке в любую погоду маршируют курсанты и занимаются физкультурой. В городе разошелся слух, что готовят здесь на краткосрочных курсах стрелков-радистов, хотя Севка ни разу не слышал ни выстрелов, ни радиопередач. Командиры квартировали по близлежащим домам, кого куда определили. В соседнем доме, у одиноких стариков, поселился молодой лейтенант. В военной форме он был очень стройный. Любо-завидно было смотреть, когда он отдает честь кому-то и ладонь у козырька, как струнка. Лейтенант был веселый и общительный, быстро познакомился с Севкой, приходил в гости.
Мать много работала и дома не бывала с раннего утра до позднего вечера. После работы почти ежедневно ходила еще на курсы медсестер. Лейтенант провожал ее до медучилища или встречал в сумерках. Мать относилась к нему приветливо, внимательно слушала его рассказы и анекдоты. Бабка, наоборот, была с ним замкнута и несловоохотлива. Как-то вечером пошел дождь, и Севке одному сидеть дома было скучно. Бабка ушла обменивать вещи на керосин, мать еще не вернулась с работы. Севка выскочил на улицу и захлопал ботинками по лужам. Лейтенант стоял на крыльце соседского дома под навесом и чистил до блеска свои хромовые сапоги. Увидев Севку, подозвал, осмотрел и вдруг засмеялся:
– Да у тебя же ботинки кушать хотят.
– Наплевать.
– Другая-то обувь какая есть?
– Нет.
На следующий день лейтенант принес и подарил новые солдатские ботинки, толстокожие и крепкие, с заклепками и подковами на подошве. Правда, ботинки были тяжелее обыкновенных. Севка примерил, оказались велики. Натянул две пары старых носков, намотал портянок, и ботинки притерлись, пришлись вроде бы как впору. Бабка растаяла от такой щедрости и вежливо благодарила лейтенанта, а мать будто не заметила обнову. Хороши ботинки, век не снимай и не износишь, ни сырости в них, ни холода. Лейтенант от денег наотрез отказался, хотя бабка особенно-то и не навязывала.
Шесть месяцев простояла воинская часть стрелков-радистов в городке Осоавиахима. Потом пошли разговоры, что вся часть снимается с места и отправляется то ли на фронт, то ли ближе к фронту. Вскоре на самом деле появились грузовики и началась перевозка закрытого брезентом оборудования на станцию и на старый, далекий от города аэродром. Мать неожиданно преобразилась, закручивала волосы, нагревая на плите металлическую ручку кухонного ножика. Каждый день подводила губы и слегка румянила щеки красной помадой. Бабка беспрерывно ворчала на мать, а та только отмалчивалаеь. По вечерам они вдвоем тайно шептались, чтобы Севка не расслышал их слов, но больше шипела бабка.
Городок Осоавиахима опустел как-то сразу. Не видно уже ни людей, ни машин, остались пока одни часовые. Лейтенант еще не уехал и однажды вечером пришел опять в гости. Вместе с бабкой и матерью они сидели на кухне. Растопила печь, пили чай и негромко разговаривали, произнося слова полушепотом. Севку мать отправила спать. Видно, лейтенант пришел попрощаться. От тепла в комнате разморило, Севка даже не заметил, как быстро заснул…
Утром в комнате было хмуро, за окнами темные низкие тучи закрыли солнечный свет. На улице пасмурно, слякотно и грязно. Разносился аппетитный запах, бабка ставила на стол пирожки с капустой. Мать стояла у раскрытого чемодана и укладывала вещи. Обе они молчали, ни одна не обронила ни слова. Бабка угостила одним пирожком Севку, остальные аккуратно уложила и завернула в чистую тряпочку, подала матери.
– Мать улетает на фронт, – говорит вдруг бабка.
– Как это улетает?
– Самолетом… – уклоняется бабка от ответа.
Вошел лейтенант в накинутой плащ-палатке, другую передал матери. Севке он вручил в подарок свою командирскую полевую сумку, о которой только мечтать можно. Сумка, конечно, уже не новая, но кожа крепкая и ремни прочные, четыре отделения с целлулоидом и два кармашка. Потом он прицепил Севке на отворот пиджака известный значок – «Ворошиловский стрелок». Мать обняла Севку, расцеловала и заплакала. Она смущенно, торопливо и сбивчиво что-то говорила, велела вслушаться бабку и хорошо учиться. Пообещала скоро вернуться и вытирала со щек слезы ладонью. Бабка стояла в сторонке, не по-доброму смотрела и молчала. С лейтенантом Севка попрощался за руку, как это делают взрослые люди. Мать накинула плащ-палатку, лейтенант взял ее чемодан, и они ушли в непогоду. Севка и бабка провожать не пошли. Стояли у окна и видели, как в пелене мороси скрылись два силуэта. С того дня бабка перестала говорить о дочери и делала вид, что вообще о ней не вспоминает. На стенке в одной рамке висело несколько фотографий родителей. Бабка рамку сняла, спрятала на дно сундука и объяснять Севке ничего не стала.
Мать прислала только одно короткое письмо, сообщала, что жива и здорова, передавала привет от лейтенанта. Бабка вздыхала, ворчала себе под нос, осуждая дочь. В городке Осоавиахима со всех постов сняли часовых, окна заколотили крест-накрест досками. Теперь там в подворотнях собирались какие-то оборванцы, уроды и бродяги. Появлялись они редко и ненадолго, потом куда-то исчезали. Когда их не было, Севка ходил туда, пробирался в дырку забора, бродил по городку или лежал в мягком окопе. Как-то раз вышел и увидел у ворот большого толстого мужика с маленькими, сверлящими, как буравчики, глазами. Тот стоял, прислонившись к забору, словно прятался. Он смотрел на Севку злым и подозрительным взглядом, от которого холодела спина.
– Ты кто такой? – негромко спросил он.
– Никто, дед пихто!
– Ну и отваливай поздорову отсюда! – захрипел он.
Севка молча прошел к воротам. Оглянулся и увидел, что тот не спускает с него глаз. Знать бы Севке наперед, где судьба споткнется, зарекся бы ходить сюда.
5
В колонии свой счет времени, свой ход. Каждое утро Севка торопил день, чтобы он скорее проскочил. По ночам во сне приходило странное освобождение, когда можно было беспрепятственно пройти сквозь заборы, ворота и колючую проволоку.
Однажды Королер намекнул:
– Не пора ли, Сивый, когти рвать?
– Не знаю… Не получится, сорвется.
– Сивый, – уговаривает шепотом Королер, подобрав ноги на нарах, – свобода, паскуда, без риска не дается. Схлыздил, и не видать тебе вольного ветра в чистом поле.
– Ну и что? Забаранят обратно, еще отсидки набросят.
– Чумной ты, Сивый, пора в дело идти, – продолжает таинственно Королер.
– Какое?
– Я место одно застукал, у забора проведал, никто на него глаз пока не положил, от нашего курятника скрыто и земля – пух. Копнем под ограду ямку и кротами на волю выползем.
На следующий день перед самым ужином Королер показал то место, между бараком и складом. Там валялись кучи металлолома. В мусоре склада нашли старую саперную лопату со сломанным черенком, заточили и спрятали рядом в бурьян. Сначала прорыли проход под колючей проволокой и закрыли его сухостоем полыни и дерном. Рыли два дня подряд после ужина, когда усталые обитатели колонии разбредались по баракам. Лопатой орудовал Севка, лежа на животе или полусидя. Земля была действительно мягкой, Севка руками ее отгребал в траву. Королер стоял на шухере и в случае опасности должен был три раза щелкнуть языком, а если все спокойно, то через длинную паузу щелкал по два раза. Труднее было под забором копать. Землю здесь словно специально утрамбовали, и лопата еле-еле ковыряла верхний слой. Чтоб обезопасить себя наверняка, решили рыть по ночам при тусклом свете электрических лампочек, протянувшихся по забору.
Летом парашу в бараке не ставили, и все бегали в уборную или за крыльцо. Утомительнее всего было дожидаться, когда все заснут. Севке самому спать хотелось и сдержаться не было сил. Но Королер начеку, незаметно для других обязательно разбудит. Он выходил первым, вставал в тени и ждал. После него прокрадывался Севка и ползком добирался до забора, брал лопату и осторожно, без шума, принимался за работу. Копал неделю, измозолил руки и, конечно, не высыпался. Только один раз Королер подал знак тревоги, когда мимо барака прошел кто-то из внутренней охраны. Сам Королер шмыгнул в барак, а Севка прижался к земле и замер. Лежал так, не шевелясь, долго, пока не услышал от Королера отбой. Работать дальше было опасно, и Севка возвратился в барак. Наконец дыра под забором была прорыта. Севка смог просунуть в нее голову. Там, за забором, на далеком отшибе в ночных разбросанных огнях жил и спал город Болебей. Невдалеке, на фоне чуть светлеющего неба, лохматились верхушками кусты и деревья. А совсем рядом бросалась в глаза паутина натянутой на столбики колючей проволоки. Под нее легче пролезть, прошмыгнуть, она не такая густая, как на территории, перед забором. Дыру Севка маскировал пучками сухой травы, чтоб днем не заметили.
– Ну, как там? – спрашивал Королер на нарах.
– Долго еще. Земля сучится, скверно поддается.
– А ты ввинтись, Сивый, выкладывайся!
– А я что делаю?
– Ты уж, Сивый, давай гони, а то охранники будто об овчарках запеклись. Нам тогда хана.
О собаках в колонии стали поговаривать после побега одного новенького паренька, мало кому известного, который перемахнул через служебную проходную с крыши главной конторы. Правда, его поймали, засадили надолго в карцер и срок набросили по новой статье.
– Ну, когда, Сивый? – не унимается Королер.
– Дней через пяток…
На третью ночь после этого разговора Севка в дыру протиснул плечи, пришлось, конечно, их очень сжать и подтянуть к шее. Севка подкопал еще немного, поднапрягся и вылез по другую сторону забора.
Еще с вечера у Севки было тревожное предчувствие, объяснить которое он не мог. Все эти дни так никто и не заметил их ночные отлучки. Уходили-то они из барака минут на двадцать, не больше, даже при ночной проверке вряд ли их могли хватиться. Для маскировки поверх белых подштанников надевали темные «тюряжные» шкеры и набрасывали на плечи куртки. Севка в руках выносил свои ботинки и у забора надевал, чтобы не поранить ступни. Сейчас, оказавшись по другую сторону забора, Севка испугался: а вдруг назад в эту дыру уже пролезть не сможет, застрянет на половине, ни туда ни сюда? До утра, до охранника? Королер постарше, покрупнее, он-то уж точно не пролезет, для него еще один разок ночью надо подкопать. Севка лежал на земле и слышал, как где-то там пощелкивал языком Королер. Обратно лезть не пускал страх, и не было ни сил, ни воли. Подвязав шнурки, царапая землю пальцами, прополз под колючей проволокой. На корточках перебежал дорогу и спрятался в кустах. Прислушался – тишина, никакой тревоги, лишь доносились королерские щелчки, словно где-то ломались под ветром сухие ветки. Со стороны города слышался слабый шум и шальной лай собак. В предутреннюю пору лампочки на заборе светят совсем тускло, словно устают за ночь. Севка бросился бежать очертя голову по направлению к далеким огонькам. Ветки цеплялись за одежду, хлестали по лицу и рукам, тяжелые ботинки с хрустом ломали опавшие судки. Кустарник был выше головы, за ним ничего не видно. Но вот он окончился, и впереди показался перелесок, а слева открылась железнодорожная станция. На востоке занялся в небе рассвет, будто небо от грязи очищалось. Севку охватила дрожь, руки и ноги непослушны, от прерывистого дыхания грудь разрывается. Сейчас бы передохнуть малость. Но надо бежать, вдруг погоня начнется. Королер, наверное, до сих пор стоит там, у барака, и пощелкивает. А может быть, подался фискалить? Севка оглянулся, никто за ним не гнался, никто сзади не бежал. Медленно и осторожно прошел по пустынной незнакомой улице, свернул в переулок и вышел прямо к станции. На тонких рельсах стояло несколько толстых паровозов, они шипели и гудели, перебивая друг друга. У самого вокзала вытянулся пассажирский поезд, который облепила толпа. Люди приклеились к вагонам, как мухи, ни приткнуться Севке, ни зацепиться. Под одним из вагонов длинный деревянный короб, похожий на ящик для запасных частей и инструментов. Дверка давно отвалилась, и в глубине мрак. Севка полез туда, но там уже кто-то лежал. Места на двоих вполне хватило.
– Куда, шкет, рвешь?
– В Уфу.
– Поедем до Куйбышева, шкет, – властно говорит очень знакомый голос. Это был Храп. Севка узнал его сразу, хотя рассмотреть в темноте не мог. В первое мгновение захотелось немедленно выскочить из этого ящика и припустить подальше отсюда. Но страх не давал пошевелиться, и Севка забился в другой угол. Опять злая судьба неожиданно свела с Храпом. Может быть, он колдун, дьявол и сам подстроил, чтобы Севка снова попал ему в лапы? Деваться некуда, бежать поздно. Пахло пылью и винным перегаром.
6
После отъезда матери деньги и продукты у бабки таяли. Началась распродажа вещей. Что еще осталось хранилось в сундуке, быстро спустили на рынке. Бабка особенно не горевала, но в доме стало пусто, хоть шаром покати. От матери в первое время приходили почтовые переводы. Проку от этих денег было мало, расходились они по пустякам. Тогда стали отваривать и продавать на станции картошку, но запасы ее в подполье быстро истощались. Письмо отцу бабка так и не написала и, видно, ждала какого-то счастливого случая или лучшего времени.
– Погоди, Севушка, погоди, вот-вот полегчает. Душа моя чувствует…
Но облегчения не было. Продали за две с половиной тысячи последний шевиотовый костюм матери, который хранили к ее возвращению. Пустили в ход и последние бабкины платья. Она разрезала их на две половинки и обметывала, верхняя сходила за кофту, а нижняя за юбку. Две вещи выходило, в два раза дороже по цене шли. И все равно порой выкупать хлеб по карточкам почти не на что было. Бабка стала искать приработок к своему ничтожному пособию. Она ходила на мельзавод, сметала пыль в мукомольном корпусе. Иногда приносила в узелочке этой пыли и пекла лепешки. Они были жесткими и колючими, жуешь, как солому, и не наешься. Бабка еще и дальше бы там работала, но от пыли захворала, закатывалась до тошноты кашлем и уже не могла ничего делать. На отоваренные карточки жили при всей бабкиной экономии только одну декаду месяца. С базара приносили что подешевле и побольше, чаще всего жмыха, капустных листьев, свекольной ботвы. Из ценностей в доме остались одни Севкины ботинки, за которые на рынке можно было бы хорошо взять и жить на это месяца два-три, но бабка о продаже их слышать не хотела.
– Ты что это, очумел, что ли? Ты ведь это тогда совсем натуральным босяком станешь! – недовольно говорила она.
Когда стало совсем плохо, бабка послала Севку на рынок продать хлебные карточки, чтоб на вырученные деньги выкупить отоваренные. Сама она пойти туда с карточками постеснялась, потому что орденоносец.
На рынке толкучка несусветная, чего только там не продают, чего только кто не покупает, диву даешься. Одни сидят, разложив по земле свой товар, другие бродят по всему рынку, третьи отираются в толпе. Охотников на хлебные карточки долго искать Севке не пришлось, покупатели сразу нашлись. Долго не торговался, хотя мог бы и набросить червонец-другой. Хлебные карточки, даже на иждивенцев, идут здесь нарасхват. Не успел Севка пересчитать деньги, как прямо перед лицом выросла мужская фигура. Один раз уже видел, этого мужика, это он прятался у забора Осоавиахима и цыкнул тогда на Севку.
– Привет, дед пихто! – хрипло сказал мужик и осклабился.
– Привет…
На вид еще не старый, но и не молодой. Лицо широкое, в мелких шрамах, веки немного заплывшие, глаза, как и в первый раз, сверлят человека насквозь и смотрят с подозрением.
– Отойдем на минутку, – сказал он.
– Зачем еще?
– Надо, дело есть. Да ты не бойся.
Они медленно пошли и оказались за каким-то каменным складом. Левая нога у мужика не сгибалась в колене и походила на бревно, он переставлял ее как костыль или ходулю. Ручищи огромные и жилистые, плечи толстые и массивные, сразу видно, что здоров как бык. Вот только хромой, а таких на войну не берут. Пока они шли по тропе, он походя цыкнул на какую-то грязную и рваную шантрапу, отматерил двух разодетых и размалеванных девчонок, подмигнул какому-то калеке. Видно, что они все его знакомые. За складом он сел на большой камень и без всякого подхода и вопросов предложил продать несколько продовольственных карточек, в том числе литерных, особо отовариваемых. Севка заколебался, но виду не показал, он испугался этого человека.
– Тебе, шкет, шмот отваливается. Положу тебе жалованье, в накладе не будешь. От каждого куска по сотне, от сотенной кладу по червонцу… Лады?
– Можно…
Севка согласился. Кто от деньжат откажется? Тот вытащил пачку, отсчитал из нее десять карточек и велел продать за тысячу рублей.
– В открытую не ходи, а когда продашь, весь кусок башлей передай вон тому слепому, – хрипло сказал он и показал на белобрысого парня, который сидел на завалинке темного амбара.
Пока Севка ходил по рынку и украдкой, чтобы не вызвать подозрений, торговал продовольственными карточками, за ним всюду плелся какой-то косоглазый и криворукий урод непонятного возраста – то ли пацан, то ли мужик. Продовольственные карточки раскупили мгновенно. Продажа и покупка проходили тайно, каждый боялся, чтобы не придрались, не забрали в милицию выяснять, откуда взялись эти литеры. Севка впервые в жизни держал в руках столько денег. Отсчитал себе сотню, остальные отнес слепому. Тот перебрал их, пересчитал на ощупь пальцами все до одной купюры, сунул за пазуху, остался доволен.
– Порядок, – сказал он и встал, постукивая сухим белым прутиком по земле. – Завтра приходи за товаром сюда же.
– Каким товаром?
– Тем же, литерным, дура стоеросовая… – И слепой выругался.
– Я не дура.
– Тогда стоеросовый дурак, – рассмеялся слепой.
– Мне мужик, что ли, тот принесет?
– Это не мужик, а Храп. Товар притырит другой. Видел, кто тебя сегодня колол? – говорит слепой.
– Этот шпион, что ли, косоглазый, который за мной путался?
– Да, Кривой.
Слепой был белый как лунь, словно волосы, ресницы и брови специально выкрашены в неестественный цвет. Глаза у него открытые и очень голубые. Севке казалось, что они все видят и даже зорче обыкновенных, хотя смотрят только куда-то вверх, на небо. Постукивая по земле палочкой, он пошел через ворота рынка к городскому саду. Дома Севка отдал все деньги бабке и сказал, что нашел выгодного покупателя на свои хлебные карточки. Бабка было засомневалась: уж не украл ли Севка где деньги, а то грех такой всю жизнь не смыть.







