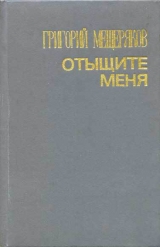
Текст книги "Отыщите меня"
Автор книги: Григорий Мещеряков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Уно медленно выпил. От вина поползло и разошлось по лицу тепло. Пощипывало щеки и кончик носа. Когда допили бутылку, Севмор стал куражиться и изображать из себя пьяного. Ему не поверили, потому что пили все поровну.
Но языки вдруг развязались у всех. Не дослушивая и перебивая друг друга, расхвастались и размечтались дальше некуда. Севмор уговорил Рудика отбить цыганочку, тот на доске отцокал чечетку, показал пару коленцев и сказал:
– Это я в Асе научился, у цыгана Василия…
– Где-где? – спросил Петро.
– Есть такой поселок на Каме, недалеко от города Молотова…
– Потешное, ей-богу, название, – смеется Юрка Сидоров.
– «Город на Каме, где – не знаем сами, город на Каме, на матушке-реке», – пропел Севмор.
Рудик засморкался и заплетающимся языком сказал:
– Скоро вернусь в Ленинград, обязательно, скоро, братцы…
– А я никуда не собираюсь! – ни с того ни с сего обозлился Петро Крайнов. – Если батька не найдется, жить можно и в Туранске. А надумаю, подамся в Свердловск в спецшколу, туда пацанов с охотой берут, особенно безотцовщину. Поступлю в артиллерийскую или авиационную, куда возьмут. Конечно, до конца войны отсюда не отпустят, ну а после никто не помешает.
– Дура ты, псих, – смеется Севмор, – как это ты махнешь после-то войны? Да после войны все военные спецшколы прикроют, хана им будет, зачем они нужны-то будут, воевать-то будет не с кем.
– Найдется с кем, – говорит Юрка Сидоров.
– Ты, Сидор, заткнись! – напустился на него Петро. – Ты войны понюхал? Ты фронт-то хоть видал? А еще болтаешь: найдется-найдется… Тебе что, охота?
– Да ничего мне неохота! – обиделся Юрка Сидоров.
– Ну ладно, братва, кончайте, – сказал Фаткул, – в такой день и настырничаете.
– В натуре, кореша, зачем нервы колоть? – успокаивал их Севмор. – Сегодня, в натуре, лафа, а вы блондаете. Главная хаза фюрера сыграла в крышку! За такое дельце вторую литровку раздавить бы не грех…
Слушая весь этот разговор, Павел Пашка раздраженно отворачивался. Для него сейчас праздник был наполовину, и вовсе не потому, что он не выпил вина. Берлин уже взяли, а Прагу все еще нет, и сводки о боях в Чехословакии передавали скупые, трудно было узнать, как там продвигается фронт.
Вино выпито, и уже хмель прошел, но расходиться никому не хотелось. Первым заторопился домой Фаткул. У него там хлопотные заботы о больной матери и младшем братишке. Фаткул попал в Туранск из Тюменского детприемника. В ремесленном и в цехе он был лучший стахановец, норму перевыполнял на триста, а то и пятьсот процентов. Год назад подал рапорт в политотдел, просил перевезти родных в Туранск из Оренбургской области. Заявление рассмотрели и разрешили съездить. Сделали исключение как стахановцу.
Поехал он вместе с Полиной Лазаревной по особому удостоверению заводского военсовета. Через полторы недели после маеты и разных дорожных передряг они привезли мать и брата Фаткула. Им троим выделили комнату в добротном, толстостенном здании бывшего заводского управления. Хлопот Фаткулу по дому хватало. Надо топить, таскать воду, ходить и прибираться за больной матерью, привести-отвести в детсад братика.
Вместе с Фаткулом пошел домой и Севмор, оба жили на одной улице. Севмор боялся за отца, мало ли что на радостях натворит:
– Вдруг, в натуре, напьется, разбухарится, и не расшибся бы…
Вскоре разошлись остальные.
4
Ребята крепко спят после вчерашней работы. Кто-то похрапывает, другой младенцем дышит, и, хоть из пушки стреляй, их не разбудить.
Вдруг в черном репродукторе послышался едва-едва уловимый шорох, потом громче знакомые позывные: «Широка страна моя родная…»
Все сразу проснулись, словно не спали, а притворялись. Подняли головы, привстали на постелях.
– От Советского Информбюро!
Голос Левитана, как никогда раньше, был сейчас раскатистым и торжественным. Все до одного вскочили, бросились к репродуктору. Вот они – самые долгожданные и счастливые слова:
– …подписали акт о капитуляции…
Недослушав, заорали разом в одну глотку:
– Ура-а!
Что тут начало твориться! От радости потеряли голову: бесновались, прыгали, плясали, переворачивали постели, хлопали, топали, обнимались.
– Ура! Конец! Ура-а!
И тут же куда-то заторопились, засуетились, засобирались.
Ничего не разобрать: шум, стук, топот, крики.
Уно со всеми выскочил из спальни и побежал по коридору, неизвестно зачем и к кому. Всюду сновали и мелькали люди. Полусонные, лохматые и счастливые, они не видят и не слышат сейчас друг друга.
Никто ни у кого ничего не спрашивает, у всех только одно:
– Ура! Конец войне! Ура-а!
Все бегут и торопятся неведомо куда. Уно побежал к красному уголку. Впереди быстро прошла Полина Лазаревна, на ходу поправляя кожанку. Уно забежал в красный уголок. Там на диване было наброшено байковое одеяло, к спинке прислонилась пестрая подушка, вышитая цветными нитками.
Уно схватил обеими руками древко знамени, прижал полотнище и выбежал во двор. Вокруг все двигались и кричали:
– Ура! Победа! Ура!
Уно высоко вскинул знамя. Толпа бросилась к нему со всех сторон. В окружении ее Уно выбежал в распахнутые заводские ворота, где впервые не увидел охранников.
До города дорога показалась очень короткой, будто Уно пролетел на крыльях. Счастливый народ высыпал на улицы. Не сговариваясь, толпы устремились на центральную площадь Туранска, что за парком декабристов. В центре площади уже стоял грузовик с открытыми опущенными бортами. Постелили ковер и обтянули бока красным полотном, приставили самодельную лесенку, и получилась настоящая трибуна, высокая и праздничная.
Уно с трудом продирался сквозь толпу. Увидев знамя, люди сами расступились и пропустили Уно. По ступенькам он поднялся в кузов. Встал у кабины, поднял и немного наклонил древко, красное знамя развернулось и заколыхалось.
Площадь взорвалась аплодисментами и криками «ура!». Люди смотрели и показывали на знамя, как на флаг Победы.
Сверху было видно море голов: С улиц и переулков стекались бесконечные потоки народа.
Люди плакали, смеялись, целовались кто с кем, как попало и кто подвернется.
Солнце запрятали бледные тучи. Моросил легкий весенний дождь. Сырые и темные одежды выглядели однообразно. Некоторые пожилые женщины пришли в красных косынках, многие в черных платках.
В этом одноцветии ярко выделялось над толпой большое красное знамя, которое держал Уно.
В кузов грузовика поднялись несколько человек, среди них одна комиссарша была знакомая. Она тоже в красной косынке, с поднятым воротником кожанки.
Ремесленники и фэзэушники толпились вблизи трибуны, Уно узнал их по одинаковым форменным фуражкам.
Народ на площадь прибывал, толпа уплотнялась. В разных местах появились флаги и транспаранты.
Худой мужчина на трибуне поднял руку, передние ряды смолкли, смотрели вверх и ждали. Площадь долго утихала и не могла успокоиться.
– Дорогие товарищи!
С трибуны говорили речи громко и хрипло, стараясь перекричать шум. Люди слушали, ловили каждое слово.
Ораторы на трибуне выступали недолго и горячо. Они сменяли друг друга, выходили на самый край к борту машины.
Слушающие задирали головы и вытягивали шеи. Уно видел лица радостные, печальные, суровые, состарившиеся, больные, усталые. Люди устали от всего пережитого, от ожидания победы.
– Дорогие товарищи! Дорогие соотечественники!..
На площади смешались речи, музыка, голоса.
Ораторам приходилось все труднее. В разных местах появились музыканты с гармошками, аккордеонами и пузатыми балалайками. Рядом с огромной елью расположился единственный в городе духовой оркестр ремесленников. Играл громко и фальшиво, люди плясали барыню и танцевали фокстрот.
Время подходило к полудню, но народ не расходился. Весь город собрался сейчас на этой небольшой площади. Со стороны станции в воздухе появились яркие вспышки салюта.
Мелкий дождь не переставал, Уно промок до нитки. К краю кузова вышла Полина Лазаревна. Она подняла над головой руку, рубанула резко воздух и запела. Сначала присоединились стоявшие неподалеку, потом подхватили другие, наконец запела вся площадь, и песня слилась в один могучий голос:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
Припев повторяли по нескольку раз и опять кричали «ура!». После митинга Уно спустился по лесенке с машины. Закрыли борта, и грузовик, тарахтя, уехал через толпу.
Народ медленно и неохотно расходился. Многие пошли на городское кладбище, вместе с ними Полина Лазаревна.
Площадь опустела, но праздник продолжался. Уно аккуратно свернул красное полотнище.
Гурьбой вернулась на механический почти под вечер.
У проходной их поджидал мастер Игнатий, почему-то свирепый, как зверь. Глаза выкатил, руки вытянул и грозил попеременно то одним, то другим указательным пальцем.
Мастер редко таким бывал раньше. Сегодня будто его праздник обошел. Он закричал, не остановить:
– Работнички явились? Шалопаи, шпана, дурдусы! Безответственные, распущенные шмакодявки, однако!
Дальше – больше, в таком же духе. Прямо-таки расстреливал бранными словами. Он доходил до визга и сорвать голос не боялся.
– Смена который час робит, вкалывает до поту, а их, нечестивых, следа нет! Пошто за вас другим мантулить? Или, может, из-за вас цех остановить, завод на прикол поставить? Сволочи!
– Пусть мантулят, если охота! – огрызнулся Петро.
– Останавливайте на здоровье, – сказал Рудик.
Мастер чуть не задохнулся, чуть язык не проглотил, рот раскрыл, а слов подходящих не нашел.
– Сегодня, мастер Игнатий, всем отгул! – хитро говорит Юрка Сидоров.
– Какой отгул? – не понимает мастер.
– Обыкновенный, за всю военную переработку, – говорит Юрка Сидоров.
– Да вы чего, однако, рехнулись ли как?
В волнении нацепил очки на самый кончик носа, поочередно поверх их заглядывал каждому в глаза.
И тут прорвалось, ребята принялись кричать на мастера. Он попятился, словно обороняясь:
– Вы мне бросьте арапа заливать! Я вам не мальчишка, не позволю, однако, плести турусы на колесах! Ну?
– Нет! – кричал Петро. – На смену в такой день не пойдем! Сегодня, может, самый великий праздник в мире, и ни под каким конвоем нас не заставишь!
– Ково это вы, черти, однако, проклятущие, удумали?
– А тово! – отвечает Рудик.
– Это чего же, однако, происходит? Забастовка, значит! – Мастер кричит до синевы на лице.
– Ну и что?! – в ответ кричит Петро.
– Выходит, забастовка, – смеется в сторонке Юрка Сидоров.
Мастер Игнатий вдруг бросился бежать куда-то без оглядки, шумно топая кирзовыми сапогами.
Смотрели ему вслед молча. Фаткул тихо сказал:
– Неладное затеяли, братцы, в самом деле на забастовку смахивает. По головке за это не погладят… Гад буду, незаконное откалываете…
– Все законно и понятно! – не успокаивается Петро. – Тебе одному непонятно!
– Не рви глотку, – говорит Фаткул. – Сам отлично знаешь, что у нас в стране не бывает забастовок.
– А вот сейчас будет! – говорит Рудик. – Потому что день самый необыкновенный, понял?
– Может, первый такой за всю нашу советскую историю! – говорит Юрка Сидоров.
Севмор и Павел молчат, в спор не вступают.
– Да ты разберись в сути-то! – кричит Петро на Фаткула. – Ну, выйдешь ты на смену и что?
– Ну, выйду и что?
– Что будешь делать-то? – не унимался Петро. – Снаряды клепать? Для кого и для чего? Теперь они никому не нужны! Фронта больше нет! Война-то кончилась! Понял, кон-чи-лась!
– Да я без тебя знаю, что кончилась! Ну и что из этого?
– А то, – убеждает Петро, – что войны отныне две тыщи лет не будет! Понял? Всю жизнь не будет! Это была самая последняя, понял?
– Нигде на земле! – добавил Рудик.
– …Никогда! – продолжает Петро. – Потому что каждый теперь знает, что это такое!
– Не зарекайся! – машет рукой Фаткул. – Кто это знает?
– Я знаю, он знает, все знают! – злится Петро. – Один ты, полный идиот, не знаешь да еще пыжишься? Нынче только сумасшедшие могут так подумать!
– Не больно, псих, заносись, а то и по роже схлопотать можешь!
– Не надо, Фаткул, – тихо говорит Павел, – нельзя в такой праздник… И вообще, плохо вам ругаться…
Павла послушались, страсти утихли.
– Так не пойдете на смену? – спрашивает Фаткул.
– Там делать нечего! – говорит Рудик. – Нужда в военных поставках уже тю-тю, а другой работы не дадут, ее такой нету…
– А если, в натуре, под охраной поведут? – вступает в разговор Севмор.
– Сам ты, Сивый, в натуре, ей-богу! – говорит Юрка Сидоров. – Все равно зазря бить баклуши в цехе будем.
– Ну вас к собакам, с вашей забастовкой! – говорит Фаткул. – У меня мать инвалидка труда и братан младший, мне их содержать и кормить надо. На вашей дурацкой забастовке ни фига не заработаешь, кроме фингалов и шишек!
Он быстро повернулся и пошел в цех.
– Валяй, штрейкбрехер! – вслед крикнул Рудик.
Севмор посмотрел на Рудика исподлобья, плюнул через зубы, скривился и сказал:
– Баланда ты, Цыган, дремучая! С вами спутайся, так в легавку махом угодишь!.. В натуре, я тоже похиляю, а вам статью припаяют! И законно будет, за сачки и прогулы! Припечатают тюрягу, ждите передачу за решеткой!
– Врешь, в натуре, кореш! Не выйдет! – зло смеется Петро. – Это в военное время судили, а сегодня его, времени-то этого военного, уже нет! Кончилось оно, корешок! Сегодня совсем-совсем другой и новый день, мирный! Понял, в натуре?
– Не ты ли его отменил, в натуре? – усмехнулся Севмор.
– Ну хотя бы даже и я!
– Тебе мало, что, в натуре, война кончилась? – говорит Рудик. – Собственными лопухами радио слушал, какое еще для тебя постановление нужно?
– Да пошел ты… – Севмор выругался. – Все равно указ должен висеть! Без декрета незаконно, в натуре! И прокляни мою маму, если колонка по вас не затоскует! А у меня охотка давно отпала, и душа, в натуре, не тянется…
– Плетешь ты всякую чепуху, Сивый. Вот те крест, что не засадят! – уверенно говорит Юрка Сидоров. – Судей, как и военное время, тоже отменят.
– Не суды отменят, а законы военного времени, – поправил Рудик.
– Послухаешь вас, и, в натуре, жевалку воротит! Вшивые академики с мозгами набекрень! Трепачи! Потопали, Словак, в натуре….
Павел согласился и пошел, не поднимая головы.
Никто их не удерживал. Павла укорять и останавливать не стали. Он жил на правах чужого человека, ему в неприятности ввязываться никак не надо бы.
Уно внимательно слушал весь этот разговор, но так и не смог отличить правого от неправого.
– Для Словака будто и победы нет сегодня, – вдруг негромко сказал Петро. – Война кончилась, а Чехословакия то ли наша, то ли еще нет…
Ему не ответили, никто уже не хотел продолжать разговор.
Дождь давно перестал, тучи сгрудились далеко на востоке, словно их столкнули, сдвинули в сторону и освободили небо.
Вечернее солнце во всей своей огненной красе и во всем небесном сиянии повисло над горизонтом, крупное, четкое, ослепительное.
Появилась комиссарша, незаметно подошла, молча присела на ящик и руку козырьком подняла к глазам.
– Полина Лазаревна, – робко сказал Петро, – у нас тут забастовка одна вышла…
Комиссарша смотрела вверх и, ни к кому не обращаясь, тихо сказала:
– Какая еще забастовка? Глупости…
В конце двора маячил мастер Игнатий.
Полина Лазаревна сидела и не говорила ни слова, а смотрела, как и все, на солнце.
После долгой паузы Юрка Сидоров сказал:
– Мне в детстве мамка говорила, что иногда восходит черное солнце и таким повисает над всем миром. Надо только сильно вглядеться, и тогда солнце по-настоящему становится черным. Все небо белое, золотое, прозрачное, одно солнце торчит на нем черной дырой, будто бы происходит затмение на самом солнце или, может быть, в человеческих глазах. Сколь я ни вглядывался, а оно у меня нисколечки не темное, даже серого пятнышка не вижу. Может, кто другой увидит, а может, было да прошло?..
Рудик негромко говорит:
– Это точно, что бывает черное солнце. Я об этом читал где-то, что черное солнце всегда видят, когда случается беда или войны…
Очень больно смотреть вверх на солнце.
Уно чувствует, как режет глаза, стучит в висках, разламывает затылок. И чем дольше смотреть, тем сильнее боль.
Нет никаких сил унять ее, а сама по себе она вряд ли пройдет.
В стороне, не двигаясь, стоял мастер Игнатий и тоже смотрел на небо, зажав в кулаке подбородок.
Незаметно появился Севмор, за ним Павел. Они сели рядом с Уно. Из-за угла цеха вышел Фаткул. Видно, кто-то по дороге вернул их, и они возвратились к друзьям.
Все до одного молчали, мыслей у каждого было намного больше, чем слов.
Первой заговорила комиссарша:
– Давайте так смотреть до заката? А потом все пойдем ко мне в красный уголок и не будем спать всю ночь… У вас есть что вспомнить, у нас есть что сказать друг другу…
Это лето уже будет без войны, а летом солнце встает еще раньше.
Послесловие
Мы последние дети последней войны.
Нас уже не слыхать, мы уже откричали.
Не жалейте, вы нам ничего не должны.
Да останутся с нами все наши печали.
В. Русаков
Они просидели всю ночь. И еще утро. Сколько их было, никто не запомнил. Много. Казалось, что в красном уголке набилось их тесным-тесно. Сидели на подоконниках, скамейках, полу. Но места хватило всем. Даже можно было пройти к кому-нибудь и потеснить, присев рядом. Пришли сюда под вечер. На улице похолодало, а расходиться никому не хотелось. Пошли, не сговариваясь, за комиссаршей. Не могли оставить ее одну. Она сюда, и они – тоже. Спальни в ту ночь пустовали или почти пустовали. Одни на этом сборе говорили много, другие – меньше. Слушали друг друга и всех разом. Иногда вдруг перебивали на полуфразах. Разве что мастер Игнатий не раскрывал рта. Сперва он заглянул в дверь, потом притулился в уголочке, да так и остался до конца схода. О чем думал фронтовик, разглядывая ребят, одному ему ведомо. Но, видно, все же в глубине души согласился, что в такой день – в этот первый день мира – каждому за свое простится. Потому не прогнал никого, не поторопил на «трудовую вахту» (его слова), на пересменку, будто она где-то совсем далеко даже от мастера Игнатия.
Ближе к утру народу, правда, поубавилось.
Одни от усталости потихонечку исчезли, одолеваемые дремой. Некоторые предпочли одиночество и словно попопрятались кто куда, в укромные местечки. Другие пристроились кружком к черной тарелке репродуктора и готовы слухом ловить без перерыва, до бесконечности самое что ни на есть важное известие: войны больше нет. Только свидетели и очевидцы времени способны понять это потрясение.
Оставшиеся вспоминали про минувшую войну и кто как запомнил ее первый день. Они словно перелистывали страницы пережитых лет – с подробностями или недоговорками, – у каждого хватало своего лиха. Потом стали загадывать, у кого как судьба сложится, кто кем станет и как вообще жить будет в новое время, которое наступило вчера, не уйдет завтра и продлится вечно. Неожиданно кто-то предложил, что надо бы всем встречаться регулярно и в назначенные сроки, а то можно запросто потеряться в житейском водовороте и позабыть друг о дружке. Мысль эта точно висела в воздухе, за нее разом ухватились. Оживились, пошли, посыпались советы: «Прямо через год!»… «Слишком часто! Не выйдет! Через три!»… «Через десять…»
Последнего не поддержали: «Долго ждать!»
Комиссарша, чтобы не сбивать азарт, в разговор не вступала. Лишь изредка подавала реплики да смотрела на них удивленным взглядом, словно видела перед собой совсем новых людей, будто вовсе их до этого не знала. Выбрав момент, сказала, что лучше всего – через пять лет. Одобрительно зашумели, дружно согласились.
Петро Крайнов перекричал всех и потребовал клятвенного обещания. Чтобы каждый дал слово и сдержал его, пока жив. И сам поклялся первым. После него говорил Фаткул. Ему проще других: он никуда не собирается уезжать, останется в Туранске. А встречи будут проходить именно здесь. Не колебался Уно Койт. Павел Пашка еще не знал, возвратится ли он в свою страну и пустят ли его тогда через границу. Севмор сказал кратко: «Буду, в натуре, если какой гаденыш не помешает». У Рудика Одунского не было никаких сомнений. С оговорками соглашался Юрка Сидоров, ссылаясь на «кудыкину Ижовку» и далекую глухомань. Но на него почему-то так зашикали, что пришлось ему давать обещание дважды. Так, по цепочке, и говорили. Почти все высказались, и ни один не отказался, хотя и были недомолвки. Последней дала слово комиссарша. От себя… и, после небольшой паузы, от своей дочери…
Но на первую встречу единственно кто не прибыл, так это она, Полина Лазаревна Доброволина. В мае 1950-го собрались в Туранске все, кто участвовал в том ночном бдении, кроме комиссарши. Злой рок не покидал ее.
Через год после окончания войны муж ее был переведен в политуправление Северо-Западного военного округа. Вскоре он приехал за ней в Туранск, а заодно увез в Ленинград и Рудика Одунского. Рудик не стал жить у них, хотя они этого очень хотели. Он разыскал свою квартиру, в которой по-прежнему жила тетя Клава, и переселился к ней. За подвиги на трудовом и боевом фронте по обороне Ленинграда тетя Клава имела несколько наград, была известна и уважаема в городе. Работала она профсоюзным руководителем большого завода и растила десятилетнюю блокадную сиротку Любу, которую сразу нарекла сестренкой Рудика. Втроем они занимали две большие комнаты. В одной когда-то жил Рудик с мамой. Довоенная обстановка в старых стенах не сохранилась. Тетя Клава заставила Рудика учиться. Хотела, чтоб стал таким же образованным, какими были его родители. Он устроился на завод тети Клавы и посещал вечернюю школу. Днем в ней училась Люба. Через три года Рудик экстерном сдал экзамены за десятилетку. Поступил по архивной специальности в Ленинградский университет, чем тетя Клава была очень довольна. На первых порах студенчества ему помогали Полина Лазаревна с мужем. Доставали нужные книги, добавляли к скудной стипендии столько же и даже больше, это часто приводило к конфликтам с тетей Клавой. Она искренне обижалась и корила Доброволиных «за подачки». Потом все-таки свыклась.
Но в 1949 году Полина Лазаревна уже сама нуждалась в помощи и сочувствии. По «ленинградскому делу» был привлечен, обвинен, лишен всех званий и наград ее муж. Его судили военным трибуналом, приговорили к высшей мере и в 1950 году расстреляли. Жену вроде бы не тронули, не репрессировали. Куда только она не обращалась, кому только не писала, но никто не мог помочь бедной отчаявшейся женщине. Работу в газете пришлось оставить, ее исключили из партии и запретили заниматься журналистикой. Потом выселили из квартиры. Рудик перевез ее к себе. Тетя Клава приняла беспомощную комиссаршу с полным участием. Втроем ухаживали за ней, как за тяжело больной. Поехать в Туранск на встречу Полина Лазаревна уже не могла. Но отстукала на своей печатной машинке большое письмо и передала Рудику, чтоб там его прочли. В этом письме она ссылалась на «временное недомогание» и ни словом не обмолвилась о тяготах и ударах судьбы. Она наставляла добрыми словами своих бывших воспитанников, предупреждала и отговаривала от опрометчивости, скучала о каждом и жалела, чуть ниже дописав: «…Если сегодня собрать воедино хотя бы только одни ваши биографии, то составится малая детская энциклопедия выстраданных судеб войны…»
Через несколько месяцев после возвращения Рудика из Туранска от горя, молчания и душевной надломленности она ослепла. Тетя Клава тихонько говорила Любе: «Это у нее от внутреннего излияния слез». Хотя до этой беды никто не видел ее плачущей. А теперь Рудик впервые в жизни увидел, как плачут слепые. Как из безжизненно открытых, неизвестно куда обращенных глаз выталкиваются капля за каплей и текут двумя струйками слезы. Смотреть на это невыносимо, горло перехватывает.
Целыми днями она сидела за своей старенькой машинкой и вслепую печатала какие-то статьи, обращения, письма, которые, увы, никуда не отправляла. Просила Рудика постранично складывать, скреплять и прятать в большой ящик комода, как говорила, «до судного дня».
На первой встрече в Туранске Рудик не посмел говорить о ней и дополнять письмо комиссарши (не надо навлекать кривотолков). Он рассказал откровенно обо всем лишь на третьей встрече, в 1960 году, после XX съезда партии. Культ личности Сталина был разоблачен, миру поведали о преступлениях. Сразу же после партийного съезда Полина Лазаревна послала подробный запрос в ЦК КПСС о своем муже. В конце 1959 года получила официальный ответ. В нем сообщалось, что с ее мужа сняты все обвинения 1939 года и он полностью реабилитирован. «Но разве он не был реабилитирован, – слышал Рудик, как она спрашивала вслух самою себя, – когда был на фронте?»
Про «ленинградское дело» почему-то ни словом не упомянули в ответе. Лишь в 1988 году восстановилась правда, и все ложные, тяжкие обвинения с Доброволина были сняты.
Но этому известию она уже не могла порадоваться: в начале 80-х годов потеряла слух, и теперь уже никто не мог сообщить, рассказать, успокоить ее в столь долгом ожидании справедливости…
На вторую встречу не приехал Севмор Петрухин…
Вскорости после дня Победы он с отцом уехал в Давлетханово, где поступил на абразивный завод инструментальщиком. Отца потянуло на железную дорогу. Не без уговоров, ссор и жалоб его все же приняли сменным дежурным на станционную водокачку. Он следил за напором холодной воды, включал подачу и из окошечка наблюдал за аккуратностью заправки паровозов. Во время остановки пассажирских поездов отпускал кипяток, наполняя из выходной трубы котелки, кастрюли, бидоны.
Сюда к нему частенько заглядывали потолковать о делах и бедах паровозной тяги обходчики, машинисты, кочегары, а то и просто «для согрева» выпить чекушку или пол-литру.
Он не отказывался, но уже вдрызг не напивался. От запоя его отвадила свекровь, мать бывшей жены, Севкина бабка. Поначалу стыдила его, уговаривала, а потом заладила отбирать костыль, чтоб не сбежал в магазин или не сновал по дому в поисках припрятанной бражки. Но он тогда приноровился, приспособился, согнувшись к полу, ходить по дому на одной руке и одной ноге.
– Не удержишь! – злорадно нападал он на старуху. – Видишь, я как птица двулапчатая!
– Какая же ты птица, коли летать не можешь?
– Обыкновенная, искалеченная, подраненная!
Однако от пьянства все же отошел и пить стал только по праздникам, а в будни – изредка когда с приятелями или «с устатку», да и то в меру. Севка в таких затеях никогда не участвовал. Неожиданно, после денежной реформы 1947 года, Севмора разыскала мать. Прислала письмо и перевод в новых деньгах. Расспрашивала, сообщала о себе. Жила она к тому времени в военном городке на Дальнем Востоке. С другой, новой своей семьей. Разговоров о ней в доме не вели и не заводили. Потом еще от нее приходили письма, переводы и почтовая посылка с крупой и копченой рыбой. На письма не отвечали, от переводов и посылки не отказались. Как-то из конверта выпала фотография мальчика лет четырех, с надписью:
«Брату Севушке – от братика Мити».
Бабка молча забрала фотокарточку и положила на дно сундука…
На заводе Севмору сообщили, что за хорошую работу его хотят повысить в должности. Отец был горд и доволен. Бабка недоверчиво ворчала на них:
– Рано тешитесь! С такими знаками отличия, как у него, с наколочками и рисуночками, в начальники не выдвигают!
Севмор отмахнулся:
– Все мое со мной, а не мое – пустое!
Повышения не произошло не по этой причине…
Чуть ли не каждый день бабка провожала отца и ходила встречать его с работы: мало ли чего с калекой в дороге случится? Иногда, когда бабка занеможет, ходил Севмор. В конце зимы 1952-го, проводив отца, он повстречался на станции с какими-то бродягами и ввязался в драку.
Его арестовали и доставили в участок железнодорожной милиции. Потом завели уголовное дело, судили. Дали пять лет тюрьмы за самосуд над каким-то горбатым главарем шайки. В 1953-м по «сталинской амнистии» Севмора освободили, выпустили. Он вернулся домой, на завод. Но через год его нашли на берегу Демы избитого и израненного. Еле-еле отходили в больнице и долго лечили. На все расспросы упрямо отвечал, что ничего не помнит и не знает. И пусть больше к нему не пристают…
Обо всем этом написал в Туранск мастеру Игнатию Севкин отец.
В конце 50-х годов Севмор закончил техникум, и его назначили начальником цеха абразивного завода. Позднее уже мало кто из старожилов помнил о передрягах его нелегкой судьбы. Лишь он один не мог забыть. Да шрам, рубец от резаной раны через все лицо – от лба до подбородка – остался у него из прошлого на всю последующую жизнь…
На третьей встрече в Туранске, весной 1960-го, уже не было Петра Крайнова. Вместо него приехал его отец. После войны, пока отец служил в Германии, Петр еще несколько лет жил и работал в Туранске. В 1948-м поступил в спецшколу, позже в военное училище, которое закончил с отличием. Отец его, к тому времени кадровый генерал, был переведён в один из отделов инспекторского управления Министерства обороны и выполнял некоторые поручения в Комитете ветеранов войны.
Сын изредка, когда удавалось, навещал отца в его московской квартире, где на внешний взгляд было все, кроме главного – семьи и семейного обихода.
В гостиной висели три большие фотографии отца с сыном, а над ними – два карандашных портрета мамы и сестры Петра. На письменном столе лежали карманные часы с металлической решеткой, которые уже никогда не заводились, и в них остановилось прошлое время.
Петро со своей саперной частью нередко участвовал то в разминировании, то в военных учениях.
Во время военных учений 1959 года старший лейтенант Петр Крайнов со своим подразделением вынужден был разминировать участок и обезопасить людей от неразорвавшегося снаряда. Он выносил снаряд в безопасное место. Неожиданно снаряд разорвался в руках Петра…
На похороны прилетел из Москвы отец. Крышка гроба была наглухо забита. Останки молодого офицера бережно похоронили рядом с одной из братских могил…
В том же году отец вместе с друзьями Петра сходил на туранское кладбище к Зине Доброволиной, о которой слышал раньше много нежных слов от сына. Рядом с ним были Фаткул, Рудик Одунский, Юра Сидоров и Уно Койт с женой и тремя сыновьями, похожими на светловолосых викингов. На могиле Клары Койт жена Уно несколько минут читала католическую молитву. Уно с семьей прилетел из Таллинна, где к этому времени работал лесничим. Он покинул Туранск в начале 50-х, Закончил в Эстонии сельскохозяйственную академию, пошел по стопам отца. Позже Крайнов-старший через Комитет ветеранов войны помог ему найти захоронения его отца и братьев. Уно с семьей посещал эти места ежегодно.
Генерал Крайнов помог найти в Карелии и могилу погибшего в финскую войну отца Юры Сидорова. И сын с матерью наконец-то съездили туда на поклон… Юрка Сидоров уже в мае 1945-го запросился из Туранска к матери. Ушли прочь страхи и колебания. Его отпустили. Встреча с матерью в Ижовке произошла без обид и скандалов. Были только слезы.







