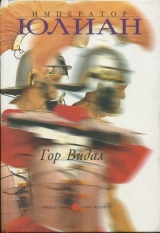
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
– Нет! – твердо прозвучал мой ответ.
– Август, и все же те, кто вредил тебе и твоему брату делом – словом и делом, должны предстать перед судом, – не унимался Арбецион, сверля Урсула тяжелым взглядом своих бесцветных глаз.
По залу пронесся беспокойный ропот, но Урсул стоял на своем. Этого полнеющего красавца нелегко было сбить. Он явно не страдал тугоумием, и язык у него был как бритва.
– Государь, мы с облегчением узнали, что суд покарает лишь тех, кто действительно перед тобою провинился.
– Не сомневайся, покарает, – опередил меня Арбецион, и это мне совсем не понравилось, – если будет на то воля императора.
– Такова наша воля, – произнес я традиционную латинскую фразу.
– Кого ты назначишь судьями, государь? И где состоится суд?
Тут мне следовало оборвать Арбециона, но долгое путешествие меня утомило, а горячая баня расслабила (ни в коем случае не принимайтесь за важные дела сразу после бани!). Я не ожидал, что кто-то начнет навязывать мне свой замысел, а именно этого, увы, добивался Арбецион. Между тем Урсул предложил:
– Со времен императора Адриана верховным судом в нашем государстве является Священная консистория. Пусть виновные предстанут перед судом тех, кто облечен ответственностью за судьбы империи.
– Но, комит, – с холодной учтивостью возразил Арбецион, – нынешнюю консисторию назначал не наш новый государь, а покойный император. Не сомневаюсь, Август захочет назначить судей по своему усмотрению, а со временем подберет по своему усмотрению и членов консистории. – Возразить на это было нечего. Я подал одному из секретарей знак, что хочу сделать важное сообщение.
– Председателем суда я назначаю Салютия Секунда. – Все вздохнули с облегчением. В свою бытность преторианским префектом Востока Салютий Секунд слыл человеком справедливым. Остальными членами судебной коллегии я назначил Мамертина, Агилона, Невитту, Иовина и Арбециона, так что по существу это был военный трибунал. Местом заседаний я избрал Халкедон – город вблизи от Константинополя, на другом берегу Босфора. Так начались судебные процессы над изменниками, о которых я – с печалью в сердце – расскажу ниже.
* * *
11 декабря 361 года я, как подобает римскому императору, торжественно въезжал в Константинополь. С низкого неба цвета потускневшего серебра падали, медленно кружась, пушистые хлопья снега. Погода стояла безветренная, так что мороза почти не чувствовалось. В тот день природа поскупилась на краски, но не люди! Все сияло, сверкало и переливалось.
На берегу Мраморного моря у Золотых ворот замерли по стойке смирно доместики в полной парадной форме, а на обеих кирпичных башнях по бокам ворот реяли знамена с драконами. Позеленевшие бронзовые створки были плотно закрыты. По обычаю, я спешился в нескольких шагах от ворот, и командир доместиков подал мне серебряный молоток. Я трижды постучал им в ворота, и на стук отозвался голос городского префекта:
– Кто идет?
– Юлиан Август, – громко ответил я. – Гражданин этого города.
– Войди, Юлиан Август. – Бронзовые створки бесшумно распахнулись, и я увидел за ними во внутреннем дворе префекта Константинополя и сенаторов – всего там было около двух тысяч человек. Здесь же стояли члены Священной консистории, успевшие опередить меня и прибыть в столицу накануне вечером. В полном одиночестве я прошел через ворота и вступил во владение городом Константина.
Под звуки труб меня приветствовали горожане. От ярких одежд у меня рябило в глазах; не знаю, может, это белый фон усиливал контрасты, создавая впечатление буйства всех оттенков красного и зеленого, желтого и синего цветов. Возможно, впрочем, я просто слишком долго жил в северных странах, где все краски приглушены, как будто на мир падает тень дремучих лесов, под сенью которых живут люди. Но здесь был не мрачный север. Мы были в Константинополе, и хотя считается, что это новый Рим, который должен унаследовать от старого все древние республиканские добродетели, в том числе аскетизм и суровость, на самом деле мы не имеем с римлянами ничего общего. Мы – Азия. Когда меня подсаживали в золотую колесницу Константина, я с улыбкой вспоминал постоянные жалобы Евферия: "Какой же ты азиат!" Что поделаешь, да, я азиат и я наконец вернулся к себе домой.
Я медленно продвигался по Средней улице. Падая на непокрытую голову, большие хлопья снега образовали целую шапку, снежинки застревали в бороде. Я глядел по сторонам и с трудом узнавал родной город. За прошедшие несколько лет он невероятно изменился, а самое главное – перерос городскую стену, выстроенную еще Константином. Там, где раньше расстилались поля, теперь теснились улочки предместий. Чтобы защитить их, мне в один прекрасный день придется потратиться на новую городскую стену. Между прочим, эти предместья в отличие от города построены не по единому тщательно продуманному плану, а как бог на душу положит, поскольку подрядчики заботились только о быстрой наживе.
Колоннады, идущие вдоль всей Средней улицы, были заполнены до отказа людьми, которые приветствовали меня восторженными кликами. Что было тому причиной? Любовь ко мне? Отнюдь. Просто я был для них чем-то новым. Как бы ни был хорош правитель, он в конце концов приедается народу.
Констанций им наскучил, им хотелось перемен, и от меня их можно было ожидать.
Неожиданно за спиной что-то громыхнуло. Мне даже показалось, что это раскат грома – знак благоволения самого Зевса, но я быстро сообразил: это мои солдаты грянули старинную походную песню времен Юлия Цезаря "Ессе Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias!" l, В этой песне воплотился дух войны, а что может быть прекраснее на земле?
Городской префект, шедший рядом с колесницей, пытался обратить мое внимание на новые здания, но из-за шума толпы его слов не было слышно. Впрочем, я и без того радовался такому размаху строительства. Полная противоположность старым городам вроде Афин и Милана, где новая постройка – редкость. В Афинах, например, если старый дом рушится, жильцы просто перебираются в другой – в городе множество пустующих зданий. Другое дело Константинополь, здесь все новенькое, как с иголочки, включая и население, которое (я все-таки разобрал слова префекта, когда мы въезжали на форум Константина) вместе с рабами и чужестранцами насчитывает около миллиона человек.
1 Вот идет с триумфом Цезарь, покоривший Галлию!(лат.)
Огромная статуя Константина, возвышающаяся в центре овального Форума, всегда повергала меня в смятение. Мне никогда к ней не привыкнуть. На высокий пьедестал из порфира мой дядя Константин водрузил статую Аполлона – думаю, он похитил ее с Делоса. Обезглавив этот шедевр, Константин на место головы Аполлона водрузил свое изображение, во всех отношениях сильно ей уступающее. К тому же голову и шею так скверно совместили, что на стыке между ними видна черная полоса, так что в народе этот памятник прозвали «Старик с немытой шеей». В голову воткнули семь бронзовых лучей, что долженствует изображать сияние – чудовищное святотатство не только в отношении истинных богов, но и Назарея. Константин хотел предстать перед потомками не только как галилеянин, но и как воплощение Гелиоса; его честолюбие не знало границ. Я слышал, что он был просто помешан на этой статуе и не упускал случая лишний раз на нее полюбоваться. Говорят, он претендовал не только на голову, но и на туловище Аполлона.
Оставив Форум позади, мы ступили на ту часть Средней улицы, которая называется "Дорогой Императоров" и ведет на Августеум. Эта большая площадь, со всех сторон окруженная портиками, была центром города, когда он еще назывался Византием. В середине Августеума Константин воздвиг огромный памятник своей матери Елене. Она изображена сидящей, и лицо у нее очень свирепое. В одной руке она держит кусок дерева – якобы часть креста, на котором был распят Назарей. Моя двоюродная бабка отличалась безграничным легковерием и страстью к коллекционированию всякой дребедени. В городе нет ни одного храма, которому бы она не пожертвовала щепочку, тряпочку или косточку, так или иначе связанную с этим несчастным раввином и его семьей.
Оглядев площадь, я с изумлением увидел, что всю ее северную часть занимает колоссальная базилика вновь построенного храма; с нее даже не успели убрать леса. Лицо префекта расплылось в улыбке, и, полагая, что это доставит мне большое удовольствие, он радостно сообщил:
– Август не забыл выстроенную Константином Великим маленькую церковь божественной Мудрости, стоявшую ранее на этом месте? По приказу императора Констанция ее значительно расширили. Он освятил этот храм только прошлым летом.
Я промолчал, но про себя поклялся превратить эту Святую Софию в храм Афины. Для меня невыносима сама мысль о том, что прямо напротив моего дома будет находиться галилейский храм, а главный вход Священного дворца расположен как раз напротив, на южной стороне Августеума.
Восточную сторону площади занимает здание сената, к которому как раз в эту минуту со всех сторон стекались сенаторы. Кворум, достаточный для начала заседания, составляет пятьдесят человек, но сегодня явились все две тысячи сенаторов. Отталкивая друг друга, они поспешно карабкались вверх по скользким ступеням.
Вся площадь заполнилась народом, и никто не знал, что делать дальше. Префект города привык в таких случаях получать указания от дворцовых служителей – в чем, в чем, а в устройстве пышных церемоний они поднаторели. Но теперь эти господа разбежались, и никто, включая меня, не знал, что надлежит предпринять дальше. Боюсь, мы с префектом оказались не на высоте.
Колесница остановилась в центре площади – у Милиона, обелиска под навесом, от которого отсчитываются в империи все расстояния. Даже в этом мы подражаем Риму, и не только в этом – буквально во всем, вплоть до семи холмов, на которых лежит Константинополь!
– Сенат ждет тебя, государь, – произнес префект, явно нервничая.
– Ждет? Вон еще сколько сенаторов даже не вошли в здание!
– Не желает ли Август принять их во дворце?
Я покачал головой, а себе дал зарок: никогда не въезжать в город без приготовлений. Никто толком не знал, куда идти и что дальше делать. Я заметил, как несколько моих офицеров переругиваются с доместиками, которые их не знают, а потому задерживают, а рядом почтенные сенаторы преклонных лет скользят и падают в грязь. Эта сумятица была дурным предзнаменованием. Я начал с того, что показал себя худшим организатором, нежели Констанций.
Наконец я взял себя в руки и решительно проговорил:
– Префект, пока сенаторы еще не собрались, я хочу совершить жертвоприношение.
– Разумеется! – Префект указал на Святую Софию. – Епископ, наверное, в соборе, а если нет, я за ним пошлю.
– Я имею в виду жертвоприношение истинным богам, – объяснил я.
– Но… где же? – У бедняги префекта были все основания смутиться. В конце концов, Константинополь – новый город, освящен именем Иисуса, и в нем нет храмов, лишь на акрополе старого Византия сохранились три маленьких святилища, посвященные Аполлону, Артемиде и Афродите. Что ж, раз нет других, можно и там! Я подал знак тем из своих приближенных, кто сумел пробраться через оцепление доместиков, и наша маленькая процессия двинулась на холм, к полуразрушенным, заброшенным храмам.
В сыром, загаженном храме Аполлона я принес благодарственную жертву Гелиосу и всем богам, – горожан, толпившихся вокруг, это очень позабавило; они сочли это за первое проявление эксцентричности императора. Принося жертву Аполлону, я поклялся, что отстрою его храм.
Либаний:Несколько недель тому назад император Феодосий отдал этот храм своему преторианскому префекту под каретный сарай!
Юлиан Август,
Затем я послал новоназначенного консула Мамертина известить сенат, что прах моего предшественника в ближайшее время будет доставлен в Константинополь для погребения, а посему, уважая память усопшего, я откладываю тронную речь до первого января. Пригибаясь под ударами шквального ветра, бросавшего мне в лицо колючий снег, я вошел через Халкские ворота дворца в вестибюль под бронзовой крышей. Над воротами красовалась свежая роспись, запечатлевшая Константина с тремя сыновьями. У их ног пронзенный копьем дракон проваливается в преисподнюю – это аллегорическое изображение поверженных истинных богов. Над головой императора нарисован крест. Ну ничего, немножко белил – и следа от него не останется!
Доместики, выстроившиеся по обеим сторонам ворот, молодцевато отдали мне честь. Приказав их командиру обеспечить военных из моей свиты помещением и провиантом, я пересек внутренний двор и вошел в главное здание дворца. В жарко натопленном и ярко освещенном зале (казалось, я попал из зимы в лето) меня ожидал Евсевий со своими подчиненными – евнухами, писцами, рабами, осведомителями – всего не менее двух сотен людей и полулюдей. В жизни не видал таких богатых одеяний и не вдыхал таких дорогих благовоний.
Стоя в дверях, я отряхивался подобно собаке, вылезшей из воды, а все присутствующие опустились передо мною на колени с необычайной грацией. Евсевий смиренно поцеловал край моей хламиды. Я бросил долгий взгляд на эту огромную тушу, похожую на гиппопотама или носорога, которых привозят к нам из Египта для участия в боях гладиаторов. Он весь сверкал драгоценностями и источал аромат лилий. Таков был убийца моего брата, которому лишь счастливый случай помешал разделаться и со мной.
– Встань, хранитель, – отрывисто произнес я и знаком велел остальным сделать то же самое. Не без труда Евсевий поднялся на ноги. Он робко глядел на меня, его глаза молили о пощаде. Хранитель священной опочивальни был вне себя от ужаса, но многолетняя выучка царедворца и непревзойденное искусство интригана не подвели: ни голос, ни облик не выдавали его смятения.
– Государь, – прошептал он, – все готово. Спальни, кухни, залы совета, хламиды, драгоценности…
– Благодарю, хранитель.
– Завтра Повелителю Мира будет представлена полная опись дворцового имущества.
– Хорошо, а теперь…
– Что бы ни пожелал наш государь, ему достаточно лишь повелеть. – Голос, доверительно шептавший мне на ухо, казалось, был неподдельно сердечным. Я отстранился и сказал:
– Покажи мне мои покои.
Евсевий хлопнул в ладоши, и зал опустел. Вместе с евнухом я поднялся по белой мраморной лестнице на второй этаж. За решетчатыми окнами расстилался великолепный парк, спускавшийся террасами к Мраморному морю. Справа был виден большой особняк, где живет персидский царь Хормизда, перебежавший к нам в 323 году, и группа небольших строений, скорее павильонов. Все вместе они называются дворцом Дафны; здесь совершаются аудиенции императора.
Как странно чувствовал я себя в покоях Констанция! Особенно тронул меня вид инкрустированной серебром кровати, на которой спал мой двоюродный брат. На этом ложе его, несомненно, посещали тревожные сны обо мне. Теперь его не стало, и опочивальня перешла ко мне. Интересно, кто будет спать здесь после меня? Мои размышления прервало нервное покашливание Евсевия. Еще погруженный в свои мысли, я тупо оглядел его и наконец приказал:
– Пришли ко мне Оривасия!
– Это все, государь?
– Все, хранитель.
Не дрогнув ни единым мускулом на лице, Евсевий повернулся и вышел. В тот же вечер его арестовали как изменника и перевезли на суд в Халкедон.
Вместе с Оривасием мы обошли весь дворец, нагнав немало страху на служителей: они не привыкли к тому, чтобы император отклонялся от строго предписанного ему этикетом маршрута. Мне особенно хотелось осмотреть дворец Дафны, и мы в сопровождении всего лишь десятка охранников стали стучать в дверь малого тронного зала. Испуганный евнух открыл нам и провел в зал, где много лет назад я встретился с Константином. Тогда здесь присутствовала вся наша семья, а теперь в живых остался я один. Зал оказался в точности таким великолепным, каким я его запомнил, включая, увы, и усыпанный драгоценными каменьями крест во весь потолок. Мне хотелось бы его убрать, но в моем окружении есть ревнители старины, которые считают, что коль скоро мой дядя украсил свой тронный зал крестом, значит, так тому и быть, независимо от того, какова государственная религия. Кто знает, может быть, они и правы?
Старый евнух, который провел нас в зал, сказал, что припоминает тот день, когда меня представили дяде:
– Ты был чудесным ребенком, государь, и мы уже тогда знали, что когда-нибудь ты будешь нашим повелителем. – А как же иначе!
Затем мы осмотрели сводчатый пиршественный зал. В конце его на возвышении стоят три обеденных ложа для императорской фамилии. Пол в этом зале особенно красив. Он выложен разноцветным мрамором, привезенным со всех концов империи. Мы, как деревенские простаки, глазели на это чудо, когда в зал вошел гофмаршал в сопровождении высокого худощавого офицера. Пожурив меня за то, что я удрал, гофмаршал представил мне офицера – он служил в коннице, звали его Иовиан. "Только что он доставил в столицу священные останки императора Констанция, государь".
Иовиан отдал мне честь. В этом походе он меня сопровождает. Что о нем можно сказать? Добродушен, но звезд с неба не хватает. Поблагодарив его за труды, я временно причислил его к доместикам, а затем состоялось заседание Священной консистории. Среди прочих вопросов мы наметили порядок проведения похорон Констанция. Это была последняя церемония, которую поручили подготовить евнухам, и рад сообщить – она прошла без сучка без задоринки. Покойник любил евнухов, они платили ему взаимностью. Вполне естественно, что их последним делом при дворе стало погребение своего патрона.
* * *
Отпевание Констанция было назначено в храме, который галилеяне именуют церковью Святых Апостолов. Стоит он на четвертом из семи холмов Константинополя. К базилике этого склепа Константин пристроил круглый мавзолей, очень похожий на мавзолей Октавиана Августа в Риме. Здесь покоятся его останки, а также останки трех его сыновей. Да будет земля им пухом.
Как ни странно, похороны моего извечного врага растрогали меня до глубины души. Прежде всего, поскольку я дал обет безбрачия, на Констанцие наш род угасал. Однако это не совсем так: его вдова Фаустина была беременна. Во время похорон я видел ее издали, она стояла среди плакальщиц, закутанная в плотное покрывало. Через несколько дней я согласился дать ей аудиенцию.
Я принял Фаустину в гардеробной Констанция, которую превратил в свой кабинет. По всем стенам этой комнаты устроены шкафы для множества принадлежавших покойному туник и хламид, а я приспособил эти шкафы для хранения книг.
Когда Фаустина вошла, я приветствовал ее стоя. Как-никак мы родственники. Она преклонила предо мною колени, но я поднял ее и предложил стул. Мы сели.
Фаустина – сирийка, женщина живого и веселого нрава. Нос у нее с горбинкой, волосы иссиня-черные, а глаза серые; по-видимому, в ее жилах течет готская или фессалийская кровь. Она была явно испугана, хотя я делал все от меня зависящее, чтобы ее успокоить.
– Надеюсь, ты не в обиде, что я принимаю тебя здесь? – Я указал на еще не убранные манекены, стоявшие вдоль стены, – молчаливое напоминание о ее муже, по мерке которого они были сделаны.
– Как будет угодно государю, – ответила она официальной фразой и улыбнулась. – Кроме того, я еще ни разу не была в Священном дворце.
– Ах да, ты же вышла замуж в Антиохии.
– Да, государь.
– Прими мои соболезнования.
– Такова была Господня воля.
– Я согласился, что так оно и есть, и спросил:
– Где ты собираешься жить, принцепсина? – так я решил ее называть. Об "Августе" не могло быть и речи.
– С позволения государя, в Антиохии. С семьей. Тихо. В уединении. – Она роняла слова одно за другим. Казалось, к моим ногам падают тяжелые монеты.
– Можешь жить где пожелаешь, принцепсина. В конце концов, ты последняя моя родственница и… – я как можно тактичнее указал на ее живот, выпиравший из-под траурной хламиды, – носишь в чреве последнего отпрыска нашего рода. Это огромная ответственность. Не будь тебя, династия Флавиев угасла бы.
На мгновение в ее серых глазах промелькнули страх и подозрение. Покраснев, она потупилась.
– Надеюсь, государь, Бог наградит тебя многочисленным потомством.
– Нет, – безапелляционно ответил я. – Наш род продолжит только твой сын… или дочь.
– Государь, умирая, мой муж сказал, что ты будешь справедлив и милосерден.
– Мы понимали друг друга, – сказал я, но в интересах истины добавил: – До определенного предела.
– Я могу быть свободна?
– Абсолютно свободна. Последняя воля Констанция для меня священна. – Я встал. – Сообщи мне, когда у тебя родится ребенок. – Она приложилась к пурпуру, и мы расстались.
Я получаю из Антиохии регулярные донесения о Фаустине. Она слывет гордой и неуживчивой, но в заговорах не участвует, хотя и недолюбливает меня за то, что я лишил ее почетного титула Августы. Между прочим, родила она девочку, и должен сказать, что от этой вести у меня гора с плеч свалилась. Зовут ее Флавия Максима Фаустина. Интересно, как сложится ее судьба?
Либаний:С Флавией – мы ее называем Констанцией Постумией – меня связывает самая тесная дружба. Она женщина редкого обаяния, вся в мать. Сейчас она, как известно, замужем за императором Грацианом и живет в Трире; таким образом, ей удалось то, что не успела ее мать, – она стала правящей Августой. Фаустина очень гордится своей дочерью, хотя месяц назад, при нашей последней встрече, она была очень расстроена тем, что императрица не пригласила ее в Галлию. Очевидно, заботливое чадо решило, что матери такая дальняя поездка уже не по силам. «Что делать? – утешал я тогда Фаустину. – Дети всегда стремятся жить своей жизнью, и с этим надо мириться». Я даже дал ей почитать единственный экземпляр моего трактата «Сыновний долг». Кстати, она мне его ведь так и не вернула!
Что касается императора Грациана, то это всеобщий любимец, хотя (увы, увы!) ярый христианин. Став императором, он впервые в истории отказался от титула великого понтифика – крайне дурной знак. Между прочим, когда в прошлом году Грациан избрал Феодосия Августом Восточной Римской империи, он одновременно пожаловал своей теще Фаустине почетный титул Августы. Мы все были за нее чрезвычайно рады.
Юлиан Август
После ухода Фаустины я послал за цирюльником: последний раз я стригся еще в Галлии и совсем зарос – не философ, а Пан какой-то! Ожидая цирюльника, я погрузился в изучение дворцового штата, как вдруг в кабинет вошел некто похожий на персидского посла. Его перстни, золотые пряжки, завитые кудри внушали такое почтение, что я невольно привстал, но то был всего лишь мой брадобрей. Узнав это, я только и сумел промямлить: "Я хотел видеть цирюльника, а не сборщика податей", но он нисколько не смутился: подумаешь, государь шутить изволит! За работой цирюльник говорил без умолку. Оказалось, он получает от казны ежегодное жалованье. Еще ему каждый день положены двадцать караваев хлеба, а также корм для двадцати голов вьючного скота. При этом выяснилось, что ему всего этого еще мало и он считает, что ему недоплачивают. Подравнивая мне бороду, он в изысканных выражениях сетовал, что я хочу подстричь ее клинышком – так мне не к лицу. До его ухода я помалкивал, а затем продиктовал меморандум о сокращении штата брадобреев, поваров и прочей дворцовой челяди.
За этим приятным занятием меня застал вошедший Оривасий. Он с улыбкой слушал, как я, размахивая руками, мечу громы и молнии, все более распаляясь при мысли о том, какой двор достался мне в наследство от предшественников. Дождавшись, пока я выдохнусь, Оривасий стал докладывать, что он увидел в обследованных им помещениях гвардейцев-доместиков. Оказывается, солдаты спали не более не менее как на перинах! Кормили их исключительно деликатесами, а их кубки были много тяжелее мечей. К тому же некоторые из доместиков приторговывали драгоценностями, либо ворованными, либо собранными в качестве дани с богатых купцов, которых они постоянно держат в страхе. В довершение ко всему эти доблестные воины организовали хор и подряжались развлекать пирующих любовными песнями!
Признаюсь, под конец я уже не мог больше терпеть и просто рычал. Оривасий обожает доводить меня до белого каления. Он хладнокровно перечисляет одну за другой подробности и следит, как у меня на лбу вздуваются жилы, а когда я готов от гнева крушить все вокруг, он хватает меня за руку и советует поберечься, не то меня вот-вот хватит удар. Что ж, так оно когда-нибудь и будет.
Я хотел немедленно разогнать гвардию доместиков, но Оривасий посоветовал лучше делать это постепенно, тем более что во дворце творится кое-что похуже.
– Похуже? – Я возвел очи к Гелиосу. – Я понимаю, солдаты – это далеко не философы, все они воруют, что поделаешь? Но перины, любовные песни…
– Дело не в солдатах, а в евнухах. – И он замолчал, кивнув в сторону секретарей. Хотя они и присягали хранить государственную тайну, чем меньше кругом ушей, тем лучше.
– Потом, – прошептал Оривасий.
Вдруг снизу послышался страшный шум, и в кабинет ворвался запыхавшийся гофмаршал:
– Государь, депутация из Египта смиренно молит преклонить слух…
Тут внизу так загрохотало, будто во дворец ворвались бунтовщики.
– И часто у вас такое происходит?
– Государь, просто египтяне…
– Народ шумный?
– Да, государь.
– И преторианскому префекту с ними не сладить?
– Именно так, государь. Он сказал, что ты не сможешь их принять, и… – Снова послышались визгливые вопли и грохот бьющейся посуды.
– Египтяне всегда так себя ведут, гофмаршал?
– Частенько, государь.
Слова гофмаршала меня позабавили, и я спустился вслед за ним на первый этаж, в зал для приемов преторианского префекта. Когда я уже был готов переступить порог, невесть откуда появилось не менее дюжины слуг. Один поправил мне прическу, другой – бороду, третий расправил складки плаща, а еще кто-то водрузил на голову диадему. Затем гофмаршал и окружавшая меня немалая свита отворили дверь, и я, чувствуя, что становлюсь похожим на Констанция, вошел в приемную.
Следует заметить, что вообще среди моих подданных египтяне действительно самые докучливые… да и в частности тоже. Они заслуженно пользуются дурной репутацией. Особенно они любят сутяжничать. Иногда семья, только чтобы всем досадить, готова судиться хоть сто лет. Депутация, которая явилась сейчас ко мне на прием, сначала прибыла к Констанцию в Антиохию. Там они его не застали и бросились за ним в Мобсукрену, но тут его избавила от них милосердная смерть. Услышав, что в Константинополь скоро прибудет новый император, они, не теряя ни минуты, направились ко мне. На что же они жаловались? Тысяча претензий к нашему наместнику в Египте.
Как только я вошел, меня со всех сторон окружили люди всех цветов кожи – от белых греков до черных нумидийцев – и что-то разом залопотали, нисколько не смущаясь моим величием. Я взглянул в сторону преторианского префекта. Он, к счастью, повернул большой палец вниз, но меня происходящее уже начало забавлять.
Я не без труда заставил их умолкнуть и возопил: – Справедливость будет восстановлена в отношении каждого из вас! – В ответ раздались как радостные вопли, так и горестные стенания. По-видимому, некоторые посланники почуяли недоброе. Что-то уж слишком легко все получалось. – Но, – продолжал я безапелляционным тоном, – я не могу возместить ваши убытки здесь. Казна находится на другом берегу Босфора, в Халкедоне, и финансовые вопросы решаются только там. – К изумлению префекта, я сочинял на ходу. – Вас отвезут туда за мой счет. – От такой щедрости все египтяне так и ахнули. – А завтра я приеду к вам и тщательно рассмотрю каждую претензию. Если выяснится, что они справедливы, я буду знать, что мне делать. – Послышалось довольное урчание, под которое я благополучно улизнул из зала.
– Государь, но завтра у тебя весь день занят! – расстроился гофмаршал. – Да и казначейство не в Халкедоне. Оно здесь.
Ничего, отправьте всю эту ораву в Халкедон и предупредите лодочников, что, если они перевезут обратно в Константинополь хоть одного египтянина, пусть пеняют на себя.
Гофмаршал впервые посмотрел на меня с уважением, а египтяне еще месяц досаждали халкедонским властям и в конце концов отправились восвояси.
Приск:Обрати внимание: выше Юлиан упоминает о судах над изменниками в Халкедоне и обещает вернуться к этому вопросу позднее, но так и не возвращается. Правда, ему не представилась возможность перечитать свои записки, но я убежден: даже если бы он заметил этот пропуск, он вряд ли бы поведал об этих процессах со всей откровенностью. Юлиан отлично понимал, что они не принесли ему ничего, кроме позора.
Первым делом Арбецион арестовал десяток людей, принадлежавших к ближайшему окружению Констанция. Все они были с Арбеционом в тесной дружбе, но тем не менее он предъявил им обвинение в государственной измене. В чем дело? Причина очень проста. Любой из этих сановников мог его скомпрометировать. После смерти Констанция Арбецион хотел стать императором и пытался уговорить Евсевия признать себя законным наследником престола. Таким образом, у Арбециона была своя корысть. Ему необходимо было замести следы.
Хотя номинально председателем трибунала считался Салютий Секунд, на самом деле, всеми делами там заправлял Арбецион, который вел себя как тигр, попавший в стадо овец. Так, например, Палладий – гофмаршал при дворе Констанция – обладал безупречной репутацией; тем не менее его обвинили в заговоре против Галла. И хотя никаких улик против него не нашли, Палладия сослали в Британию вместе с Флоренцием (камергером, а не нашим приятелем по Галлии). Также безо всяких улик были отправлены в ссылку Эвагрий (бывший комит – хранитель личной императорской казны), Сатурнин (бывший дворцовый домоправитель), Сирин (личный секретарь Констанция). Однако самым грязным делом этого суда была ссылка консула Тавра, чья единственная вина заключалась в том, что он вместе со своим законным государем выступил против Юлиана, когда тот занял Иллирию. Официальное сообщение об этом приговоре начиналось словами: "В год консульства Тавра и Флоренция Тавр признан виновным в государственной измене" – настоящая пощечина общественному мнению, какую остерегаются делать даже самые отъявленные тираны.
Преторианскому префекту Флоренцию был вынесен смертный приговор, по-моему, вполне заслуженно. Он действительно делал все возможное, чтобы погубить Юлиана, хотя, справедливости ради, следует отметить (а кто из политиков на это способен?), что он всего лишь исполнял приказания императора. К счастью для Флоренция, приговор этот был вынесен заочно. В день смерти Констанция он куда-то исчез и объявился вновь лишь спустя несколько месяцев после гибели Юлиана. Флоренцию удалось благополучно дожить до глубокой старости, он приумножил свои богатства и тихо скончался в Милане. Вот так-то: одни из нас заживаются на этом свете, других смерть уносит во цвете лет. Юлиан, конечно, сказал бы, что такова воля безжалостного рока, но я умнее. Это не более чем случайность, и никакого промысла тут нет и в помине.








