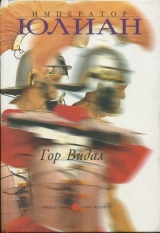
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
– Кроме записок был, разумеется, еще и дневник.
– Дневник? – встревожился Каллист.
– Да, дневник. Он вел его втайне от всех и держал в том же ларце, что и записки.
– Я ничего об этом не знал.
– Этот дневник на многое проливает свет.
– Не сомневаюсь. – Теперь Каллист нахмурился.
– Император знал, что против него составлен заговор, и даже знал, кто в нем участвует. – Что-то в поведении Каллиста побудило меня присочинить.
– Не было никакого заговора! – мягко возразил Каллист. – Государя убил персидский конник.
– Который так и не явился за наградой?
– Может быть, его тоже убили, – пожал плечами Каллист.
– Тогда почему этот персидский конник был вооружен римским копьем?
– Иногда это бывает. В бою приходится хватать то оружие, которое попадает под руку. Мне лучше знать, я был рядом с Августом и видел перса, который его заколол.
Такого я не ожидал и удивленно спросил:
– Почему же на вопрос Юлиана, видел ли ты, кто его ударил, ты ответил отрицательно?
Каллист и глазом не моргнул.
– Но я же точно видел этого перса. – Это прозвучало вполне правдоподобно, но он добавил: – И сказал об этом Августу.
– Да ведь мы с Максимом своими ушами слышали, как ты сказал, что не видел, кто нанес удар.
Каллист снисходительно покачал головой:
– Прошло столько лет, Приск. Память нас подводит.
– Ты имеешь в виду мою память?
– Мы оба уже немолоды. – Он сделал изящный жест рукой. Я решил зайти с другой стороны:
– Ты, наверное, слышал, что ходят слухи, будто государя убил свой же солдат-христианин?
– Разумеется, но я был…
– Рядом и видел, кто его убил.
Лицо Каллиста было совершенно непроницаемо, и прочитать по нему его мысли было невозможно; понятно, почему он такой удачливый негоциант. И вдруг он спросил:
– Что было известно императору?
Раньше он говорил спокойно и даже с ленцой, а этот вопрос прозвучал совсем по-другому, тихо и отрывисто.
– Он знал, что во главе заговора стоит Виктор.
– Я почти так и думал, – кивнул Каллист. – Виктор тоже.
– Значит, ты знал о заговоре?
– Разумеется.
– И участвовал в нем?
– Даже очень активно. Видишь ли, Приск, – и вдруг Каллист премило улыбнулся, – ведь это я убил императора Юлиана.
Вот и все. Тайна раскрыта. Каллист рассказал мне все. Он считает себя одним из величайших героев мира, безвестным спасителем христианства. Он расхаживал взад и вперед по атриуму и все говорил, говорил, говорил – как-никак ему пришлось хранить молчание два десятилетия. Я был первым, кому он открылся.
Заговор был составлен в Антиохии. Его душой был Виктор. Кроме него участвовали также Аринфей, Иовиан, Валентиниан и еще около двадцати офицеров-христиан. Они поклялись, что Юлиан не вернется из Персии живым, но, зная, как он популярен у солдат-европейцев, решили, что его смерть не должна вызвать подозрения.
Виктор назначил Каллиста слугой и телохранителем Юлиана. Сначала ему приказали отравить императора, но это было не так-то просто. Юлиан отличался завидным здоровьем; всем было известно, как он умерен в еде; внезапная болезнь могла бы возбудить подозрения. В конце концов заговорщики сумели сговориться с персами, и те устроили ему засаду. В его дневнике описано, как он спасся. Тогда было решено, что император должен умереть в бою. Но он отлично владел мечом, был заметен издалека, его постоянно охраняли. Заговорщики уже отчаялись, когда Каллисту вдруг пришла на ум блестящая идея.
– После битвы при Маранге я порвал у его панциря ремни. – Глаза Каллиста так и сверкали от блаженных воспоминаний. – На наше счастье, на следующий день персы напали на колонну, и императору пришлось идти в бой без доспехов. Мы с ним застряли среди отступающих персов. Юлиан уже поворачивал назад, когда я закричал: "Сюда, государь!" – и нарочно завел его в самую гущу сражения. Какое-то время мне казалось, сейчас его убьют персы, но им было не до того. Узнав его, они бежали. И тут я понял: Господь избрал меня орудием своего промысла. – Он стиснул зубы и понизил голос. – Нас отрезали от своих. Император, прикрываясь щитом, пробивался через скопление лошадей и всадников и вдруг, повернувшись влево, привстал на стременах, стараясь что-то разглядеть через головы персов. Я понял: сейчас или никогда. Помолившись мысленно Христу, чтобы он придал мне силы, я вонзил копье Юлиану в бок. – Каллист замолк, видимо, думая, что я бурно отреагирую, но я лишь посмотрел на него с нескрываемым интересом – таким взглядом я удостаиваю отличившихся учеников, сумевших заслужить мое внимание, – и вежливо сказал:
– Продолжай.
Это поубавило ему гонора, он пожал плечами и закончил:
– Остальное тебе известно. Август не чувствовал своей раны, пока персов не отбили. – Он улыбнулся. – Август даже поблагодарил меня за то, что я все время был рядом.
– Тебе повезло, что он ничего не заподозрил. – Не успев этого выговорить, я подумал: а может, Юлиан все знал? Эту тайну он унес в могилу.
– А впрочем, что есть смерть? – вопросил Каллист и сразу потерял все уважение, которое я начал питать к нему как к злодею. Оказалось, он просто-напросто болван. Он болтал со мной еще битый час и рассказал, что императором хотел быть Виктор, но, увидев, что это невозможно, возвел на престол Иовиана. Затем обладавший неукротимой волей и неистовой жаждой власти Валентиниан занял место Иовиана, и это был конец влиянию Виктора. Каждый из вышеперечисленных не забывал Каллиста своей милостью, он сумел мудро распорядиться полученными деньгами и разбогател. Но его мучило то, что мир не ведает о его тайне, и он жаждал известности. Он считает, что незаслуженно обойден славой, и очень от этого страдает.
– Ну конечно, конечно, расскажи все Либанию. Каждый рождается на свет, дабы исполнить свое предназначение. – Он благочестиво возвел глаза к небу. – Я горжусь той ролью, которую сыграл в истории Рима. – Каллист повернулся ко мне в три четверти, ни дать ни взять знаменитый бюст второго Брута, но тут же вышел из роли. – Однако прежде чем Либанию удастся опубликовать свою работу, нам необходимо получить на это разрешение из дворца. Не знаю, как сейчас там к этому отнесутся. При Валентиниане я поклялся хранить тайну.
– А Валентиниан знал об этом?
– А как же? Он даже дал мне соляной откуп во Фракии и велел помалкивать. До сегодняшнего дня я держал клятву. Естественно, мне хотелось бы, чтобы в интересах истории обстоятельства смерти Юлиана были преданы гласности.
Каллист предложил мне пообедать, но, получив сведения, я не хотел больше иметь с ним ничего общего. Я сослался на то, что спешу. Он проводил меня до самой передней – весь воплощенная учтивость и такт. Правда, он мягко пожурил меня за то, что я не известил его о получении оды в честь Юлиана.
Я принес извинения за свою забывчивость, но спросил:
– Как же ты мог с такой любовью писать о человеке, которого убил?
Каллист искренне удивился:
– Это не мешает мне всей душой им восхищаться! Он всегда был ко мне так добр, и я от всего сердца его воспел. В конце концов, я добрый христианин или, по крайней мере, стараюсь им быть. Я ежедневно молюсь за упокой его души!
Сомневаюсь, чтобы Феодосий разрешил тебе опубликовать хоть что-то из услышанного мною, но как знать? Так или иначе, дело кончено. Я выхожу из игры, и единственное, о чем прошу, – обо мне ни звука.
-XXIV-
Либаний, квестор Антиохии,
государю Феодосию, Августу Востока
Антиохия, май 381 г.
Я желал бы довести до сведения Вашей вечности мое намерение написать биографию Вашего известного предшественника Августа Юлиана, в которой будут использованы некоторые его личные документы, лишь недавно оказавшиеся в моем распоряжении.
Поскольку Ваша вечность изволила положительно отозваться о моей оде "Отмщение за императора Юлиана", Вы можете не сомневаться в том, что я предполагаю выступить со словом оправдания Юлиана в той же сдержанной манере, в коей написана ода, удостоенная Вашего всемилостивейшего восхищения. Прекрасно сознавая, какой религиозный и политический резонанс может иметь подобный труд, считаю необходимым еще раз заверить Августа не только в моей безупречной преданности его священной особе и полном одобрении проводимой им мудрой политики (что абсолютно очевидно и без того), но и в том, что я намереваюсь изложить прекрасную историю жизни Юлиана со всею деликатностью, коей требуют эпоха и предмет.
Государь, те из нас, кто остались приверженцами старой веры (но тем не менее будут неукоснительно соблюдать Ваши справедливые и своевременные эдикты), останутся на веки вечные в долгу перед Вами, если Вы великодушно дозволите мне рассказать с любовью и беспристрастием о герое, чьи подвиги некогда озарили изумленный и счастливый мир подобно самому солнцу и чья слава (хотя она и ничтожно мала перед славой Вашей вечности) в свое время служила Риму щитом против варваров.
Я смиренно желаю запечатлеть эту немеркнущую славу своим косным, но верным пером.
Мой возлюбленный друг, епископ Мелетий, который сейчас находится в Константинополе, дал согласие изложить мою просьбу Вашей вечности, употребив при этом все свое красноречие, коим он, как известно, уже многие десятилетия блистает на церковных соборах Востока. Примите же, государь, почтение того, кто стар и близок к могиле, а посему не желает для себя лично ничего, кроме познания истины и дозволения ее изложить.
Эвтропий, гофмаршал двора,
Либанию,
квестору Антиохии
Константинополь, июнь 381 г.
Август ознакомился с Вашим письмом со вниманием, коего заслуживает все, что выходит из-под Вашего пера, и повелел мне Вам передать, что в настоящее время опубликовать жизнеописание покойного Августа Юлиана не представляется возможным.
Епископа Мелетия, о котором Вы пишете, нет в живых. На прошлой неделе во время заседания Вселенского собора его постиг апоплексический удар, и его останки уже отправлены в Антиохию для погребения. Мне, однако, дозволено передать Вам, что перед смертью епископ просил Августа признать Вашего побочного сына Симона законным. Август рад исполнить просьбу этого святого человека. В настоящее время моя канцелярия готовит необходимые документы, которые будут обычным порядком переданы комиту Востока, а от него, в свою очередь, поступят наместнику в Сирии, который официально известит Вас об их получении.
Август милостиво изъявил желание ознакомиться с полным собранием Ваших сочинений, которые он высоко ценит. Полагаю, квестор, Вам следует выслать их в Священный дворец.
Либаний наедине с собой
Я только что вернулся с похорон епископа Мелетия. Его отпевали на острове, в Золотом доме. Не знаю, удалось бы мне пробиться через толпу на площади, не будь рядом Симона. Казалось, вся Антиохия пришла проститься со своим епископом.
Толпа, как обычно, узнала меня и расступилась перед моими носилками. Некоторые остряки стали добродушно подтрунивать над тем, что-де "язычники" (новое обидное прозвище для нас, эллинов) стали посещать христианские богослужения, но я притворился, что не слышу. Носилки внесли под аркаду, и Симон помог мне из них выйти: в последнее время подагра перекинулась у меня с правой ноги на левую, и даже с помощью костыля и палки я без посторонней поддержки лишь едва ковыляю. К счастью, мой добрый сын сумел благополучно провести меня внутрь церкви и даже раздобыл один из стульев, которые принесли для свиты наместника (во время богослужений христиане стоят, лишь самые знатные прихожане имеют право сидеть).
Разумеется, мне не удалось ничего увидеть – я лишь различаю свет и тьму, а все остальное с необычайным трудом. Правда, в углу левого глаза у меня сохранилось светлое поле. Если его скосить и сильно вывернуть голову, я даже могу короткое время читать, но это отнимает столько Сил, что я предпочитаю проводить свои дни в сумрачном царстве Посейдона, жить в котором обрекает людей слепота. В церкви я различал только светлые пятна (лица) и темные столбы (траурные плащи). Дышать было трудно из-за ладана и тяжелого запаха, который неизбежно сопровождает все многолюдные сборища в жаркие дни.
Панихида шла своим чередом. Присутствующие возносили молитвы и слушали проповеди, но мои мысли были далеко. Они вращались вокруг только что полученного краткого ответа из Священного дворца. Мне запрещено публиковать мой труд. Даже признание Симона моим законным сыном не смогло смягчить этого жестокого удара.
Сидя в душной восьмиугольной церкви между алтарем и высокой мраморной кафедрой, я вдруг услышал голос священника, который отпевал покойного. Подобно большинству слепых и полуслепых, я обладаю обостренным слухом – одни голоса мне нравятся, другие (даже голоса друзей) наводят уныние. Как я не без удовольствия отметил, этот голос был низок и благозвучен и обладал той силой убеждения, которую я так ценю. Священник стал произносить надгробную речь о Мелетии; слова в ней были верно подобраны, периоды искусно составлены, но содержание не отличалось глубиной. Когда он закончил, я шепотом спросил у Симона:
– Кто это?
– Иоанн Хризостом, новый диакон, которого епископ Мелетий рукоположил месяц назад. Ты его знаешь.
– Знаю?
Но служба продолжалась, и мы умолкли: новый епископ благословлял паству. Кто же этот Иоанн Златоуст? Откуда я его знаю? Может быть, он мой бывший ученик? А если да, смогу ли я его припомнить? Память у меня уже не та; кроме того, через мои руки прошли буквально тысячи учеников, и никто на свете не может всех их запомнить. Наконец обряд закончился. Симон помог мне подняться. В этот момент мимо нас проходил наместник в Сирии – я узнал его по цвету хламиды. Увидев меня, он остановился.
– А, квестор! Рад тебя видеть в таком цветущем здравии.
– Старое дерево живет, – ответил я ему, – но цвести оно не может.
Тем не менее наместник обратился к моему сыну:
– Я думаю, вас уже можно поздравить с монаршей милостью.
От этих слов Симон пришел в восторг; подобно тому, как другие стремятся к истине, он стремится к почестям.
– Да-да, наместник, это вполне своевременно. Премного благодарен. И меня, и моего отца милость императора просто изумила.
– Мне нужен твой совет, Симон… – И, взяв сына под руку, наместник увел его, оставив меня одного посреди церкви – слепого, как Гомер, и хромого, как Гефест. Должен признаться, на мгновение я поддался гневу. Симону следовало остаться со мной, он мог бы договориться с наместником о встрече в другое время! Но что делать: мой сын – юрист, и профессия обязывает. Как бы то ни было, мне было трудно его простить, когда я осознал свое положение. Я остался в Золотом доме один, лишенный зрения и едва способный передвигаться без посторонней помощи. Тяжело опираясь на палку, я, похожий на сову или летучую мышь, ослепленную дневным светом, двинулся туда, где, как я надеялся, есть выход. Всего лишь один опасный шаг – и меня подхватила чья-то сильная рука.
– Благодарю вас, – сказал я смутной тени рядом. – Меня, кажется, бросили, а я очень нуждаюсь в помощи. Я ничего не вижу.
– Любая моя помощь тебе – ничто по сравнению с той, которую ты оказал мне.
– Я узнал голос диакона Иоанна Хризостома и притворился, будто помню его:
– Ах да, ты Иоанн…
– Меня называют Хризостомом, но ты меня помнишь как сына Анфузы и…
– Да, я помнил его, еще бы!
– Мой лучший ученик! – воскликнул я. – Тебя похитили у меня христиане!
– Не похитили, а нашли, как заблудшую овцу! – рассмеялся он.
– Значит, теперь мой Иоанн – знаменитый Хризостом, чарующий слух публики.
– Да, меня слушают, но понимают ли? Прежде всего, меня здесь не знают. Десять лет я провел один в пустыне…
– А теперь вернулся в мир, чтобы стать епископом?
– А теперь вернулся в мир, чтобы проповедовать и излагать истину, подобно моему старому учителю.
– У нас с тобой разные взгляды на то, что есть истина, – произнес я резче, нежели намеревался.
– Может статься, не такие уж и разные. – Возле двери мы остановились. С большим трудом удалось мне разглядеть худощавое лицо моего бывшего ученика. Иоанн уже начал лысеть и отпустил бородку; по правде говоря, будь даже мое зрение лучше, я бы его не узнал. С тех пор как он был моим учеником, минуло уже почти двадцать лет.
– Перед отъездом из Антиохии епископ Мелетий рассказал мне, что ты замыслил написать биографию императора Юлиана. – Неужели Иоанн читал мои мысли? Как иначе мог он догадаться о том, что тяготило меня больше всего? Его-то это вряд ли могло заинтересовать.
– К сожалению, из моего замысла ничего не вышло. Император запретил мне эту публикацию.
– Жаль. Я знаю, что значил для тебя Юлиан. Как-то мне довелось его увидеть. Было это незадолго до того, как я стал твоим учеником, тогда мне было что-то около пятнадцати. В тот день, когда он уходил в персидский поход, я стоял в толпе на цоколе Нимфея и видел, как он проезжал мимо. Кажется, люди кричали какие-то грубости…
"Феликс – Юлиан – Август", – пробормотал я, вспомнив, что скандировала злобная толпа.
Да-да. Я был совсем рядом с ним и мог, кажется, дотронуться до гривы его коня. Мать мне сказала, что этого человека я должен ненавидеть, но мне он показался прекраснейшим из смертных. Когда он посмотрел в мою сторону, глаза наши случайно встретились, и он улыбнулся мне, как старому другу. Я тогда подумал: да ведь это святой, почему же его так ненавидят? Потом я, разумеется, понял причину нашей ненависти к нему, но для меня осталось тайной, за что он ненавидел нас.
Я вдруг расплакался. Никогда я еще не чувствовал себя таким униженным и смешным – подумать только, величайший философ своего времени плачет, как дитя, на глазах у бывшего ученика! Но Иоанн был тактичен. Он дождался, пока я успокоился, и больше ни словом не обмолвился об этой старческой слабости. Взяв меня под руку, он довел меня до двери и вдруг, обернувшись, указал на изображение на противоположной стене.
– Новая мозаика, – пояснил он. – Красиво, правда?
Я вывернул голову так, что смог – правда, неотчетливо – рассмотреть что-то похожее на огромную фигуру человека с распростертыми руками.
– Тебе хорошо видно?
– Да, – солгал я. Был полдень, и ярко освещенная мозаика под лучами солнца ослепительно сверкала.
– Это Христос, Вседержитель наш и Спаситель. Особенно прекрасно лицо.
– Да, лицо я вижу, – вяло отозвался я. Мне и в самом деле удалось его рассмотреть: мрачное, жестокое лицо палача.
– Но тебе не нравится?
– Перед моими глазами смерть. Как может она мне нравиться?
– Смерть – это еще не конец.
– Но это конец жизни.
– Только этой жизни…
– Жизни! – яростно набросился я на него. – Вы избрали смерть, все вы!
– Нет, не смерть. Мы выбрали вечную жизнь, воскрешение…
– Расскажи эту сказку малым детям! Вот она, правда: тысячелетиями мы обращали свои взоры к жизни, а теперь вы убеждаете друг друга, что этот мир не для нас. Вы поклоняетесь мертвецу, и глаза ваши обращены в загробный мир. Но только его не существует.
– Мы верим…
– Это единственное, что вам остается, Иоанн Хризостом, больше ничего. Отвернись от этого мира, и пред тобою разверзнется зияющая бездна!
– Мы оба помолчали, а потом Иоанн спросил:
– Неужели ты не придаешь никакого значения нашей победе? Ведь мы победили, ты должен это признать.
Я пожал плечами:
– Золотой век прошел, пройдет и железный век, и все в мире, включая род человеческий. Но теперь, когда появился ваш новый бог, у человека отнята надежда на счастье.
– Навечно?
– Ни одно из творений рук и ума человеческого не вечно, не исключая и Христа, самое страшное из его творений.
Иоанн не ответил. Мы вышли из церкви на улицу, и нас охватило приятное тепло. Люди, которых я не видел, здоровались со мной. Тут подбежал мой сын, я распрощался с Иоанном и сел в носилки. Всю дорогу до Дафны Симон возбужденно рассказывал о своей беседе с наместником. Он надеется преуспеть на государственной службе.
И вот я сижу в кабинете один. Документы Юлиана уже убраны со стола – с этим все кончено. Мир, который Юлиан мечтал возродить и сохранить, исчез… не буду писать: "навсегда", ибо будущее не ведомо никому. А между тем варвары уже у ворот. Но когда они проделают в стене брешь, им не достанется ничего ценного, лишь пустые реликвии былой славы. Дух Рима покинул нас. Что ж, да будет так.
Весь вечер я провел, читая Плотина. Как ни парадоксально, несмотря на пронизывающую его сочинения глубокую печаль, он меня успокаивает. Вот что он пишет: "Жизнь здесь, с земными тварями, – это падение, поражение, повреждение крыла…" Крыло действительно повреждено, мы пали, и поражение очевидно. Сейчас, когда я пишу эти строки, масло в моем светильнике кончается, и светлый круг, в котором я сижу, медленно сужается. Скоро в комнате наступит тьма. Всегда боишься, что именно такой будет и смерть, но чего еще ждать? Юлиан унес свет с собой. Теперь остается только дожидаться, пока совсем стемнеет, и надеяться, что когда-нибудь взойдет новое солнце и настанет новый день, порожденный таинством времени и неизменной любовью человека к свету.
Рим, апрель 1959 г. - 6 января 1964 г.








