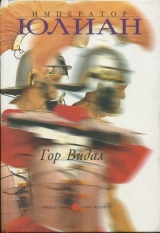
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
В конце концов мнение императрицы одержало верх, но для этого ей пришлось целых полгода спорить с хранителем императорской опочивальни, а Констанций слушал, хранил молчание, раздумывал и выжидал.
В начале июня в Комо прибыл камергер с приказом: благороднейшему Юлиану надлежит явиться к божественной императрице Евсевии. Весть эта меня ошеломила: почему к императрице, а не к императору? – задавал я себе вопрос. Я расспрашивал камергера, но он твердил одно и то же: мне предстоит личная аудиенция; нет, он не может сказать, примет ли меня император; нет, ему даже не известно, находится ли вообще император в Милане – он просто упивался тем, что оставлял меня в неведении.
Нас провели в город через потайную дверь в одной из сторожевых башен; узкими проулками мы, прячась от всех, подошли к боковому входу императорского дворца. Здесь меня встретили придворные и отвели прямо в покои императрицы.
Императрица Евсевия оказалась не намного старше меня и гораздо красивее своих изображений. Ее глаза и губы в мраморе казались такими суровыми, а в жизни были всего лишь печальными. Хламида огненного цвета красиво оттеняла ее бледное лицо и черные, как смоль, волосы.
– Мы рады видеть нашего брата, благороднейшего Юлиана, – негромко произнесла она приветственную фразу и дала знак одной из придворных дам. Та немедленно принесла складной табурет и поставила рядом с серебряным креслом императрицы.
– Надеемся, нашему брату понравилось в Комо.
– Да, Августа, там очень красивое озеро. – Евсевия указала мне на табурет, и я сел.
– Нам с императором оно тоже нравится. – И мы с императрицей пустились в пространные рассуждения о красоте злосчастного озера, длившиеся, как мне показалось, целую вечность. Тем временем она меня пристально изучала; по правде сказать, я делал то же самое. Евсевия – вторая жена Констанция; первая, Галла, была единоутробной сестрой моего брата, в то время как у нас с Галлом был один отец. Я с нею не был знаком, да и Галл видел ее за всю жизнь раз или два. Сразу же после смерти Галлы император женился на Евсевии; говорят, он любил ее всю жизнь. Она происходит из знатной консульской семьи. При дворе Констанция императрица пользовалась большой популярностью и не раз спасала невинных людей от дворцовых евнухов.
– До нас дошел слух, что ты намерен стать священником?
– Просто я жил в монастыре, когда мне… повелели явиться в М-милан… – Когда я волнуюсь, я часто начинаю заикаться; особенно трудно в таких случаях мне дается буква V.
– Ты всерьез решил стать священником?
– Не знаю. Мне больше нравится изучать философию. А жить я хотел бы в Афинах.
– А политикой ты не интересуешься? – спросила она с улыбкой, так как заранее знала, каким по необходимости должен быть мой ответ.
– Нет, Августа, нисколько!
– И все же ты член императорской фамилии, у тебя есть некоторые обязанности перед государством.
– Август не нуждается в моей помощи.
– Это не совсем так. – Она хлопнула в ладоши, и две придворные дамы, стоявшие у дверей, удалились, бесшумно закрыв за собою резные кедровые створки.
– Во дворце ничего нельзя скрыть, – произнесла Евсевия. -Здесь невозможно уединиться.
– Разве мы сейчас не одни?
Евсевия хлопнула в ладоши еще раз, и из-за колонн на другом конце зала появились два евнуха. Она махнула им рукой, и они тотчас исчезли.
– Они все слышат, но говорить не могут: пришлось принять кое-какие меры предосторожности. Есть и другие люди, о которых никто не знает.
– Осведомители? Евсевия кивнула:
– Они слышат каждое наше слово.
– Но где?
Евсевия улыбнулась моей наивности:
– Кто знает? Но они всегда рядом – это общеизвестно.
– Они шпионят даже за императрицей?
– Особенно за императрицей, – спокойно ответила она. – Во дворцах так было всегда, от сотворения мира. Так что не забывай: тебе следует говорить… с осторожностью.
– Или помалкивать!
Евсевия засмеялась, и я чуть расслабился – я уже почти доверял ей. Но она тут же снова стала серьезной.
– Император с большой неохотой позволил мне встретиться с тобой, – продолжала она. – Думаю, ты и сам понимаешь: после истории с Галлом он считает, что вокруг одни изменники, и никому больше не верит.
– Но я…
– Как раз тебе он верит меньше всего. – Откровенность императрицы била наотмашь, но я все равно был ей признателен. – Констанций хорошо понимал, что за человек твой брат, и все же возвысил его. И что же? Не прошло и полугода, как Галл с Констанцией замыслили узурпировать престол.
– Откуда у тебя такая уверенность?
– Мы располагаем доказательствами.
– Я наслышан, что тайная полиция зачастую придумывает "доказательства".
Евсевия пожала плечами:
– В данном случае такой необходимости не было: Констанция шла к цели напролом. Кстати, я ей никогда не доверяла, но это дело прошлое. Теперь главная опасность исходит от тебя.
– Ее легко устранить, – ответил я, и в моих словах, против воли, зазвучали горькие нотки. – Казните меня, и все.
– Некоторые так и советуют поступить. – Она, как и я, говорила в открытую. – Однако я не в их числе. Тебе, как и всему миру, известно: у Констанция не может быть детей. – На ее лицо набежала тень. – Мой исповедник заверил меня, что это божья кара за убийство родственников. У государя были на то причины, – добавила она, демонстрируя верность супругу, – но так или иначе тот, кто истребляет свой род, проклят Богом. Такое проклятие лежит и на Констанции. У него нет наследника и, если он тебя казнит, не будет уже никогда – в этом я абсолютно уверена.
– Так вот оно что! У меня просто гора с плеч упала, и это тут же отразилось на моей физиономии.
– Да-да, пока тебе ничего не грозит – пока. Но вопрос о том, что с тобой делать, остается открытым. Мы все надеялись, что ты пострижешься в монахи…
– Если в этом есть необходимость, я готов. – Да, так я и сказал. Я ведь пишу только правду. В ту минуту я, ради спасения жизни, готов был молиться хоть ослиным ушам. Но Евсевия на этом не настаивала. Она вдруг улыбнулась.
– Твоя тяга к знаниям представляется искренней, – сказала она. – Нам известно, с кем ты встречаешься, какие книги читаешь. Мало что может ускользнуть от глаз и ушей хранителя священной опочивальни.
– Тогда ему известно, что я хочу стать философом.
– Конечно, известно. И я верю, что император исполнит твое желание.
– За это я буду ему благодарен до конца дней и предан душой и телом. Ему незачем меня бояться… – восторженно лепетал я. Евсевия с усмешкой следила за мной, мои слова, казалось, ее развеселили. А когда я остановился перевести дух, она охладила мой пыл, сказав:
– Примерно то же самое говорил и Галл. – С этими словами она поднялась, давая понять, что беседа окончена.
– Я постараюсь устроить тебе аудиенцию у императора, только это будет непросто. Он очень застенчив, – сказала мне на прощание Евсевия. Услышав эти слова, я не поверил своим ушам, но она говорила правду. Констанций действительно боялся общения с людьми. Думаю, поэтому он и предпочитал евнухов: они все-таки не совсем мужчины.
Два дня спустя меня посетил хранитель священной опочивальни Јобственной персоной. С трудом верилось, что это очаровательное существо с прелестным голоском, чье лицо при улыбке украшают ямочки, изо дня в день требует в консистории моей казни. Его огромное тело заполнило собой почти всю маленькую комнатку, в которой меня содержали.
– Ах, как ты вырос, благороднейший Юлиан! Во всех отношениях. – Евсевий легонько дотронулся до моего лица. – А какая у тебя борода – прямо как у настоящего философа! Сам Марк Аврелий – и тот бы позавидовал! – На мгновение его жирный палец опустился, почти невесомо, на самый кончик моей бороды. Мы снова стояли друг напротив друга, растягивая лица в улыбках: я скрывал страх и волнение, он – хитрость и коварство.
– Нет нужды рассказывать, как я рад, что ты наконец прибыл ко двору. Мы все просто счастливы тебя видеть. Тебе надлежит жить здесь, среди родных. – Тут мое сердце ушло в пятки. Что бы это значило? Неужели меня оставляют жить при дворе, под надзором евнухов? Тогда лучше уж сразу умереть. – Мой тебе совет: когда тебя примет божественный Август, моли его оставить тебя при дворе. Ты ему очень нужен.
– Император меня примет? – ухватил я главную мысль. Евсевий восторженно кивнул, будто этой потрясающей удачей я был обязан его неустанным хлопотам.
– Разумеется, а ты разве не знал? Он принял решение на утреннем заседании Священной консистории, и мы все были просто в восторге – ты нам так здесь нужен! Я всегда говорил, что ты заслуживаешь места при особе императора, высокого места.
– Ты мне льстишь, – пробормотал я.
– Ни в коем случае, это истинная правда! Ты воистину настоящее украшение рода Константина, и бриллианту такой чистой воды самое место в диадеме императорского двора.
Я не поморщившись проглотил эту грубую лесть и ответил столь же "искренне":
– Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня и моего брата.
На глаза Евсевия навернулись слезы, его голос задрожал:
– Прошу тебя, располагай мною как тебе угодно! Это мое единственное желание. – Он не без труда наклонился и поцеловал мне руку; порой ненависть легко рядится в одежды любви. На этой ноте взаимного восхищения мы и расстались.
Затем один из дворцовых евнухов стал наставлять меня в придворном этикете, не менее сложном, нежели церемониал митраистских таинств. На каждый из десятков вопросов и приказов императора надлежало отвечать строго определенным образом и при этом помнить, когда следует кланяться, а когда – преклонять колени, когда ступить вправо, а когда – влево, и ни в коем случае нельзя было забыть, каким жестом император подзывает тебя к трону, а каким повелевает оставаться на месте. Евнух очень любил свое ремесло. "Наши церемонии – это восьмое чудо света! – восторгался он. – Иногда они доставляют даже большее наслаждение, чем обедня". С этим я охотно согласился.
Евнух расстелил на столе передо мной чертеж и начал:
– Вот это большой тронный зал, где произойдет аудиенция. Здесь сидит божественный Констанций, – показал он пальцем, – а отсюда войдешь ты. – Каждое движение – и мое, и императора – было заранее предопределено, и я их разучивал, как танец. Когда я наконец все усвоил, евнух, складывая карту, восторженно заявил: – Со времен божественного Диоклетиана мы постоянно работали над уточнением и дополнением придворного церемониала. Уверен, он и мечтать не мог о том, что его наследники сумеют создать такой изысканный стиль и такую фундаментальную символику. Подумать только, – упивался он, – ведь мы теперь в состоянии полностью отразить строение вселенной в одной церемонии, продолжающейся не более трех часов!
Став императором, я первым делом изгнал евнухов и до минимума сократил придворный церемониал. Этими указами я горжусь больше всего.
Вскоре после захода солнца за мной явился гофмаршал в сопровождении целой свиты вестников и повел меня в тронный зал. По пути он давал мне последние наставления о том, как себя вести перед священной особой императора, но я его не слышал – все мои мысли были заняты речью, с которой я предполагал обратиться к Констанцию. Это был настоящий шедевр риторического искусства – в конце концов, я готовил ее целых десять лет. С ее помощью, оказавшись с Констанцием лицом к лицу, я надеялся завоевать его доверие.
Гофмаршал ввел меня в огромную базилику, когда-то служившую Диоклетиану тронным залом. Ее коринфские колонны в два раза выше обычных, пол выложен порфиром и зеленым мрамором. Все это придает залу величественный вид, особенно при искусственном освещении. В апсиде, в дальнем конце базилики, стоит трон Диоклетиана – кресло тончайшей работы из слоновой кости, инкрустированное пластинками чистого золота. Не стоит и говорить, что я до мельчайших подробностей запомнил, как выглядел этот зал в тот час, когда решалась моя судьба: между колоннами сияли факелы, а два бронзовых светильника по обеим сторонам трона освещали особу императора. Если не считать встречи с Константином в детстве, я впервые лицезрел государя в полном облачении, и театральность всего происходящего меня ошеломила.
Констанций сидел на троне прямо и неподвижно, подобно статуе, руки, в подражание египетским фараонам, лежали на коленях. На голове – тяжелая золотая диадема, сверкающая огромными квадратными бриллиантами. По одну сторону трона стоял Евсевий, по другую – преторианский префект, вдоль стен зала строго по старшинству выстроились придворные.
Меня официально представили императору, и я заверил его в своих верноподданнических чувствах. За все время, что длился ритуал, я запнулся всего лишь однажды, и гофмаршал тут же услужливо прошептал нужную формулу мне на ухо.
Если Констанций и испытывал в отношении меня любопытство, он не подал виду. Когда он заговорил, его бронзовое лицо оставалось абсолютно бесстрастным:
– Мы рады видеть нашего благороднейшего брата Юлиана, – произнес он. Однако его высокий голос не выражал никакой радости, и я вдруг почувствовал, что меня бросает в жар. – Мы дозволяем ему отправиться в Афины для продолжения образования.
Я бросил взгляд на Евсевия. Несмотря на свой проигрыш, он изобразил на лице радость и едва заметно кивнул, будто говоря: "Наша взяла!"
– Также… – И вдруг Констанций замолчал. Именно так все и было: он замолчал. Ему больше нечего было мне сказать. Я смотрел на него во все глаза, и мне казалось, что я схожу с ума. Даже гофмаршал опешил: Констанцию полагалось произнести целую речь, а мне – ответить на нее, но вместо этого он протянул мне руку для поцелуя, я повиновался, и на том аудиенция была окончена. Пятясь и кланяясь через каждые несколько шагов, я с помощью гофмаршала добрался до выхода и открыл дверь, как вдруг из-под темных сводов с писком выпорхнули две летучие мыши и подлетели прямо к Констанцию. Одна из них едва не задела его лица, а он даже не шелохнулся – как всегда, поразительное самообладание! Ни разу в жизни я не встречал такого хладнокровного и непонятного мне человека.
Вернувшись в отведенную мне комнату, я нашел на столе записку из секретариата Евсевия, предлагавшую мне незамедлительно проследовать в аквилейский порт. Слуги уже уложили мои вещи и были готовы к отъезду. Рядом стоял наготове военный эскорт.
Не прошло и часа, как городские стены Милана остались позади. В ту темную ночь я, сидя в седле, молил Гелиоса избавить меня навеки от встреч с императором и его двором.
-VII-
5 августа 355 года на восходе солнца я прибыл в афинский порт Пирей. Мне предстояло прожить в Афинах сорок семь незабываемых дней, самых счастливых дней в моей жизни.
Утро выдалось ветреное. Море штормило, волны с грохотом бросали корабль на сваи причала, он вздрагивал и скрипел. На востоке солнечные лучи прорывались сквозь мрак ночи, гасли звезды, рождался новый день – казалось, будто присутствуешь при сотворении мира. Я был почти уверен, что на берегу меня поджидает отряд солдат, чтобы арестовать по какому-нибудь сфабрикованному обвинению, но солдат нигде не было видно. Кругом стояли торговые суда из разных стран, и царила обычная для любого большого порта суматоха. Рабы выгружали на пристань товары, с корабля на корабль неторопливо прохаживались портовые чиновники. Возницы с тележками, запряженными ослами, зазывали седоков, обещая доставить их в город быстрее того юноши, что пробежал от Марафона до Афин за четыре часа (правда, добежав, он, как известно, тут же умер, но ирония возчикам не свойственна, даже если они – афиняне, воспитанные на Гомере).
По причалу от корабля к кораблю бродили гурьбой босоногие ученики, одетые чуть ли не в рубища. Они старались завербовать новичков на лекции к своим учителям. Между собой они люто враждовали, ведь каждому нужно было во что бы то ни стало убедить новоприбывших (их называют "лисами"), будто во всех Афинах имеется лишь один-единственный учитель, которого стоит посещать, – его собственный. Дело зачастую доходило до драк. На моих глазах двое учеников вцепились в какого-то чужестранца, один схватил его за правую руку, другой за левую. Тот, что справа, настаивал на том, что приезжему обязательно нужно послушать лекции некоего софиста, а тот, что слева, надрывался, уверяя, что этот софист – набитый дурень и что лишь вкусив от мудрости его учителя, киника, новичок не потеряет времени даром. Они, наверно, разорвали бы беднягу пополам, не объясни он им на ломаном греческом, что приехал из Египта продавать хлопок и до философии ему нет никакого дела. К счастью, мой корабль стоял вдалеке от этих зазывал, и я был избавлен от их внимания.
Обычно на корабле, где находится член императорской фамилии, поднимают флаг с изображением дракона – гербом нашего рода, но я фактически находился под гласным надзором, и поэтому было решено не привлекать ко мне внимание народа. По правде говоря, мне это было только на руку. Я хотел наконец обрести свободу, чтобы ходить, куда мне заблагорассудится, не будучи опознанным. К моему огорчению, ко мне снова приставили двенадцать человек постоянной охраны (фактически это были мои тюремщики), командир которых отвечал за мою безопасность. За такую заботу о моей особе я был ему в какой-то степени признателен, но не настолько, чтобы отказаться от пришедшей мне в голову смелой идеи.
Пока слуги выносили на палубу мои вещи, а охрана, столпившись на носу, сонно объяснялась с портовым начальством, я набросал своему главному тюремщику несколько строк, уведомляя, что он найдет меня вечером в доме префекта. Записку эту я оставил на крышке одного из своих сундуков, а сам, плотно закутавшись в простой плащ, какие носят ученики, перемахнул через борт и, никем не замеченный, спрыгнул на пристань.
Чтобы привыкнуть к твердой земле, мне понадобилось не более минуты. Хотя я не подвержен морской болезни, но корабельная качка и сопровождающие ее монотонные движения вверх и вниз меня утомляют. Моя стихия – не вода, а земля, не огонь, а воздух. Со вкусом поторговавшись, я тут же на причале нанял возчика (мне удалось сбить цену до половины – недурно, хотя могло быть лучше) и забрался в его тележку. Полусидя на ее бортике, я покатил по каменистой дороге в Афины.
Небо без единого облачка, освещенное восходящим солнцем, было такой голубизны, что глаза резало. Воспетая аттическая ясность – вовсе не метафора. Если бы горизонт не закрывала гора Гиметт (в лучах восходящего солнца она казалась лиловой), отсюда, наверно, можно было бы увидеть край света. Жара с каждой минутой нарастала, но это была сухая жара пустыни, которую смягчал легкий морской бриз.
Я был просто счастлив: в простом плаще и с бородой я ничем не отличался от других учеников. Никто не обращал на меня внимания, никто не знал, кто я такой. Подобных мне вокруг были десятки. Некоторые ехали в повозках, большинство шло пешком, и все устремлялись к одной цели – Афинам, светочу истицы.
По обе стороны от меня громыхали и скрипели колеса, бранились возчики, в повозках мычала и визжала скотина, жалобно вскрикивали люди. Греки-афиняне – люди живого и веселого нрава, однако, сколько ни вглядывайся, в их облике не найдешь ничего общего с Периклом или Алкивиадом. Они очень изменились – от былого благородства не осталось и следа. Этому не следует удивляться: в их жилах течет смешанная кровь – результат многих нашествий варваров. Тем не менее я никак не могу согласиться с некоторыми латинскими писателями, приписывающими афинянам изнеженность и коварство. Высокомерный тон, который римляне с давних пор усвоили по отношению к грекам, – не более чем затаенная обида перед лицом очевидного факта: в таких серьезных областях, как философия и искусство, Греция и ныне продолжает превосходить Рим, и все сколько-нибудь ценное, что создано римлянами в этой сфере, основывается на греческих источниках. Невозможно поверить в искренность Цицерона, когда он на одной странице признает себя в вечном долгу перед Платоном, а уже на следующей в презрительных выражениях рассуждает о греческом национальном характере. Похоже, он сам не замечает своих противоречий – очевидно, потому что подобные взгляды были в его среде общепринятыми. Известно, что римляне считают себя потомками троянцев, но эту чепуху никто никогда не принимал всерьез. Я уже не раз писал о римском характере, и далеко не в лестном тоне (примером тому в какой-то мере может служить моя статейка о первых цезарях, хотя это всего лишь набросок). Но здесь мне следует напомнить: будучи римским императором, я тем не менее ни на минуту не забываю о своем греческом происхождении, данная минута не исключение. И мне довелось побывать в самом сердце Греции – Афинах.
Афины. Минуло уже восемь лет с тех пор, как я подъезжал к их воротам в наемной тележке, скрываясь под видом простого ученика и дивясь красоте вокруг, подобно какому-нибудь германцу, впервые попавшему в город. В первый раз узрев Акрополь, я был потрясен его великолепием. Он парит над городом, как будто его поднял своей могучей дланью сам Зевс, возвещая: "Взгляните, дети мои, как живут ваши боги!" На солнце ослепительно сверкает медный щит колоссальной статуи Афины, стоящей на страже своего города. Поодаль, слева от Акрополя, я увидел огромную пирамидальную скалу и сразу же узнал в ней гору Ликабетт. Ее сбросила на землю сама Афина; в пещерах у подножия этой горы и поныне обитают волки.
На перекрестке мой возница так резко повернул тележку, что я чуть было из нее не выпал. "Дорога в Ликей", – объявил он преувеличенно громким голосом, каким обычно говорят с иностранцами; я был потрясен. Дорога от Афин до знаменитых садов Ликея обсажена вековыми деревьями. Она начинается у Дипилона – главных городских ворот, высившихся прямо перед нами, – затем пересекает афинские предместья и теряется в зеленых садах Ликея, где витает дух Аристотеля.
В то раннее утро у Дипилона стояла такая толчея, какая в любом другом городе возникает разве что к полудню. Ворота эти, как явствует из их названия, имеют два прохода, а на подступах к ним высятся две башни. Перед воротами в ленивой позе стояли часовые, не обращая никакого внимания на потоки пешеходов и повозок, двигавшихся в обоих направлениях. При въезде в Афины нашу тележку внезапно окружили гетеры: двадцать, а то и тридцать женщин и девушек всех возрастов, сидевшие до нашего появления в тени под городской стеной, вскочили и кинулись к тележке, отпихивая друг друга. Они принялись дергать меня за плащ, величая при этом "козленочком", "Паном", "сатиром" – и это еще были самые ласковые прозвища. Одна прелестная девчушка – на вид ей было не более четырнадцати – с ловкостью акробата уцепилась за борт тележки и крепко ухватила меня за бороду. Глядя на то, что со мной вытворяют, солдаты так и покатились со смеху. Пока я не без труда разжимал ее пальцы, другой рукой она, ко всеобщему восторгу, залезла мне между ног. Но вознице было не привыкать к таким набегам. Слегка взмахнув бичом, он ударил гетеру по руке – гетера ее с визгом отдернула и полетела на землю. Остальные женщины обрушили на нас потоки брани. То был великолепный, яркий, поистине гомеровский язык! Они отстали от нас лишь у вторых ворот, да и то только потому, что в этот момент в город въезжала конная когорта. Подобно рою пчел, женщины ринулись к всадникам и облепили их.
Я привел свою тунику в порядок. Резкое движение девичьей руки поневоле пробудило во мне плотские желания, и я стал размышлять, где в Афинах можно найти девушек покрасивее, ведь в то время я еще не давал обета безбрачия. Правда, и в то время я считал, что умерщвление плоти есть добродетель: общеизвестно, что воздержание придает мысли особую остроту. Но в тот год мне было всего двадцать три – плоть требовала своего, и рассудок не мог этому противостоять; воистину юность – время телесных желаний. Не проходило дня без того, чтобы я не испытал вожделения, и не проходило недели без того, чтобы я не нашел способ его удовлетворить. Тем не менее я не могу согласиться с дионисийцами, которые полагают, будто половой акт приближает человека к Единому Богу. Как раз наоборот: во время полового акта человек слеп и не способен мыслить, подобно животному во время случки. Однако всему свое время, а тогда я был молод и за несколько недель познал множество девушек. Даже сейчас, этой жаркой азиатской ночью, воспоминания о тех чудесных днях будят во мне беспокойство и мысли о плотской любви. Ну вот, мой секретарь краснеет. А ведь он грек!
Возчик указал бичом на руины справа. "Адриан, – пояснил он, – Адриан Август". Мне, как и всем путешественникам, часто приходится слышать из уст гидов имя моего знаменитого предка. Даже сейчас, по прошествии двух столетий, он единственный из римских императоров, чье имя известно каждому: он много путешествовал, воздвиг множество строений, но больше всего его прославила безумная страсть к мальчику по имени Антиной. Конечно, каждый волен любить мальчиков, однако столь преувеличенные знаки низменной страсти, какими Адриан осыпал Антиноя, просто выходят за рамки приличий. К счастью, мальчишку убили раньше, чем Адриан провозгласил его своим наследником. Но, оплакивая его, император снова выставил на посмешище и себя, и гения-хранителя Рима – он воздвиг своему покойному дружку тысячи статуй и множество храмов, даже провозгласил его богом! Эта скандальная демонстрация своих чувств навсегда омрачила славу Адриана. Впервые в истории над римским императором издевались в открытую, а смеялся над ним буквально весь мир. За исключением этого промаха, Адриан вызывает у меня большую симпатию: он был всесторонне одарен, особенно в области музыки. Ему были ведомы тайные знания и, как и я, он любил часами изучать звезды в поисках добрых и дурных предзнаменований. Наконец, у него, как и у меня, была борода, за что я люблю его больше всего. Мелочь, не правда ли? Я и сам себе удивляюсь, когда пишу об этом. Но наши симпатии и антипатии часто зависят от мелочей. Мне не по душе безрассудная страсть Адриана к Антиною: невозможно мириться с тем, что император так роняет себя в глазах подданных, зато его борода мне нравится. Человек, в сущности, создание примитивное, и именно поэтому мы непостижимы друг для друга.
Въехав в город, я отпустил возницу. И тут я уподобился человеку, заснувшему над учебником истории, и погрузился в прошлое. Я ступил на древнюю дорогу – она ведет от городских ворот к агоре и называется просто "Дорога". Я оказался в точке, где сомкнулись воедино настоящее и будущее. Время раскрыло мне свои объятия, и в тот же миг я познал сущность мироздания – оно бесконечно, ибо циклично.
Слева от ворот бил фонтан. Я омыл в нем запыленное лицо и бороду, а затем направился по дороге на агору. Мне говорили, будто Рим несравненно величественнее Афин – не знаю, я никогда не бывал в Риме. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что именно таким должен быть город, но в жизни такое совершенство – редкость. Афины спланированы даже удачнее, чем Пергам, во всяком случае, центр города. Многочисленные портики слабо поблескивают в лучах ослепительного солнца, ярко-голубое небо оттеняет красные черепичные крыши, и кажется, что даже выцветшая краска на колоннах древних храмов светится.
Афинская агора – большая прямоугольная площадь, окруженная со всех сторон древними портиками. Тот, что справа, посвящен Зевсу; левый, более поздней постройки, – дар молодого пергамского царя, проходившего курс наук в афинской Академии. В центре агоры высится здание Академии – оно построено Агриппой в царствование Августа. Первоначально в нем размещался концертный зал. В прошлом веке оно по неизвестным причинам обрушилось и позднее было отстроено заново; его архитектура сегодня уже менее напоминает римскую, но, на мой вкус, все еще помпезна. Однако что бы я ни думал о внешнем виде этого здания, именно ради него я и приехал в Афины. В его стенах читают лекции знаменитые светила философии. Сюда я приходил три раза в неделю на лекции великого Проэресия – о нем подробнее ниже.
Сразу же за зданием Академии стоят еще два обращенных друг к другу портика, один – у самого подножия Акрополя. Направо, на холме, возвышающемся над агорой, расположен небольшой храм Гефеста, окруженный запущенным парком, а у подножия холма стоят здания городского управления Афин, архив и знаменитый Толос – круглый дом, где заседает афинский ареопаг числом в пятьдесят человек. Афиняне, всему и вся придумывающие прозвища, именуют это необычного вида здание с конической крышей "зонтиком". Раньше в Толосе находилось множество статуй из чистого серебра, но в прошлом столетии их разграбили готы.
Солнце близилось к зениту, и улицы опустели, только легкий ветерок гнал пыль по старой выщербленной мостовой. Мимо меня к Булевтерию спешили несколько важного вида толстяков в дурно сидящих тогах. Как и у всех политиков мира, у них был отсутствующий вид, но, глядя на них, я старался не забывать, что это наследники Перикла и Демосфена.
Затем я ступил под прохладные своды Расписного портика. Некоторое время я ничего не видел – так всегда бывает, когда после яркого света погружаешься в полумрак, – и мне не сразу удалось рассмотреть знаменитое изображение битвы при
Марафоне, которое тянется вдоль всей длины портика; когда же мои глаза вновь обрели способность видеть, я убедился, что эта роспись недаром считается чудом. Двигаясь вдоль стены, можно проследить за ходом всей битвы, а над росписью развешаны круглые персидские щиты, захваченные в тот день, будучи тщательно просмолены, они сохранились до наших дней. Вид трофеев победы, одержанной восемь столетий назад, растрогал меня до глубины души. Эти юноши и их рабы да-да, впервые в истории человечества рабы сражались плечом к плечу со своими господами – сумели, объединив усилия, спасти мир. Не менее важно и то, что они сражались добровольно, по зову сердца, тогда как современная армия в подавляющем большинстве состоит из наемников или рекрутов. Даже в пору, когда империя в опасности, римляне не желают сражаться, чтобы защитить свое отечество. Основа римского могущества ныне – не честь, а золото; когда оно иссякнет, империя падет. Вот почему необходимо возродить эллинскую веру; нужно вернуть человеку чувство собственного достоинства – основу любого цивилизованного общества, благодаря которой и была одержана победа при Марафоне.
Пока я стоял, созерцая просмоленные щиты, ко мне подошел бородатый молодой человек в грязной одежде. На нем был ученический плащ; судя по всему, это был один из порицаемых мною неокиников. В последнее время я немало писал об этих мерзких бродягах и бездельниках, которые мнят себя преемниками философии Кратета и Зенона. Подражая киникам во внешности, они тоже не стригут волос и бороды, ходят с посохом и сумой, нищенствуют. Но философия их нимало не интересует. Если истинные киники презирали богатство, искали добродетели, подвергали все сомнению, дабы постичь истину, их нынешние жалкие подражатели все охаивают, включая и саму истину, и прикрывают маской философии обыкновенную распущенность и безответственность. Если юноша в наше время не желает ни учиться, ни работать, он отращивает бороду, богохульствует и именует себя киником. Стоит ли удивляться, что в наш несчастный век философия снискала презрение у столь многих?








