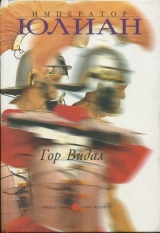
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
– Феодосий – испанец, – сказал он, имея в виду, по-видимому, присущие этому народу неукротимость духа и жестокость. – Одно дело послать ему изящно написанную речь "Отмщение за Юлиана", которая обладает скорее литературными, нежели политическими достоинствами (а я-то думал, моя работа несет огромный заряд политической актуальности!), но совсем другое – бросать прямой вызов церкви, особенно сейчас, когда Христос спас жизнь нашего императора. – Мне всегда трудно угадать, шутит Мелетий или говорит всерьез. Его ироничность с годами настолько усилилась, что в его высказываниях почти всегда чувствуется какой-то скрытый смысл.
Кроме того, Мелетий рассказал мне, что прибытие императора в Константинополь ожидается этой осенью. Вот почему я решил подождать до его приезда, чтобы просить аудиенции. Кроме того, я еще узнал, что мерзопакостный Григорий, недавно ставший епископом, торопит с созывом очередного Вселенского собора. Он назначен на будущий год и соберется, возможно, в столице. Поговаривают также, что Григорий домогается сана епископа Константинопольского. Если вспомнить его удачную карьеру, слухи эти небезосновательны. Впрочем, таким личностям всегда везет. Шлю наилучшие пожелания твоей супруге Гиппии, а также, разумеется, тебе.
Постскриптум: Юлиан так и не успел узаконить моего сына. Религиозная нетерпимость и беспрестанные козни моих соперников-философов помешали проявить гуманность в этом вопросе и всем его преемникам. Моя последняя надежда – почти эфемерная – это Феодосий.
Приск – Либанию Афины, сентябрь 380 г.
Прости меня, что я так задержался с ответом – причиной тому болезнь. Со мной случился легкий удар, от которого угол моего рта завернулся вниз самым неподобающим образом. От этого я стал похож на выходца с того света, и простолюдины, завидев, как я ковыляю по улице в Академию, делают знак от дурного глаза. К счастью, разум мой не пострадал, а если и пострадал, то я этого не замечаю – тоже удача. Так что все в норме.
Сейчас уже точно известно, что зиму Феодосий проведет в Константинополе, и тебе следует добиваться его аудиенции: от Антиохии до Константинополя всего десять дней пути. Мне говорили, что Феодосий вообще-то человек рассудительный, но чудесное исцеление просто застило ему глаза. Трудно сказать, разрешит ли он твою публикацию, но попытка – не пытка, не съест же он тебя! У тебя есть еще один козырь: дружба с императрицей Западной Римской империи. Она принимает в политике самое деятельное участие; поговаривают, что именно с ее легкой руки ее супруг Грациан короновал Феодосия императором. Почаще вспоминай о ней во время аудиенции. Впрочем, не мне учить прославленного квестора Антиохии, как представить дело в наилучшем свете!
Да, ты правильно понял: после Юлиана остался объемистый дневник, в котором подробно, день за днем, описывается персидский поход. Я подумывал было о его публикации и написал к нему примечания, но, чтобы решиться на это, мне надо призанять у тебя мужества – дневник Юлиана значительно опаснее, чем записки. Юлиану, как и мне, было доподлинно известно, что против него готовится заговор, но мне также известно, кто его убийца.
Сейчас я почти закончил примечания к дневнику Юлиана. Из-за удара эта работа замедлилась, но, надеюсь, скоро я к ней вернусь. Если я не решусь на ее публикацию, то с удовольствием продам дневник Юлиана тебе за ту же плату что и записки. Переписчики у нас в Афинах берут столько же, сколько и прежде, а то и дороже.
Надеюсь, твое зрение не ухудшилось; вряд ли в нашем возрасте можно рассчитывать на улучшение. Мой ученик Главк с восторгом рассказывал о вашей встрече прошлой весной, когда он привез тебе записки Юлиана, но его опечалило то, что твое зрение так ослабло. Оривасий умел лечить катаракту без хирургического вмешательства, но я забыл, как ему это удавалось. Обратись к его медицинской энциклопедии – предпочтительно последнему изданию, а если не найдешь, посмотри у Галена. Оривасий, скорее всего, списал этот способ у него.
Гиппия, как всегда, передает тебе наилучшие пожелания. Она бессмертна. Она всех нас похоронит. Во всяком случае, ей явно не терпится похоронить меня. Мы вот уже не один год следим друг за другом, прикидывая, кто кого переживет. До удара мне казалось, у меня солидная фора, но теперь не уверен. Когда я слег, Гиппия вся так и затрепетала и несколько дней, "присматривая" за мной, была весела, как птичка.
Либаний:В довершение ко всему Приск, оказывается, еще и вор! Мы же, кажется, ясно договорились: я получаю все, что осталось после Юлиана, за восемьдесят солидов, а теперь он припрятывает самое важное – и мне ничего не остается, как подчиниться его грабительским притязаниям и платить вновь! По правде говоря, я очень надеюсь, что Гиппия вскорости овдовеет. Приск просто невыносим!
Приск - Либанию Афины, октябрь 380 г.
Посылаю тебе обещанный дневник Юлиана. Мои обширные примечания к нему можешь использовать как тебе угодно. От удара я немного ослаб, но, похоже, память и способность связно излагать мысли у меня не пострадали. Некоторые примечания я надиктовал Гиппии. Их ты отличишь по почерку – он точь-в-точь как у ребенка. Поскольку она теперь мой секретарь, я плачу ей жалованье: она за грош удавится. Она до сих пор меня пилит за то, что я не сумел сколотить нам состояние, будучи приближенным Юлиана. Впрочем, ты-то разбогател задолго до того, как Юлиан стал императором. Помню, как поразил меня твой роскошный особняк в Антиохии, а ты к тому же в разговоре небрежно обмолвился, что недавно послал корабль с грузом на Крит. Повезло Симону, что у него такой богатый отец! Не сомневаюсь, Феодосий удовлетворит твою просьбу и узаконит его.
Я, между прочим, осторожненько позондировал почву среди нескольких лиц, близких ко двору. Все, с кем мне довелось разговаривать, сходятся на том, что государь, скорее всего, не позволит опубликовать книгу, в которой Юлиан будет представлен в чересчур выгодном свете. Не стоит и говорить: я помалкивал о том, что после него остались записки и дневник, но и так ясно – узнай Феодосий и епископы об их существовании, они бы не остановились ни перед чем, чтобы их уничтожить; достаточно вспомнить, с каким усердием пытаются очернить историю царствования Юлиана. Прерогатива любой власти – изображение прошлого в нужном для себя свете. Вот почему до тех пор, пока христианская империя не окрепнет, Юлиан должен исчезнуть из народной памяти или, по крайней мере, превратиться в отвратительное чудовище. Не хочу тебя обескураживать, но факты – вещь упрямая.
По правде сказать, я рад, что документы больше не хранятся в моем доме и попали в такие хорошие руки; я просто хочу предостеречь тебя от возможной опасности, так как недавно мне довелось побеседовать с самим прославленным Авзонием, который сейчас у государя в большой милости. В прошлом месяце, когда он посетил Афины, мне удалось к нему подольститься.
Авзоний невысок ростом, но держится с большим достоинством и производит впечатление человека властного. Однако стоит ему открыть рот, как от этого впечатления не остается и следа. Сразу становится ясно, что он таков же, как все мы, – неуверенный в себе, робкий чиновник, втайне обуреваемый непомерным тщеславием. К тому же он заикается. На приеме у проконсула он заявил, что рад видеть столько выдающихся интеллектуалов и государственных деятелей вместе, поскольку-де рассматривает тебя как "некий мост" между теми и другими. В ответ все присутствующие дружно завиляли хвостами, чтобы он не преминул заметить, как мы его любим и с каким нетерпением ждем от него сладкой косточки. Окончив, он взял меня за руку и заявил, что всегда мною восхищался. Что мне оставалось делать, как не воспроизвести в ответ цитату из его виршей?
– Я всегда восхищался тобою, П-П-Приск, и р-р-р-рад видеть тебя живым и здоровым.
– Я также рад тебя видеть, консул, – заулыбался я в ответ, восторженно глядя сверху вниз на эту нелепую фигурку, завернутую в консульскую мантию. Я рассыпался в похвалах его многочисленным творениям, а он – моим многочисленным умолчаниям. Все академики следили за нами с завистью, доставлявшей мне немалое удовольствие. Затем – как мне кажется, довольно удачно – я постарался свернуть разговор на Юлиана, и Авзоний сразу нахмурился:
– Нет-нет, мы этим совсем недовольны, совсем, совсем.
Я в ответ пробормотал что-то о том, как редко бывает человек довольным. Тут годится любая цитата из Софокла.
– Феодосий очень недоволен этой историей с останками. Очень недоволен. Но она настояла.
– Какими останками? Кто настоял? – недоуменно спросил я.
– Его. Юлиана. Их недавно п-п-перенесли. Из Тарса в Константинополь. По указанию императора Грациана или, т-т-точ-нее, его с-с-супруги. – Труднее всего Авзонию даются буквы "п", "т" и "с"; поставив тебя об этом в известность, я снимаю с себя обязанность сохранять его манеру речи и изложу суть нашей беседы своими словами.
Прошло немало времени, прежде чем Авзоний, спотыкаясь на каждом слове, изложил мне суть дела. Как выяснилось, твоя приятельница императрица Постумия, последняя из рода Флавиев, внезапно осознала: законность всего престолонаследия основана лишь на ее отдаленном родстве с Юлианом! Поэтому-то Постумия и заставила своего муженька Грациана перенести останки Юлиана из Тарса в константинопольскую церковь Святых Апостолов. Теперь его прах покоится рядом с матерью Константина Еленой. Могу себе представить, как ужаснулись бы они оба от такого соседства. Хотя Авзоний ничего об этом не сказал, мне кажется, Постумия и Грациан начинают осознавать истинный масштаб личности Юлиана. Как-никак они живут в Галлии, а галлы после Августа признают лишь одного императора – Юлиана. Все, кто там побывал, рассказывали мне, что о нем по-прежнему отзываются с благоговейной любовью, а простой народ верит, что на самом деле Юлиан вовсе не умер. Он спит в пещере под горой. Его охраняет дракон – герб его рода, и, если когда-нибудь Галлии будет угрожать опасность, Юлиан проснется и встанет на защиту рейнской границы. Понадобится немало усилий, чтобы вытравить эту легенду из памяти европейцев.
Разговор зашел о тебе. Авзоний тобою восхищен – а кто нет? Он рассказал мне, что Феодосий высоко оценил твое "изящное" (!) сочинение "Отмщение за Юлиана", но считает его не более чем блестящим упражнением в риторике. Не сомневаюсь, ты ставил перед собой другую цель, но, полагаю, тебе придется довольствоваться похвалой императора.
– А как отнесся бы двор к тому, чтобы, к примеру, я опубликовал книгу о Юлиане – ну, скажем, о его персидском походе?
Авзонию попалось слово, начинающееся с буквы "м", и он чуть не задохнулся. Наконец, еще больше чем обычно заикаясь, он стал выталкивать из себя яростные фразы:
– Исключено! Для Грациана и Феодосия Юлиан – исчадие ада. Лишь из почтения к сединам Либания Феодосий отнесся благосклонно к его речи. Но хватит! Все! Мы, конечно, не собираемся преследовать язычников (этим "мы" он напомнил мне Максима; неужели все деятельные друзья принцепсов так нещадно злоупотребляют этим местоимением?), но сделаем все от нас зависящее, чтобы старая вера поскорее отмерла.
– Ты читал, надеюсь, два эдикта Феодосия? Это еще не все. Но я не стану вдаваться в подробности. Это преждевременно.
– И все же Либанию удалось написать речь в защиту Юлиана.
– Только один раз. Мы слышали, что он готовит к публикации книгу о Юлиане (нет-нет, он узнал об этом не от меня). Ты же его старый друг, отговори его от этой затеи. Мне известно, что у него к нам личная просьба. Не могу сказать, какая именно, но он послал нам прошение. Так вот. Как говорится, услуга за услугу. Обязательно передай ему это. – Думаю, он имел в виду твоего побочного сына Симона. Так или иначе, такова суть моей беседы с Авзонием. Может быть, во время личной аудиенции с императором тебе удастся достигнуть большего.
Вот дневник Юлиана. Не все в нем понятно стороннему человеку, к тому же он изобилует лакунами. Я в меру своих сил постарался восполнить пробелы. Уже почти месяц я живу этими трагическими событиями и сам удивляюсь, сколько мне удалось припомнить, когда я напряг то немногое, что еще осталось от моей памяти.
Мой рот по-прежнему зловеще искривлен, но зрение и речь не пострадали, к удивлению – чуть было не написал "разочарованию" – моего врача. Врачи любят, чтобы мы сходили в могилу медленно, чинно и необратимо. Как твоя подагра и глаза? Гиппия, чей изящный почерк ты сейчас читаешь, передает тебе привет (как она мне мило улыбнулась!). Я к ней присоединяюсь.
-XX-
ДНЕВНИК ЮЛИАНА АВГУСТА
Каллиник на реке Евфрат
27 марта 363 г.
Ждем флот. Он должен был подойти сюда раньше нас. Каллиник – богатый, хорошо укрепленный город. Настроение в войсках бодрое. Диктую в экипаже по дороге к реке. Сегодня праздник Матери Богов, и в Риме проводится большое празднество, а здесь у меня будет малое. Жарко. Вокруг меня толпятся люди. Диктую секретарю и приветственно машу толпе. Я в церемониальном облачении. Рядом Максим и Приск. Местные жрецы ждут на берегу реки. Люди, толпящиеся вокруг нас, темнокожие, руки у них длинные и тонкие. Они тянутся ко мне, как вьющиеся побеги виноградной лозы. Голоса у людей резкие, как у египтян.
Приск:Это первая запись в дневнике Юлиана. Большая его часть написана собственноручно. Юлиан обычно писал его поздно ночью, кончив диктовать записки. Этот день в Калли-нике запомнился мне как один из хороших дней. За время похода их было так мало, что каждый сохранился в памяти достаточно отчетливо.
Нашего прибытия на церемонию ожидало несколько тысяч человек, толпившихся по берегам Евфрата; некоторых привело религиозное чувство, но большую часть – простое любопытство. Евфрат – широкая илистая река, окруженная холмами. Была весна, и холмы зеленели.
Как всегда, благодаря умелому руководству Юлиана все обряды прошли как по маслу. На сей раз в числе прочих глупостей нам надлежало загнать повозку с изображением богини в реку и совершить ее ритуальное омовение. Юлиан промок до нитки, но весь сиял, исполняя свои обязанности великого понтифика. Затем он дал нам обед (если, конечно, толченые бобы, местные лепешки и жестковатая свежая оленина заслуживают такого названия) в доме городского префекта. Все мы были в отличном расположении духа.
Как я писал тебе в одном из своих писем (по крайней мере, считаю, что писал: я теперь частенько забываю, сказал ли я в действительности то, что намеревался, или мне это только померещилось), лишь немногие генералы входили в ближайшее окружение Юлиана. Во-первых, по ночам они предпочитали спать; кроме того, как говаривал красавчик Аринфей, у военных от Аристотеля голова болит. Тем не менее эти офицеры, сопровождавшие Юлиана в походе, были людьми исключительными – достаточно сказать, что трое из них позднее стали императорами.
Военачальники Юлиана подразделялись на две категории: христиане-азиаты и эллины-европейцы. Первые в свое время поддерживали Констанция, вторые – Юлиана.
В интересах истории мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями о высших офицерах.
Азиаты
Комит Виктор:С виду типичный сармат – низкий рост, кривые ноги, большая голова, глаза светлые и раскосые, как у гунна. По-гречески и по-латыни изъяснялся с варварским акцентом. Заядлый христианин, Виктор глубоко презирал философское окружение Юлиана, а я ему всегда не доверял,
Аринфей:Юлиан уже дал его портрет в своих записках. Кроме красоты, он больше ничем не выделялся. Аринфей и Виктор были предводителями христианской партии.
Иовиан:Человек необычайно высокого роста, даже выше меня; во всяком случае, был бы выше, если бы не сутулился. Большой любитель поесть и выпить, но при этом нисколько не толстел. Все считали Иовиана тупицей, и я, со своей стороны, безоговорочно присоединяюсь к общему мнению. Своим неожиданным возвышением после смерти Юлиана Иовиан в значительной степени обязан обширным родственным связям в высших кругах: он сын знаменитого полководца Варрониана и женат на дочери небезызвестного комета Луцилиана. Мне рассказывали, что у Иовиана было очень тяжелое детство – до семнадцати лет он жил «в походных условиях» с отцом, поборником строжайшей дисциплины. Под началом Иовиана была гвардия.
Европейцы
Невитта:Человек могучего телосложения, огромный, краснолицый, голубоглазый; в то время ему было около сорока.
Этот необразованный мужлан обладал несомненными достоинствами: он был отличным воином и к тому же боготворил Юлиана. Тем не менее вся наша братия его не переносила, но он, к его чести, не платил нам той же монетой. Он считал нас недостойными даже своего презрения.
Дагалаиф:Всегда приветлив и благожелателен. Он был светловолос и коренаст (должен ли хороший воин обязательно быть светловолосым? Может, нам провести с учениками диспут на эту тему?). Дагалаиф блестяще владел греческим и латынью. Он замечательно ездил верхом, и легендарной стремительностью маневра всех своих войск Юлиан во многом обязан его военному таланту. Кроме того, Дагалаиф жадно стремился приобщиться к цивилизации и часто обращался ко мне за рекомендательными списками литературы для прочтения. Три года спустя, став консулом, он сочинил в мою честь панегирик, в котором сделал на удивление мало ошибок.
Салютий Секунд:Немолодой, тихий человек. Мы с ним отлично ладили, хотя мало общались, – просто в окружении молодых наши седины и морщины как-то тянулись друг к другу. Будучи преторианским префектом, он избавлял Юлиана от множества докучливых мелочей. Из этого великолепного администратора вышел бы отличный монарх.
Среди остальных придворных следует упомянуть гофмаршала Анатолия – этот симпатичный маленький толстячок обладал редкостной способностью запутывать именно те дела, где требовался железный порядок. Остановлюсь также на писце по имени Фосфорий, поступившем на государственную службу по настоянию семьи. Благодаря одному лишь упорному труду и личным достоинствам он сумел добиться места в Священной консистории – карьера поистине единственная в своем роде, я никогда больше не слыхал о чем-либо подобном! Что касается друзей Юлиана из среды философов, ты всех их видел в Антиохии, за исключением жреца-этруска Масгары. Думаю, ты догадываешься, что он собой представлял.
Во время похода мы обычно становились лагерем на закате солнца. Как только разбивали палатку Юлиана, он приглашал нас на ужин – меня с Максимом, а также иногда кого-нибудь из командиров. Первое время Юлиан был в отличном расположении духа и имел на то все основания. Скорость, с которой мы продвигались вперед, совершенно деморализовала Шапура. Погода стояла отличная, и в полях зрел богатый урожай. Всё обещало нам скорую победу, всё, кроме предзнаменований.
Палатка Юлиана была довольно просторна – все-таки в ней жил император, – но комфортом не блистала, в этом палатка любого из генералов ее превосходила. Припоминаю, что в ней стояли два больших складных стола, несколько складных стульев, табуреты и массивные сундуки. В них хранились государственные бумаги и небольшая библиотека, сопровождавшая Юлиана во всех его походах. На треножниках стояло несколько светильников, но горел почти всегда только один – Юлиан сам удивлялся своей скаредности, но если вспомнить о бездумной расточительности его предшественников, то это не порок, а скорее добродетель. В углу стояла кровать, покрытая темной шкурой льва; ее отгораживал тканый персидский ковер.
Войдя в палатку, мы неизменно заставали Юлиана за диктовкой. Он улыбался нам и знаком приглашал садиться, а сам продолжал диктовать, причем не было случая, чтобы он при этом сбился с мысли. Его работоспособность поражала, причем он не делал почти ничего лишнего, просто он сам занимался многими делами, которые обычно поручают секретарям или евнухам. Полностью исчерпав силы одних секретарей, Юлиан посылал за другими. Все они жаловались, что он слишком быстро диктует, и это была правда. Казалось, он предчувствовал, как мало времени ему осталось, чтобы запечатлеть на пергаменте мысли, теснившиеся у него в голове. Нам хорошо известны его знаменитые постскриптумы. Не успев запечатать письмо, он тотчас открывал его снова, чтобы нацарапать что-то, вдруг пришедшее ему на ум, и всегда извинялся: "Я пишу быстро, не переводя дыхания". К ужину пальцы у него всегда были в чернилах.
Перед едой Максим или я читали вслух Гомера, а Юлиан внимательно слушал и мыл руки в простой глиняной чашке. Еда всегда была скудной; впрочем, вкусы Юлиана в отношении пищи тебе хорошо знакомы. Поужинав с ним, мне всегда приходилось поздно ночью подкрепляться, а Максим, я уверен, являлся к ужину сытым. Иногда к нам присоединялся Салютий, для генерала человек очень неглупый, или Аринфей – этого я всегда считал редкостным занудой. Между прочим, несколько лет назад он наведался в Афины, и его вид меня просто потряс: Аринфей облысел и обрюзг. Хотя я всегда его недолюбливал, я чуть не заплакал при виде того, как обезображивает человека время. Но до слез дело не дошло: едва Аринфей открыл рот, я понял, что он все тот же. Завидев меня на приеме у проконсула, он глупо захохотал и завопил на весь зал охрипшим от битв и вина голосом: "А у меня от твоего Аристотеля до сих пор голова трещит!" Вот, боюсь, и все, что нашлось у нас сказать друг другу после того как мы не виделись столько лет – поистине целую историческую эпоху.
Я уже писал, что военные и философы редко встречались у Юлиана за столом. Однако тот вечер в Каллинике был одним из немногих исключений – два мира, к которым принадлежал Юлиан, встретились лицом к лицу.
Сидя в углу, я с изумлением наблюдал, как перевоплощается Юлиан в зависимости от собеседника. До некоторой степени все мы, общаясь с различными людьми, имеем обыкновение надевать разные маски, но Юлиан перевоплощался полностью. С галлами он был галлом – его голос становился хриплым, и он хохотал во все горло. С азиатами он вдруг становился изысканным и непроницаемым – сущий Констанций, и лишь обращаясь к кому-нибудь из друзей-философов, он снова становился собой… Собой ли? Нам не дано знать, каким был Юлиан на самом деле: стремительным гением-полководцем или обаятельным студентом, помешанным на философии. По-видимому, в нем это уживалось, но становилось как-то не по себе, когда он на глазах превращался в совершенно незнакомого человека, к тому же вызывающего антипатию.
Мое уединение нарушил Виктор: он подошел и попросил разрешения присесть. Я ответил ему идиотской улыбкой – откуда у всех нас эта дрожь в коленках при виде офицера? – и пролепетал: "Бога ради, комит". Он грузно опустился на стул; от него пахло вином, но пьян он не был.
– Далековато ты забрался от афинской Академии, – начал он.
– Да, – согласился я. – Впрочем, Галлия тоже была далеко, взять хотя бы битву при Страсбурге. – И я тут же мысленно выругал себя за похвальбу воинскими заслугами. Истинный философ избегает касаться чуждых ему сфер, всегда оставаясь в пределах своей компетенции. Но я никогда не был идеальным философом – таково общее мнение.
– Да-а… Галлия, – многозначительно протянул Виктор. Я никак не мог определить, каково его настроение и что он этим хочет сказать. Мы оба молча следили за Максимом; вокруг него собралась группа молодых офицеров, зачарованно слушавших очередные его бредни. Окладистая борода Максима была тщательно расчесана, а одет он был в халат из шафраново-желтого шелка – по его словам, дар китайского колдуна. Думаю, на самом деле он раскопал эту диковину на антиохийском базаре.
– А ты можешь заставить своих богов явиться нам? – вдруг спросил Виктор. – Вот как он? – Поскольку Виктор считал ниже своего достоинства называть Максима по имени, я ощутил к нему минутную симпатию.
– Нет, – ответил я. – Боги не удостаивают меня вниманием. Впрочем, и я не нарушаю их покой.
– Ты веруешь? – спросил он с такой страстью, что я непроизвольно повернулся и взглянул на него. Мне никогда в жизни не приходилось заглядывать в такие холодные глаза, как те, что сверлили меня из-под густых белых бровей. Все равно что столкнуться глаза в глаза со львом.
– Верую во что?
– В Христа.
– Я верю, что он существовал, – пришел я в себя, – но богом его не считаю.
И вновь рядом со мной сидел римский военачальник.
– Нас ждет затяжная война, – произнес он безразличным тоном, будто о погоде. – Но мы победим.
Юлиан Август
3 апреля
Мы уже два дня как в Керкузии, в девяноста восьми милях к югу от Каллиника. Все идет по плану.
28 марта, когда я еще находился в Каллинике, перед городскими воротами появились четыре сарацинских племени. Их вожди пожелали меня видеть. Трудно найти в мире народ более дикий и ненадежный, нежели сарацины. Они живут в шатрах, не строят даже жалких хижин и не обрабатывают и клочка земли, а беспрестанно скитаются по пустыням Ассирии, Египта и Марокко. Питаются они дичью и тем, что растет само по себе. Мало кому из них доводилось отъедать хлеба или вина. Воевать сарацины любят, но по своим правилам. Они навязывают противнику свою тактику быстрых ударов, для чего специально выводят породы резвых лошадей и верблюдов, однако единственной целью войны для них является грабеж, и в регулярном сражении они бесполезны. Лучше всего использовать сарацинов для разведки и изматывания врага.
Салютий отговаривал меня от встречи с ними:
– Они предложат помощь тебе, а потом и Шапуру – если уже не предложили, – и в конечном счете предадут обоих.
– Значит, будем бдительны, – невозмутимо ответил я и приказал впустить сарацинских вождей. Это были низкорослые, жилистые, насквозь прокаленные солнцем люди. Одеты они были в свободные плащи, доходящие до колен, и короткие кожаные штаны. Лишь один из десятка вождей говорил по-гречески.
– Государь, мы пришли засвидетельствовать правителю мира почтение. – Сарацин подал знак одному из своих сородичей, и тот вручил ему шелковый сверток. Вождь развернул шелк, и показалась тяжелая золотая корона. Одному Гермесу ведомо, с какого царя они ее содрали (возможно, вместе с головой). Приняв корону, я произнес перед ними краткую речь, на которую сарацинский вождь ответил:
– Государь, мы желаем быть твоими союзниками в войне против Шапура. Наше мужество славится по всей пустыне. Наша преданность властителям настолько выше обычной человеческой, что граничит с божественной… – Тут Салютий закашлялся, а я даже не решился поднять на него глаза. – Значит, государь, в пустыне с нами тебе не придется опасаться…
Тут, к ужасу Анатолия, аудиенцию прервал Невитта. Он ворвался в зал и закричал:
– Август, флот пришел! – Стыдно сказать, но мы все, как малые дети, бросились наружу. Я оставил сарацинов на попечение Салютия, а сам в сопровождении всей консистории поспешил на пристань. Вся река, насколько хватало глаз, была покрыта кораблями. 50 в. к., 64 п., 1403 г. с, ком. Луц.
Приск:На этом дневниковая запись кончается. Буквы и цифры обозначают, что прибыло 50 военных кораблей, 64 понтона для наведения мостов, 1403 грузовых судна с провиантом, оружием и осадными машинами. Командовал флотом комит Луцилиан. Если помнишь, он в свое время был комендантом Сирмия и Дагалаиф ночью захватил его в плен. Хотя Луцилиан во всех отношениях был сущим посмешищем, Юлиан пользовался его услугами, так как считал его важным звеном, связывавшим отдельных людей и целые семейства, правящие миром. Несмотря на обширные размеры империи, ее настоящие правители, по существу, – одна маленькая сплоченная семья. Все высшие военачальники были знакомы между собой или, по крайней мере, слышали друг о друге, и единственная тема их бесед выглядела так: «А как там старина Марцелл? Еще не развелся? А повышения не получил?»
Стоя на берегу реки, Луцилиан ожидал прибытия императора и Священной консистории. Он по всем правилам церемониала приветствовал Юлиана и торжественно вручил ему флот. Вдруг Дагалаиф спросил: "Эй, Луцилиан, а где твоя ночная рубашка?", и все захохотали. Только Юлиан пробормотал сквозь зубы: "Заткнись, Дагалаиф". Я заметил, что
Иовиан, приходившийся Луцилиану зятем, нахмурился. Видно, шутка и ему пришлась не по вкусу.
Юлиан Август
4 апреля
Я набрасываю эти заметки, отпустив секретарей, которым три часа подряд диктовал свои воспоминания. Уже занимается заря, и я совсем охрип. Мы по-прежнему стоим в Керкузии. Это большой город, хорошо укрепленный еще Диоклетианом. Он выстроен на мысе у места впадения в Евфрат реки Аборы, по которой традиционно проходит граница между Римом и Персией. Керкузий – наш последний форпост, а затем мы вступаем на территорию неприятеля.
Всю ночь войска переправлялись через реку. Саперы жалуются на то, что река разлилась от весенних дождей, но жаловаться – это их обычай. Пока что выстроенный ими понтонный мост держится. Разведка не встречает никаких следов персидской армии: по словам сарацинов, Шапур ошеломлен нашим внезапным нападением. Он, видимо, не ожидал нас раньше мая. Значит, он еще не собрал свою армию, нам это весьма на руку. И все же для такого прекрасного начала войны мои энергия и оптимизм оставляют желать лучшего. Только что я получил из Парижа длинное письмо от Саллюстия. Добрые предзнаменования не внушают ему доверия, и он просит меня не вторгаться в Персию. Он сходится с Либанием в том, что мне следует остаться в Константинополе и довести до конца начатые реформы. Как всегда, его доводы безупречны, и это сильно на меня действует.
Этим вечером я всех отослал, а Максима попросил задержаться. Я показал ему письмо Саллюстия, заметив при этом, что, коль скоро в политических вопросах Саллюстий редко ошибается, надлежит, по крайней мере, обсудить его совет. Максим согласился. Начал он с того, что стал расточать Саллюстию настолько неумеренные похвалы, что я никак не мог понять, почему у меня сложилось впечатление, будто они друг друга недолюбливают. Почти час мы с Максимом анализировали все доводы за и против продолжения персидского похода. Мы решили, что его надо продолжать. Правда, Максим заметил, что история знает сколько угодно примеров, когда полководцы собирали армию и не начинали войну. Констанций, к примеру, делал это ежегодно, поскольку считал, что сбор армии сам по себе устрашает противника. Возможно, так оно и есть.
– Но Саллюстию неизвестно то, что известно нам, – заметил я наконец, имея в виду явление Кибелы Максиму.
– Есть еще кое-что, неведомое ему. – Максим устремил на меня взгляд своих лучезарных глаз, повидавших столько тайного и запретного. – Я не открывал этого даже тебе.
Последовало томительное ожидание. Хорошо зная Максима, я не торопил его и ждал, слушая, как пульсирует у меня в висках кровь.








