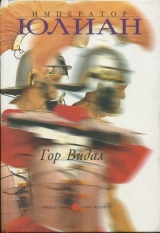
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Ему не дали договорить. Снизу послышались возгласы, что сам Бог внушил императору мысль сделать меня цезарем. С этим я не мог не согласиться, хотя бог, которого они имели в виду, и Единое, поднявшее меня на такую высоту, – далеко не одно и то же. Выкрики, казалось, были совершенно стихийными, хотя, очевидно, все было тщательно подготовлено и отрепетировано заранее. Констанций ненадолго умолк, как бы внимая оракулу. Моя рука, которую он сжимал, покрылась потом, но он ни на миг не ослабил свою мертвую хватку. Когда на площади снова воцарилась тишина, Констанций важно кивнул головой:
– Довольно. Я вижу, что получил ваше одобрение.
С этими словами он отпустил мою руку и подал знак. На помост тотчас же поднялись два генерала. У одного в руках был венок, у другого – пурпурный плащ. Они подошли и встали позади нас.
– Спокойная сила и умеренность во всем, которыми славится этот юноша (на слове "умеренность" Констанций сделал особое ударение, чтобы не подумали, что я – еще один Галл), достойны скорее подражания, нежели упоминания. Ему также присущи добрый нрав и выдающийся ум, изощренный во всех благородных искусствах, что подвигло нас на решение его возвысить. Итак, да почиет на нем благословение небес в тот час, когда я облекаю его в порфиру.
Мне тут же накинули на плечи пурпурный плащ, и Констанций собственноручно застегнул его мне на шее. Мы стояли лицом к лицу: он – на своей подставке, а я – спиной к площади, и он лишь один-единственный раз взглянул мне в глаза, и то украдкой. Что это был за взгляд! В нем сквозили страх и неуверенность – резкий контраст с непринужденным величием его движений и спокойным голосом.
Вся жизнь Констанция была наполнена ужасом – вот что прочел я в этих больших глазах. Возлагая венок мне на голову, он даже зажмурился, как больной, над которым занесли нож хирурга. Но вот он снова взял меня за руку и развернул лицом к площади. Солдаты хотели отдать мне честь, но Констанций движением руки остановил их. Он что-то еще хотел сказать. Его слова были обращены ко мне, но смотрел он вниз, на легионеров. Не зная, куда мне следует смотреть, я растерянно переводил взгляд с него на ряды солдат.
– Брат мой, самый дорогой на свете человек! – провозгласил Констанций. – Достигнув зрелых лет, ты по праву своего происхождения получил знаки власти. Я наделяю тебя властью, почти равной собственной (Констанций особо выделил слово "почти"), и должен признать: разделив власть со своим родичем, благородным принцепсом, я тем самым приумножаю и свою славу. Иди же, раздели со мною все тяготы и опасности, защити Галлию и освободи ее от захватчиков во что бы то ни стало. А если понадобится сразиться с врагом, помни: твое место в первых рядах, рядом со знаменосцами, дабы своею отвагой вселять бодрость в сердца столь же отважных воинов. Связанные тесными узами братской любви, мы будем во всем споспешествовать друг другу, и если Бог услышит наши молитвы, в государстве воцарится мир и мы будем царствовать в нем с кротостью среди общего покоя. Где бы ты ни был, знай – я всегда помню о тебе и не подведу тебя ни в одном из твоих начинаний. Итак, поспеши и с честью оправдай наши надежды и титул, дарованный тебе великим Римом и нашим Господом. Мы возносим за тебя молитвы. Привет тебе, о цезарь!
На последних словах Констанций возвысил голос. Приветствие подхватили стоявшие внизу легионы – казалось, грянул гром. У меня хватило присутствия духа ответить: "Привет тебе, Август!" Солдаты повторили и это приветствие. Я отдал Констанцию честь, а затем повернулся и отдал честь легионам. Это было вопиющее нарушение воинского устава. Генералам не положено отдавать честь солдатам – только знаменам, однако я допустил эту бестактность искренне. После минутного замешательства легионеры разразились одобрительными криками и с силой ударили щитами по поножам. В армии это высший знак одобрения, а заодно и самый громоподобный – когда этот грохот прокатился по площади, я подумал, что сейчас оглохну. Несравненно страшнее, однако, когда солдаты начинают постукивать древками копий по щитам – это означает неодобрение, а затем обычно следует бунт.
Констанций, стоявший рядом, напрягся – на такое он не рассчитывал. Видимо, он решил, что все это придумано заранее, но уже ничего не поделаешь – я стал цезарем. Констанций поспешно сошел с помоста, я последовал за ним. Еще одна неловкая минута – взойдя на колесницу, Констанций смерил меня долгим взглядом и затем подал знак подняться. Я вскарабкался на колесницу, и, стоя рядом, мы двинулись сквозь строй ликующих солдат. И вдруг я почувствовал, что люблю их всех, будто нас только что поженили. Подобно многим бракам по сговору, этот, хотя и выглядел странно, оказался счастливым.
Колесница медленно катила по площади к дворцу. Констанций хранил молчание, я не решался с ним заговорить. Мне не давало покоя то, что в колеснице не было подставки, и я возвышался над ним – еще один дурной знак. Я ехал и твердил про себя строчку из Илиады: "Очи смежила багровая смерть и могучая участь". Во дворце мы с Констанцием, не проронив ни слова, разошлись в разные стороны. Моя следующая встреча с императором произошла через несколько дней.
* * *
Став цезарем, я прежде всего послал за Оривасием. Он был в Афинах, куда приехал через неделю после моего отъезда. Кроме того, я пригласил к себе Максима и Приска. Дожидаясь их, я продолжал заниматься военным делом и старался как можно тщательнее изучить систему административного управления Галлии.
В это время я не виделся ни с кем из членов императорской фамилии, не исключая и моей нареченной супруги. Тем не менее день нашего венчания был назначен, и мне принесли для ознакомления необходимые бумаги. Среди них, в частности, был подробный план часовни, на котором были четко обозначены все мои передвижения во время обряда бракосочетания.
При дворе у меня не было ни одного близкого человека, если не считать евнуха-армянина Евферия, который еще в Константинополе обучал меня придворному этикету. Каждый вечер мы с ним подолгу засиживались за государственными бумагами; Евферий добросовестно выполнял порученную ему задачу – приобщить меня к искусству управления государством.
Накануне свадьбы Евферий принес неожиданное известие: мне предстоит отбыть в Галлию в начале декабря.
– В какой город?
– Во Вьен. Там ты проведешь зиму, а весной начнешь кампанию против германцев. – Он пристально посмотрел мне в глаза. – Скоро ты возглавишь армию. Тебе это не кажется странным?
– Странным?! – взорвался я. – Да это сущее безумие! Евферий встревоженно указал рукой на занавеси. Возле них стояли часовые, а за ними наверняка прятались соглядатаи, надеясь подловить меня на какой-нибудь крамоле. Понизив голос, я продолжал:
– Конечно, странно: я в жизни не видел боя, не командовал ни одним солдатом – об армии и речи нет! И все-таки…
– И все-таки?
– И все-таки я не боюсь. – Я не раскрыл ему своих истинных чувств: на самом деле я предвкушал грядущую кампанию.
– Рад слышать! – улыбнулся Евферий. – Дело в том, что меня только что назначили хранителем опочивальни при дворе цезаря Юлиана. Я отправляюсь с тобой в Галлию.
Услышав эту радостную весть, я заключил Евферия в объятия, что-то радостно бормоча. Ему пришлось остудить мой пыл:
– Ну-ну, цезарь, где римская сдержанность? Это уже азиатчиной попахивает.
– Что поделаешь, я и в самом деле азиат! – рассмеялся я, и вдруг Евферий вскочил на ноги. С быстротой, неожиданной для его возраста, он исчез под темной аркой напротив и через мгновение появился, ведя богато одетого смуглого человека.
– Цезарь, – сурово и торжественно произнес Евферий, – позволь представить тебе Павла, начальника тайной полиции. Он желает засвидетельствовать тебе свое почтение.
Такой поворот дела меня нисколько не удивил. Всю жизнь я находился под надзором. То, что теперь его осуществлял лично начальник тайной полиции, напомнило лишь об одном: чем выше я поднимаюсь, тем важнее для Констанция за мною следить.
– Мы всегда рады видеть верных слуг государя, – учтиво сказал я. Павел никак на это не отреагировал. Пламя светильников играло в его зрачках, крючковатый нос делал его похожим на огромную хищную птицу. Поклонившись, он с легким испанским акцентом проговорил:
Я шел в восточное крыло дворца с докладом Руфину, преторианскому префекту.
– В восточное крыло так обычно не ходят, – дружелюбно заметил Евферий.
– А что мне еще сказать? – Павел развел руками; они походили на лапы хищной птицы, готовой схватить добычу.
– Ты можешь попрощаться с нами, а преторианскому префекту передай, что тебе не удалось подслушать ничего примечательного.
– Я передаю только то, что слышу сам, цезарь, – с поклоном ответил Павел. Это уже была скрытая издевка.
– А если ты тут еще побудешь, – сказал я, – то услышишь, как приближается твоя смерть! – Похоже, это подействовало, хотя с моей стороны это было чистое бахвальство. У меня не было никакой власти. Одно его слово, и меня могли низложить. Однако я хорошо понимал: если меня назначили цезарем, нужно суметь себя поставить с евнухами и осведомителями. В противном случае их презрение мне обеспечено – и тогда мне несдобровать. Павел удалился.
– Ну что, опять азиатчина? – насмешливо спросил я Евферия, хотя сердце у меня так и прыгало. Он покачал головой:
– Думаю, с ним только так и надо обращаться. Сейчас, во всяком случае, тебе ничего не грозит.
– Но он явно плетет очередную сеть.
– Возможно, сам в ней и запутается.
Я кивнул: именно Павел стоял в свое время у истоков интриги, погубившей моего брата. Той ночью в миланском дворце я задумал свою собственную интригу.
* * *
День моей женитьбы… Как странно человеку, давшему обет безбрачия, писать эти слова! И тем не менее 13 ноября 355 года состоялось мое бракосочетание. Не буду описывать омерзительные галилейские обряды. Достаточно сказать, что я все выдержал, сгибаясь под тяжестью порфиры, усыпанной казенными драгоценностями. Позднее в Галлии я их продал, чтобы набрать войско,
После венчания император устроил в нашу честь пышные празднества и состязания. Елена была в восторге от оказываемых ей почестей – в этом она походила на брата. Я же только покорно исполнял то, что от меня требовалось. Спустя несколько дней после свадьбы меня пригласили на аудиенцию к императрице.
– Ну, что ты теперь думаешь о жизни? – спросила она, лукаво сверкнув глазами.
– Всем в ней я обязан тебе, – с горячностью ответил я.
– А как тебе Елена?
Она моя жена, – дипломатично сказал я и вновь поймал на себе ее заговорщицкий взгляд.
– Она очень… недурна собой, – с явным злорадством произнесла императрица.
– Да, такая благородная внешность… – В ответ я чуть не расхохотался, но вспомнил, что нужно соблюдать правила игры.
– Скоро ты уезжаешь?
– Я рад этому, хотя мне и тяжело покидать… Милан (на самом деле я хотел сказать: "тебя").
– Нет, тебе здесь не место, – покачала она головой. – Мне, кстати, тоже, но… – Она умолкла, не сказав главного. После паузы она продолжила: – Зиму ты проведешь во Вьене. Денег…
– …У меня маловато. – Евсевии уже уведомил меня, что выделить дополнительные ассигнования на содержание моего двора не представляется возможным, а посему я вместе со своими приближенными должен буду существовать исключительно на жалованье цезаря.
– К счастью, ты неприхотлив.
– А Елена?
У Елены есть свои деньги, – резко возразила Евсевия. – Пусть на них и живет. Ей принадлежит пол-Рима.
Я сказал, что рад это слышать, и не покривил душой.
– Надеюсь, – продолжала Евсевия, – что у тебя скоро появится сын – это важно не только для тебя, но и для всех нас. – Смелость этих слов меня просто покорила. Как раз этого она не могла желать, так как в этом случае ее собственное положение становилось уязвимым. Вместо того чтобы уступать моему сыну права престолонаследия, Констанций вполне мог развестись и взять себе другую жену, которая подарила бы ему то, чего он так страстно желал.
– А я надеюсь, – спокойно ответил я императрице, – что Бог наградит тебя многочисленным потомством. – Евсевия в свою очередь не поверила мне, и наш разговор перестал клеиться: о чем бы мы ни говорили, все звучало фальшиво, и нам обоим это было неприятно. И все же я до сих пор считаю, что императрица в глубине души желала мне добра – во всем, за исключением этого больного для нее вопроса.
В конце концов нам удалось переменить тему разговора, и Евсевия открыла мне, что думает обо мне Констанций.
– Скажу тебе откровенно, – вырвалось у Евсевии; фактически это было признание в том, что до сих пор разговор был неискренний. Ее лицо еще больше погрустнело, а длинные пальцы стали нервно теребить складки хламиды. – Август колеблется и не может принять окончательного решения. Естественно, ему нашептывают, что ты хочешь его свергнуть…
– Ложь! – Я так и взвился, но она знаком приказала мне умолкнуть.
– Я знаю, что это ложь.
– И это всегда останется ложью! – В ту минуту я сам в это верил.
– Войди в его положение. Сколько у него было врагов – так как ему тебя не бояться?
– Проще всего отправить меня в Афины: уж там-то я буду не опасен.
– Страх страхом, но ты ему нужен. – Императрица подняла на меня глаза, и я с удивлением прочел в них испуг. – Юлиан, мы теряем Галлию, – объяснила она.
Я лишился дара речи.
Утром Констанций получил из Вьена донесение от преторианского префекта. Не знаю его содержания, но боюсь худшего. Германцы уже захватили все города по Рейну. Начни они наступление зимой, Галлии конец, если только… – Она поднесла руку к алебастровому светильнику, пламя просвечивало сквозь пальцы. – Юлиан, помоги! – Я, как последний дурак, бросился к ней, решив, что она обожглась. – Ты должен быть верным нам и обязан помочь!
– Клянусь всеми богами, клянусь Гелиосом и… – Евсевия меня остановила, даже не заметив, что я, распалясь, поклялся истинными богами:
– Будь с ним терпелив. Ты всегда будешь у него под подозрением, таков уж его характер. Но пока я жива, тебе ничего не грозит. Если же со мною что-нибудь случится… – Она впервые дала мне понять, что нездорова. – Что бы ни случилось, храни ему верность.
Не помню, что я ей ответил, – без сомнения, еще и еще раз заверял в своей преданности, причем абсолютно искренне. Когда настала пора прощаться, Евсевия сказала:
– Я приготовила тебе подарок. В день отъезда ты его увидишь. – Я поблагодарил ее и удалился. Несмотря на страдания, которые Евсевия причинила мне в последующие два года, я до сих пор ее люблю. В конце концов, это ей я обязан не только троном, но и жизнью.
* * *
На рассвете первого декабря я отправился в Галлию. Я попрощался с Еленой, которая должна была приехать ко мне во Вьен позднее. Евнухи постарались и специально для этого случая сочинили сценарий церемониального прощания цезаря с молодой женой перед отбытием в провинцию на войну. Исполнив этот ритуал, я спустился во двор принять командование своей армией. Меня сопровождал только что прибывший Оривасий.
Во дворе мерзли три сотни пехотинцев и горсточка конников. Я было решил, что это моя охрана, и хотел справиться о местонахождении галльской армии, но тут ко мне подошел хмурый Евферий.
– Я только что говорил с хранителем священной опочивальни. Оказывается, в последнюю минуту император изменил приказ. Твои легионы посланы оборонять границу по Дунаю.
– Так это что, моя армия? – спросил я, указывая на солдат.
– Боюсь, что так, цезарь.
Никогда в жизни не был я так разгневан и едва не наговорил много лишнего. Но тут появился Констанций. Я отдал императору честь, он с серьезным видом ответил тем же. Затем он сел на вороного коня, я – на белого. Его личная охрана (в два раза многочисленнее моего "войска") выстроилась за ним; мои солдаты и приближенные замыкали строй. Вот так император и его цезарь собирались обрушить мощь Рима на варваров – и смех и грех!
Редкие в этот час прохожие почтительно приветствовали нас. Особый восторг вызвали мы у торговок на овощном базаре у городских ворот: восхищенные нашим бравым видом, они махали нам вслед пучками моркови и репы.
Мы хранили молчание, пока не выехали на большую дорогу, которая пересекает Ломбардскую равнину; вдалеке виднелись пики Альп… Император изъявил желание проводить меня до двух колонн, стоящих по обе стороны дороги между Лоумелло и Павией. Он, очевидно, решил, что это дает нам возможность поговорить без свидетелей. Его расчеты оправдались.
– Мы всецело доверяем Флоренцию, нашему преторианскому префекту в Галлии, – начал Констанций. Он произнес это таким безапелляционным тоном, что я понял: мое мнение его не интересует. Поэтому я сказал только: "Да, Август", а про себя с яростью подумал: "А как же! Если бы ты не доверял, давно бы его прикончил", – и стал ждать. Мы проехали еще несколько шагов. Наши кони шли так близко друг к другу, что иногда мы соприкасались поножами, раздавался зловещий скрежет, и мы инстинктивно шарахались в стороны. Чужие прикосновения всегда были мне в тягость, близость убийцы отца волновала и тревожила.
Мы обогнали несколько телег, груженных домашней птицей. Завидев нас, возчики сворачивали на обочину. Ослепленные видом священной особы императора, крестьяне бросались на землю ниц, но Констанций не удостаивал их вниманием.
– Мы любим нашу сестру Елену, – продолжал он вещать тоном оракула. В холодном утреннем воздухе его голос далеко разносился по равнине.
– Мне, Август, она тоже дорога, – в тон ему ответил я. Я боялся, как бы он не принялся инструктировать меня по части исполнения супружеских обязанностей, но и этой темы он больше не касался. И вдруг мне стало ясно: этими рублеными, чеканными фразами Констанций давал мне понять – я по-прежнему нахожусь под его неусыпным надзором. И хотя цезарь по положению выше преторианского префекта, мне надлежит беспрекословно ему повиноваться и при этом не забывать, что Елена верна прежде всего своему брату и государю и только потом мужу.
– Мы наслышаны от твоего наставника в военном деле, что ты подаешь надежды.
– Я не подведу тебя, Август. И все же я полагал, что должен идти в Галлию с армией, а не с эскортом.
На это Констанций никак не отреагировал и продолжал:
– Ты поздно стал солдатом. Надеюсь, ты сумеешь овладеть необходимыми в этом деле знаниями, – это звучало не очень обнадеживающе, но было вполне естественно. Кто мог подозревать, что у студента философии окажется полководческий талант? Как ни странно, я в себя верил. Если боги возвысили меня, разве могут они оставить меня теперь? Но Констанций не подозревал о моих чувствах и тем более не мог судить о моих способностях. Перед ним был всего лишь молодой необученный солдат, которому предстояло помериться силой с самыми свирепыми воинами во всем мире.
– Помни всегда: в глазах подданных мы богоподобны, и небеса нам покровительствуют.
Я решил, что "мы" относится в равной мере к нам обоим, хотя не исключено, что он имел в виду одного себя, и я ответил: "Не забуду, Август". Я всегда называл его "Август", хотя он предпочитал, чтобы к нему обращались "государь". Я ненавижу этот титул и избегаю его, так как он превращает императора из первого среди людей в их хозяина.
– Не спускай глаз с генералов. – Хотя его тон оставался неизменным и, казалось, речь по-прежнему идет о прописных истинах, это было уже нечто, похожее на совет, возможно, даже начало доверительной беседы на равных. – Офицеров нельзя допускать в сенаторы. Армия должна находиться под неусыпным надзором гражданских властей. Посылая офицера в провинцию, следи, чтобы он был чином ниже ее наместника. Не позволяй военным совать нос в гражданские дела. В руках наших преторианских префектов сосредоточена и военная, и гражданская власть – в этом залог стабильности в империи.
Само собой разумеется, я не сказал, что падение Галлии едва ли свидетельствует о стабильности, но в советах Констанция было немало здравых мыслей, и я до сих пор стараюсь им следовать. Ему нельзя было отказать в государственной прозорливости и умении управлять страной.
– Теперь о налогах. В этом вопросе будь тверд. Никакой пощады городам и селениям, не платящим подати своевременно. Они всегда жалуются, так уж они устроены. Исходи из того, что сборщики податей честны. Они, разумеется, всегда воруют, но никому еще не удалось найти против этого средства. Удовлетворись тем, что они отдают тебе большую часть собранного.
Впоследствии мне удалось опровергнуть его слова, реорганизовав систему сбора налогов в Галлии, но об этом ниже.
– Следи за генералами, – снова повторил Констанций, будто забыв, что уже говорил об этом. Тут он повернулся в седле и впервые за весь день взглянул мне в лицо. Меня поразила внезапная перемена. Вместо бога солнца, восседающего на коне, передо мною был человек – мой брат, мой враг, мой государь, ныне возвысивший меня, но способный в любой момент предать меня смерти. – Ты должен знать, что у меня на душе. – Это были уже слова человека, а не оракула. – Империя разваливается, и наш трон под угрозой. Провинции восстают. Города горят. Гибнут целые армии. Варвары захватывают наши земли, а мы заняты междоусобной грызней вместо того, чтобы противостоять настоящему врагу. Так вот, цезарь, самое главное: не давай своим генералам слишком большой власти, иначе они воспользуются этим и поднимут против тебя бунт. Ты сам видел, что мне пришлось вынести: нашей власти угрожал один самозванец за другим. Будь бдителен.
– Буду, Август.
– Как и я, – медленно произнес он, глядя мне прямо в глаза, и отвернулся, лишь удостоверившись, что я его понял. Тогда он для большей убедительности заключил: – Мы никогда еще не уступали ни пяди земли самозванцам, так будет и впредь.
– Пока я жив, Август, хотя бы на один верный меч ты можешь рассчитывать.
В полдень мы подъехали к двум колоннам. День выдался ясный; несмотря на прохладную погоду, солнце пригревало, и под доспехами наша одежда промокла от пота. Было решено сделать привал.
Мы с Констанцием сошли с коней; он поманил меня за собой, и мы, спотыкаясь на стерне, побрели через промерзшее поле. Кроме наших солдат, кругом не было ни души. В любой сельской местности крестьяне, завидев вооруженных людей, спешат скрыться: солдаты, будь то свои или чужие, для них всегда враги. Когда только это изменится?
Вслед за Констанцием я подошел к заброшенному небольшому храму Гермеса на краю поля (добрая примета – Гермес всегда мне покровительствовал). За нашими спинами солдаты поили лошадей, поправляли доспехи, болтали и переругивались, радуясь хорошей погоде. Едва Констанций вошел в храм, я сорвал увядший цветок и шагнул следом. В нос ударил запах испражнений; Констанций, стоя посреди храма, мочился на пол. Занятно, но даже в этот момент ему удалось сохранить величественный вид.
– Жаль, что эти старые храмы в таком запустении, – вырвалось у меня в нарушение всех правил этикета.
– Жаль? Их давно пора снести. – Констанций опустил тунику. – Видеть их не могу.
– Да, конечно, – пробормотал я.
– Здесь я тебя покидаю, – произнес Констанций. Мы стояли лицом к лицу, и я, как ни старался пригнуться, все-таки был вынужден смотреть на него сверху вниз. Констанций, желая казаться выше, инстинктивно попятился.
– Ты получишь все, что потребуется, только дай знать. На преторианского префекта можно положиться. Он правит нашим именем. Легионы во Вьене стоят в полной боевой готовности, ожидая начала весенней кампании. Готовься и ты. – Он вручил мне толстый свиток. – Это инструкции. Прочти на досуге. – Он помолчал и вдруг что-то вспомнил: – Кстати, – сказал он, – императрица сделала тебе подарок. Его везут в обозе. По-моему, это целая библиотека.
Я рассыпался в благодарностях, но Констанций думал о другом. Он пошел к выходу, но вдруг остановился и обернулся, желая что-то сказать. Я залился краской. Мне хотелось взять его за руку и заверить в том, что ему не следует меня бояться, но я не решился. Ни он, ни я не могли взглянуть друг другу в глаза.
– А если ты достигнешь этого, – проговорил он срывающимся голосом и неловким жестом указал на диадему, имея в виду власть над миром, – помни… – Внезапно его голос оборвался, будто его схватили за горло. Он не мог говорить, не находил слов. Я тоже.
Позднее я часто гадал: что было у него на уме? О чем мне следует помнить? О том, что жизнь коротка? О том, что власть горька? Нет, для него это было слишком глубокомысленно. Вряд ли он хотел одарить меня каким-нибудь прозрением. И все же, когда я мысленно возвращаюсь к этому разрушенному храму (а происходит это довольно часто, он мне даже снится), мне кажется, он хотел сказать мне всего лишь: "Не забывай меня". Если ты имел в виду это, брат, можешь быть спокоен. Я помню все: хорошее и плохое.
Не успел Констанций выйти, как я тотчас возложил увядший цветок на оскверненный пол и прошептал короткую молитву Гермесу, а затем последовал за императором через поле к дороге.
Сев на коней, мы попрощались согласно церемониалу, и Констанций повернул обратно в Милан; холодный ветер развевал над его головой знамя с изображением дракона. Это была наша последняя встреча.








