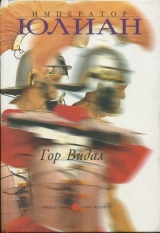
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Павел-Цепь, "комит сновидений" Меркурий и Гауденций также были казнены – и поделом. Та же участь постигла и Евсевия, а его огромные богатства были конфискованы в пользу государства, у которого он их награбил.
И тут случилось самое гнусное. Мало кто из политических деятелей нашей упадочной эпохи был способен всегда так откровенно и невзирая на последствия высказывать свое мнение обо всем, как Урсул. Он с самого начала раскусил, чем руководствуется Арбецион, и заявил во всеуслышание, что он думает об этих процессах. Ко всеобщему изумлению, Урсула вскоре арестовали по приказу Арбециона. Суд над ним был величайшей мерзостью. Те, кто на нем присутствовал, рассказывали мне – Урсул попросту издевался над Арбеционом и требовал у суда, чтобы ему точно указали, в чем его вина перед Юлианом и какое отношение он имеет к смерти Галла. Мне приходится довольствоваться устными свидетельствами, так как протоколы суда таинственным образом исчезли, зато у меня был откровенный разговор с Мамертином, который с ужасом рассказывал об этом кровавом фарсе. Он изложил мне все во всех подробностях, не щадя и себя. Все члены суда, в том числе Юлиан, пошли на поводу у злой воли Арбециона, и на каждом из них лежит своя доля вины.
Против Урсула выставили лжесвидетелей, но их показания были настолько шиты белыми нитками, что он их без труда опроверг. Тут даже Арбецион мог бы отступиться, но у него в запасе был последний довод, и этот довод сработал. Дело в том, что Урсула судил военный трибунал, который заседал в армейском лагере, где стояли два легиона. Между тем Урсул снискал среди военных лютую ненависть своим знаменитым высказыванием на развалинах Амиды: "Вот как храбро защищают нас солдаты, содержание которых разоряет государство!" Внезапно Арбецион бросил эту фразу в лицо Урсулу, и присутствовавшие на суде офицеры и солдаты стали в один голос требовать его головы. Они ее получили. Не прошло и часа, как Урсул был казнен.
В январе, когда я приехал в Константинополь, об этой истории говорил весь город. Я задал вопрос о деле Урсула Юлиану и сразу понял, что он уклоняется от прямого ответа.
– Я не знал, что происходит, – оправдывался он, – Вся полнота судебной власти принадлежала Салютию, и исход процесса удивил меня не меньше других.
– Но приговор был вынесен от твоего имени.
– Любой деревенский мировой судья выносит приговоры от моего имени. Неужели мне отвечать за все судебные ошибки?
– Согласно римскому праву, ты мог не утвердить смертный приговор…
– Трибунал действовал самовольно, я ничего об этом не знал.
– Тогда членов этого трибунала следует предать суду как изменников. Они узурпировали право казнить и миловать, принадлежащее исключительно тебе.
– Но трибунал был вполне законен. Я учредил его своим эдиктом.
– Тогда они наверняка должны были уведомить тебя о смертном приговоре и…
– Я не знал!! – Юлиан был в бешенстве.
Я больше никогда не касался этой темы, но в Персии он вдруг заговорил о деле Урсула сам. Мы рассуждали о правосудии, и тут вдруг Юлиан признался:
– Труднее всего в жизни мне было позволить суду осудить невиновного.
– Урсула?
– Юлиан кивнул. Он, видимо, уже позабыл, как заверял меня, что ничего не знает о происходящем в Халкедоне:
Я ничего не мог поделать. Армия требовала его крови. Когда суд признал Урсула виновным в измене, я был вынужден оставить приговор в силе, хотя знал, что он невиновен.
– Кого ты хотел умилостивить, армию или Арбециона?
– Обоих. В то время мое положение было еще непрочным. Я нуждался в любой, даже минимальной, поддержке. Сегодня все было бы по-другому. Я бы оправдал Урсула, а Арбециона отдал под суд.
– Но тогда – не сегодня, и Урсула не вернешь.
– Очень жаль, – все, что нашелся ответить Юлиан. Это один из немногих известных мне случаев, в которых Юлиан проявил малодушие, и это привело к печальным последствиям. Впрочем, как бы мы вели себя на его месте? По-другому? Думаю, нет. Юлиан хотя бы как-то постарался загладить свою вину. По закону имущество казненных изменников конфискуется, но в этом случае было сделано исключение. Все имущество Урсула перешло к его дочери.
Либаний:По-моему, в этом случае Приск проявляет чрезмерную сентиментальность. Он сам признает, что не видел протоколов суда. Откуда же ему знать, какие были представлены улики против Урсула? Я, в отличие от Приска, не берусь предрешать, как бы я действовал в той или иной ситуации, пока тщательно не исследую всех сопутствующих обстоятельств. В жизни нужно руководствоваться именно такой эмпирикой, в противном случае я ввел бы в заблуждение три поколения учеников.
Юлиан Август
Всю жизнь до меня доходили смутные слухи о том, что происходит в дворцовых покоях, отведенных евнухам. Я, однако, был склонен считать их вздорными сплетнями, ведь обо мне самом рассказывали небылицы еще почище. Честно говоря, я не искал подтверждения этим слухам, но как-то Оривасий настоял на том, чтобы мы разобрались во всем сами. И вот в один прекрасный вечер я закутался в плащ с капюшоном, а Оривасий оделся сирийским купцом: завил себе волосы, смазал их маслом и приклеил жирно блестевшую фальшивую бороду.
Вскоре после полуночи мы вышли из моих покоев и по черной лестнице спустились в залитый лунным светом внутренний двор. Прячась в тени, как заговорщики, мы скользнули к противоположному крылу дворца, где живут евнухи и мелкие чиновники. Под портиком Оривасий подошел к третьей двери с юга и трижды постучал.
– Который час? – спросил из-за двери приглушенный голос.
– Наш час настал, – назвал пароль Оривасий, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы мы смогли протиснуться внутрь. Открывший нам карлик поздоровался и указал на тускло освещенную лестницу:
– Все только начинается.
Оривасий дал ему монету. На галерее второго этажа глухонемые рабы провели нас в обеденный зал, когда-то принадлежавший Евсевию. Роскошью этот зал не уступал моему! Вдоль стен стояли обеденные ложа, на которых возлежало около полусотни разряженных евнухов – ну прямо шелковая лавка! Перед каждым ложем был накрыт стол, ломившийся от яств.
Даже на концерте (как я по своей наивности полагал) евнухи не могли обойтись без чревоугодия.
В дальнем конце зала помещались несколько мест для так называемых "лиц, приближенных ко двору". Там сидели офицеры-доместики, которые обильно подкреплялись вином. Я был совершенно сбит с толку, но не решался открыть рот. Не дай бог кто-нибудь узнал бы мой голос! Мардоний, это счастливое исключение среди евнухов, часто говаривал: "Голос Юлиана – не лира, а медная труба".
Мы заняли места в первом ряду, рядом с центурионом легиона геркуланов, который уже был сильно навеселе. Ткнув меня в бок, он пробормотал: "Не будь таким кислым! И сними этот капюшон, а то ты похож на грязного монах-ха!" Окружающие сочли эту шутку необычайно удачной и вдосталь повеселились на мой счет, пока бойкий на язык Оривасий не пришел мне на выручку.
– Бедняга из деревни, – объяснил он (к моему удивлению, на чистейшем антиохийском наречии), – и не хочет, чтобы видели его заплатанную тунику.
– Он что, будет выступать? – Центурион подвинулся ближе, меня обдало его дыхание. Дух был как из винного бурдюка. Зажав рукой капюшон, я отодвинулся.
– Нет, – ответил Оривасий. – Он приятель Фаларида. – Услышав это, центурион сразу оставил нас в покое, а Оривасий прошептал мне на ухо: "Фаларид – наш хозяин. Вон он, в середине". Посмотрев туда, куда он указывал, я увидел тучного степенного человека с высокомерно поджатыми губами. Мне показалось, я где-то его уже видел, но где?
– Это главный дворцовый повар, – пояснил Оривасий, – а значит, по смерти Евсевия самый богатый человек при дворе.
Я тяжело вздохнул. Слуги императора всегда безбожно его обворовывают.
Зазвучали кимвалы, и в зал строевым шагом вошла колонна доместиков. Остановившись перед Фаларидом, они жестом, которым положено приветствовать императора, отдали ему честь. В ярости я чуть было не вскочил на ноги, но Оривасий усадил меня на место. Между тем солдаты выстроились вдоль стены и затянули любовную песню! Но худшее ждало нас впереди.
В зал ввели пятьдесят бедно одетых юношей. Они двигались как-то неуверенно и явно не знали, что делать, пока кто-то из доместиков не заставил одного из них опуститься на колени перед Фаларидом. Остальные последовали его примеру. Затем евнух знаком велел им сесть на пол как раз напротив нас. Я никак не мог понять, что происходит. Судя по одежде, юноши были явно не артистами, а простыми ремесленниками, какие во множестве слоняются по аркадам любого города, глазея на женщин.
Затем в комнату пригнали, как стадо овец, пятьдесят молодых девушек. "Лица, приближенные ко двору" вокруг меня восхищенно зашептались: девушки были на редкость хороши собой и страшно напуганы. Их медленно обвели вокруг зала и приказали сесть на пол рядом с юношами. Девушки эти также были одеты в обычное платье – значит, это не были танцовщицы или гетеры. Я обратил внимание на то, что евнухи рассматривали их почти с таким же интересом, как и окружавшие меня мужчины. Мне это казалось непонятным, но Оривасий уверяет, что евнухи, особенно те, кого оскопили уже в зрелом возрасте, к своему несчастью, сохраняют плотские желания. Желание не исчезает от неспособности его удовлетворить.
Появились музыканты, заиграла музыка, и перед нами стали плясать сирийские танцовщицы. Думаю, они хорошо знали свое дело. Они неистово раскачивались, подпрыгивали высоко в воздух и изображали всякие непристойности с чашами, как это и положено в таком танце. Воспользовавшись тем, что все увлеклись зрелищем, я похлопал по плечу юношу, сидевшего на полу предо мной. Он вздрогнул и в страхе обернулся – лицо его от испуга побелело как полотно. На вид ему было не более восемнадцати, судя по белой коже и серым глазам, это был македонец, а большие мозолистые руки с черными ногтями выдавали в нем ученика кузнеца или ювелира.
– Что, господин? – спросил он прерывающимся от волнения шепотом.
– Зачем вас сюда привели?
– Не знаю, господин.
– Но как ты сюда попал?
– Они… – Он указал на доместиков. – Я шел домой с серебряного рынка – я там работаю, – а они меня схватили и заставили идти вместе с ними.
– А сказали зачем?
– Нет, господин. Нас не убьют, правда? – Ничто не может сравниться со страхом простолюдина, оказавшегося в незнакомом месте.
– Нет, – сказал я твердо, – вас не тронут.
Между тем сирийских танцовщиц сменили женщины, одетые жрицами египетской богини Киры. Их ритуальные жесты были мне знакомы, но все же, думаю, это были не настоящие жрицы, а просто гетеры, изображающие священные эротические танцы. Для нынешней карнавальной ночи это было вполне естественным началом. Они исполнили перед нами все таинства Киры, включая обряд оплодотворения с огромными деревянными фаллосами. Последний эпизод привел "лиц, приближенных ко двору" в восторг, и они принялись громко рукоплескать, а евнухи в экстазе вздыхали и мерзко хихикали. Хотя мне и не очень нравится культ Киры, такое осквернение ее таинств меня возмутило.
Но вот и "жрицы" удалились. Несколько коренастых доместиков подняли юношей и девушек и заставили пройтись парами перед ложами евнухов. Это походило на прогулку молодых людей на празднике в провинциальном городке, только двигались они уж очень неловко и вид у них был смущенный и затравленный. Так прошло несколько минут, и вдруг Фаларид поманил к себе одну из пар. Это послужило сигналом для других евнухов, и они кинулись выбирать себе жертву, шипя, как стадо рассерженных гусей.
Внезапно Фаларид протянул руку и разорвал платье девушки на плече; оно соскользнуло к ее ногам. Вокруг меня послышались возбужденные возгласы. Я от неожиданности просто оцепенел. Девушка попыталась прикрыть платьем грудь, но Фаларид снова рванул; на этот раз платье из дешевого полотна с треском разорвалось донизу и осталось у него в руке. Девушка осталась стоять нагой, скрестив руки на груди, будто жертва, приведенная на заклание. Затем, повернувшись к юноше, Фаларид задрал подол его туники до самого живота. Послышался громкий смех: под туникой у бедняги было голое тело. Схватив одной жирной рукой девушку, бледную от стыда, а другой – юношу, совсем пунцового от смущения, Фаларид повалил их на ложе.
Другие евнухи тоже бросились срывать одежды с перепуганных до смерти жертв. Никто не оказал им сопротивления, только какой-то юноша непроизвольно отшатнулся, и тогда один из доместиков с силой ударил его плашмя мечом по ягодицам. В этой чудовищной сцене что-то показалось мне смутно знакомым. Лишь несколько дней спустя я понял, что именно: так дети разворачивают подарки. Евнухи во всем уподобились жадным детям. Они срывали одежды с юношей и девушек точно так же, как дети срывают обертку с только что полученного подарка, желая поскорее узнать, что там внутри. Своими короткими пальцами они ощупывали нагие тела, подобно детям, перебирающим новые игрушки; особенно их привлекали половые органы, как мужские, так и женские Представьте себе пятьдесят огромных младенцев, играющих вместо кукол живыми людьми, и вы поймете, что видел я той ночью.
Оцепенев от изумления, я сидел бы там, наверное, целую вечность, не упади мой взгляд на юношу, с которым я только что говорил. Он лежал распростертый на коленях у евнуха, напуганная девушка обильно поливала ему живот медом из ковша, а евнух тем временем ласково его поглаживал, готовя к бог знает какому разврату. С меня было довольно.
Я встал и вышел на середину зала. Один из доместиков грубо схватил меня за плечо, и капюшон свалился, открыв лицо. Этого было достаточно. Музыканты один за другим умолкли. Никто не двинулся с места. Никто не издал ни звука. Только молодые люди тупо, безо всякого интереса смотрели на меня. Я подозвал к себе трибуна, сидевшего в первом ряду. Среди присутствовавших офицеров он был старшим по званию. Он подошел и дрожащей рукой отдал мне честь. Указав на юношей и девушек, я тихо, так, чтобы только он один мог слышать, приказал: "Этих по домам". Затем я повернулся к Фалариду:
– Всех евнухов арестовать. Присутствующих доместиков – под домашний арест.
В наступившей гробовой тишине мы с Оривасием покинули пиршественный зал.
Оривасий считает, что я принял происходившее слишком близко к сердцу из-за обета безбрачия, но дело вовсе не в этом. Основополагающий принцип любого цивилизованного общества заключается в том, что ни один человек (тем более получеловек) не имеет права подчинять своей воле другого. Будь юноши и девушки гетерами по доброй воле, я бы, может, и простил евнухов, но той ночью – а как выяснилось, она была далеко не единственной – в пиршественном зале творилось жестокое беззаконие.
Приск:Юлиан часто вспоминал об этой ночи в покоях евнухов, и, по-моему, он наивно придает ей чрезмерное значение. Дурные привычки дворцовых евнухов общеизвестны, и едва ли увиденное было для Юлиана полной неожиданностью. Что и говорить, неприятно узнать, что подобное творится у тебя под носом, но число придворных римского императора составляет двадцать пять тысяч человек, и дворец – это целый маленький мир, во всем подобный большому. Однако если Юлиан что-то вобьет себе в голову, возражать ему бесполезно. Он прогнал всех евнухов до единого, и жизнь во дворце превратилась в ад кромешный. Прежде всего, никто не знал, где лежат припасы, и каждый день приходилось снаряжать экспедиции для поисков на чердаках и в подвалах. В результате разразилось несколько новых скандалов. Так, в подвалах дворца Дафны был обнаружен целый тайный монетный двор, на котором несколько предприимчивых доместиков чеканили фальшивую монету.
За время моего знакомства с Юлианом я заметил, что он старательно избегает соприкосновения с некоторыми сторонами человеческой жизни. Одной из них была плотская любовь. Он сделал вид, что был шокирован забавами евнухов со свободными людьми, которых те принуждали служить своим утехам. Это, конечно, дурно, и в порядочном обществе так поступать не принято. Естественно, подобного нельзя допускать, но что в этом такого поразительного? Юлиан между тем пишет и часто говорил мне, будто был свидетелем какого-то ни с чем не сравнимого кошмара. На самом деле это далеко не так.
В конце концов я спросил его напрямик: известно ли ему, что творили его солдаты в германских и франкских селениях? Знает ли он, что они в своей похоти не щадили ни женщин, ни мужчин, ни детей? Юлиан пустился было в отвлеченное теоретизирование о жестокостях войны в целом, но я припер его к стене и вырвал признание: он действительно слышал о таких случаях (насколько мне известно, он лично наказал за изнасилования не менее десятка солдат), но всегда считал их неизбежными издержками войны. Вообще, простодушие и наивность Юлиана в некоторых вопросах меня поражали. Обет безбрачия, который он дал после смерти Елены, не был, как некоторые (в том числе одно время и я) считают, позой. Юлиан совершенно искренне умерщвлял свою плоть – поэтому, кстати, он не любил чужих прикосновений и избегал появляться там, где можно было увидеть обнаженное человеческое тело, особенно в банях.
Думаю, евнухи так поразили его не только потому, что он обладал властью поступать так же, как они, но и потому, что он желал в глубине души так поступать. Он ужасался своим подсознательным желаниям, но ничего не мог с собою поделать. Обрати внимание, как подробно описывает он все происходящее, и, главное, заметь, что его возмущает – это не сладострастные сцены, а то, что евнухи проделывали все это со свободными людьми, а не с рабами. У нашего Юлиана, как и у всех нас, было в душе что-то от Тиберия, и он отчаянно это ненавидел.
Что касается меня, то я уже двадцать лет мучаюсь одним вопросом: зачем евнух поливал ученику среброкузнеца половые органы медом? В чем состоял его замысел? Какая роль отводилась девушке? И почему именно мед? Мне остается лишь строить предположения и сожалеть о том, что Юлиан так рано прекратил пир. Но в одном я уверен: этот евнух просто был поваром и часто приправлял дичь медом. Вот и здесь он поступал в соответствии со своими привычками.
Либаний:Странно, но похоже, что Приск под старость сделался сластолюбив. Лично я не ощущаю в себе ничего от Тиберия, скорее наоборот.
-XVII-
Юлиан Август
Констанций редко выступал в сенате по той простой причине, что не мог произнести сколько-нибудь длительную речь без того, чтобы не запнуться, потерять логическую нить или не наделать грамматических ошибок. Поэтому в здании сената он почти никогда не бывал, а в тех редких случаях, когда возникала такая необходимость, вызывал сенаторов в тронный зал дворца Дафны, где мог обратиться к ним в неофициальной обстановке.
Сделавшись императором, я вернулся к традиции Октавиана Августа, считавшего себя всего лишь первым среди римских граждан. По этой причине первого января 362 года я пешком пересек площадь и явился на заседание сената просто в качестве одного из его членов. Отцы-сенаторы, как мне показалось, сделали вид, будто обрадовались моему жесту, и в оставшиеся месяцы моего пребывания в Константинополе я часто посещал их заседания. Нет нужды добавлять, что я не упустил ни одного случая, чтобы выступить!
Согласно обычаю, вновь назначенные консулы должны за свой счет устраивать для народа празднества с состязаниями. Мамертин не был исключением и устроил на ипподроме трехдневные гонки колесниц, на которых я в знак благоволения к нему был вынужден присутствовать. Эти три дня показались бы мне вечностью, если бы не внимание зрителей. Всякий раз, когда я появлялся на ипподроме, толпа приветствовала меня оглушительным ревом. Мне говорили, что Констанций за двадцать пять лет не смог добиться такой любви народа. Поскольку я слышал это несколько раз от разных людей, возможно, это правда, а не обычная лесть.
В первый день скачек я с любопытством рассматривал различные произведения искусства, которые Констанций установил в центре беговой дорожки: обелиски, колонны, бронзовые памятники. Особенно красива колонна, свитая из трех бронзовых змей, на верхушке которой на золотом треножнике водружена золотая чаша, принесенная греками в дар Аполлону Дельфийскому в знак благодарности за победу над Персией. Чтобы украсить свою столицу, Констанций не стыдился похищать даже такие святыни, но скоро я их все возвращу на место. Однако в тот день чаша навела меня на мысль о Дельфах, и у меня возникла идея.
– Нам следует обратиться к оракулу, – сказал я Оривасию.
– Какому? – Оривасий считает, что частыми жертвоприношениями, а также обращениями к гадателям и оракулам я так застращал будущее, что оно мне окончательно покорилось.
– Единственному на свете. Дельфийскому.
– А он еще действует?
– Узнай.
– Мне идти сейчас или подождать до конца состязаний? – рассмеялся Оривасий.
– Нет, но ты все равно хочешь съездить в Грецию. Если поедешь, заверни в Дельфы и обратись к пифии.
На том мы и порешили и стали думать, о чем нам следует спросить пифию, но тут привели рабов, которых предстояло отпустить на свободу. По древнему обычаю, именно с этого должны начинаться новогодние праздники и ввод новых консулов в должность. Рабы выстроились перед подиумом, и я с радостью произнес формулу, которая по закону делает их свободными, но толпа вдруг ахнула. Я не сразу понял, в чем дело, а Мамертина, сидевшего справа от меня, происшедшее сильно позабавило.
– Август, освобождать рабов и открывать состязания положено консулу, – сказал он.
Смутившись, я крикнул в толпу:
– За узурпацию консульских полномочий налагаю на себя штраф в десять фунтов золота!
В ответ раздался громкий смех и одобрительные крики. Думаю, все сошло благополучно.
* * *
4 февраля 362 года я издал закон о свободе совести. Каждый стал волен поклоняться тому богу, которому пожелает, и притом любым способом. Галилейская вера перестала быть государственной, и галилейские священники вновь были обязаны платить все налоги и муниципальные сборы. Кроме того, я вернул из ссылки всех епископов, сосланных Констанцием, и даже разрешил вернуться в Александрию «врагу рода человеческого» Афанасию, хотя и не счел возможным вернуть ему епископский сан. Среди возвращенных мною изгнанников был Аэций, которому я никогда не забуду положительного отзыва, данного обо мне Галлу.
Вскоре после моего въезда в столицу в Александрии произошел очень неприятный инцидент. Епископ Георгий, мой старый учитель, в конце концов сумел отобрать у Афанасия место епископа Александрийского. Как и следовало ожидать, Георгий очень скоро настроил против себя всех горожан: был он, как известно, человек спесивый и капризный и к тому же не переставал упорно преследовать сторонников Афанасия. Каплей, переполнившей чашу терпения александрийцев, было решение снести храм Митры и построить на его фундаменте галилейский храм. Когда мои братья по Митре справедливо воспротивились такому святотатству, Георгий выставил на всеобщее обозрение какие-то черепа и кости, а также непристойные предметы, которые он якобы обнаружил в Митреуме и считал свидетельствами человеческих жертвоприношений. Отвратительная история!
В конце концов, когда в Александрии узнали, что покровитель Георгия Констанций умер, толпа взяла дворец епископа приступом и растерзала Георгия. Затем его труп привязали к верблюду и волоком протащили через весь город на берег моря. Там тело Георгия сожгли и пепел бросили в воду. Произошло это 24 декабря. Узнав об этих событиях, я написал александрийцам гневное письмо, в котором угрожал примерно их наказать. Отцы города ответили мне множеством извинений и пообещали сами найти зачинщиков расправы. Через некоторое время Афанасий в сопровождении толпы фанатиков явился в Александрию и снова занял опустевшее место епископа. Едва ли не первым его деянием в этом качестве было "крещение" жены моего наместника. Тут мое терпение лопнуло, и я вновь сослал Афанасия. Я хотел, чтобы все поняли; возвращая изгнанных епископов, я вовсе не намерен вернуть им прежнюю власть, особенно если они такие заклятые враги эллинской веры.
Библиотеку епископа Георгия – вероятно, лучшую в Азии – я взял себе. Она мне дорога как память, ибо в ней сохранились те самые книги, которые сформировали мое нынешнее мировоззрение. Собрание сочинений Плотина, которое я взял с собой в поход, также принадлежало Георгию. Остальные книги из его библиотеки остались в Константинополе – это ядро будущей библиотеки Юлиана.
Мой эдикт от 4 февраля произвел на всех самое благоприятное впечатление. Правда, епископы-ариане возроптали. Они отлично понимали, что возвращение сосланных никейцев оживит старые раздоры и ослабит галилейскую церковь. Вот именно! Сейчас они уже схватили друг друга за горло. Также по моему настоянию все земли и строения, которые за прошедшие десятилетия захватили галилеяне, должны быть возвращены приверженцам истинной веры. Я понимаю, какие меня ждут неприятности, но другого выхода нет. Я готов ко всему.
22 февраля я издал эдикт, согласно которому бесплатно пользоваться почтовыми лошадьми может только император. Дело в том, что постоянные разъезды епископов за казенный счет просто развалили всю транспортную систему. (Примечание: здесь перечислить все эдикты и назначения этого года. Правда, документы хранятся в государственном архиве, но уточнить не мешает.) Между тем я намерен коснуться лишь главных событий первых шести месяцев своего пребывания в Константинополе.
В конце февраля я чисто случайно узнал, что в городе находится Веттий Агорий Претекстат с супругой. Это вождь римских сторонников эллинской веры, а его жена, Акония Паулина, допущена ко всем таинствам, доступным ее полу, и, кроме того, посвящена в сан верховной жрицы Гекаты. Мне очень хотелось с ними встретиться.
Претекстат невысок ростом, хрупкого телосложения, у него тонкие черты лица и волнистые седые волосы. Его супруга несколько выше, чем он, лицо у нее красное, фигура мощная, – словом, она чем-то напоминает галльских женщин, хотя на самом деле чистокровная римлянка. Оба они просто в восторге от моих усилий, особенно Акония Паулина.
Наш храм Гекаты стало посещать множество людей, просто поразительно! И все благодаря тебе, государь. Подумать только, еще в прошлом году в Риме с трудом можно было найти желающих посвятиться в таинства Гекаты, а теперь… мне пишут из Милана, Александрии, Афин… отовсюду – женщины стекаются к нам толпами. По количеству новообращенных нас опережает только культ Изиды. Я чту Изиду и сама посвящена в ее таинства второй ступени, но, по-моему, к Гекате всегда тянулись более знатные женщины. Я искренне надеюсь, что нам будет позволено открыть в Константинополе храм.
– Не сомневайся! Откроем! – Я был в восторге. – Я желаю, чтобы в моей столице были храмы всех богов мира!
Акония Паулина вся просияла, а ее муж сдержанно улыбнулся:
– Каждый день, встав ото сна, мы возносим молитвы за преуспеяние начатого тобой дела.
– Мы просидели вместе не меньше часа. Это был настоящий праздник единения душ. Только посвященные в таинства могут понять, что это такое. Наконец я перешел к делу.
– Если мы хотим победить галилеян, нам нужно просто-напросто создать такую же организацию, какая существует у них.
Претекстат встретил эти слова с сомнением:
– Мы в Риме много об этом говорили. Истинная вера в римлянах еще крепка, в большинстве своем они настроены против христиан, а сенат, конечно, целиком и полностью поклоняется древним богам. – Претекстат помолчал; он перевел взгляд на окно, будто желал в грозовых тучах, надвигающихся с моря, узреть самого Зевса. – Но видишь ли, Август, мы, в отличие от галилеян, не представляем собой единого братства и поклоняемся разным богам. Каждый из нас избирает их лишь по своей доброй воле. Мы не получаем поддержки от государства…
– Теперь получаете.
– Теперь – да, но не слишком ли поздно? Кроме того, наша религия – во всяком случае, ее таинства – апеллирует к отдельной личности, каждый проходит посвящение в одиночку. Именно так происходит в Элевсине, где душа человека заглядывает в вечность.
– Но тем не менее все посвященные чувствуют себя братьями! Взять хотя бы нас – братьев в Митре…
– Но это совсем не то же самое, что христианская община, где каждый шаг паствы направляют священники, которых власть и богатство интересуют не менее религии.
– Согласен. – Я похлопал ладонью по документам, лежавшим на столе. – И я предлагаю бить наших врагов их же оружием. Я намерен объединить все жречество мира и поставить во главе его великого понтифика. Подобно галилеянам, мы разделим империю на административные единицы, и в каждой епархии будет существовать стройная система соподчинения жрецов, возглавляемых верховным жрецом, который будет подчиняться непосредственно мне.
Предложенное произвело сильное впечатление. Акония Паулина поинтересовалась, все ли конфессии войдут в жреческую корпорацию. Да, ответил я: люди должны иметь право поклоняться любому богу и богине, в каком бы обличье они ни являлись людям и как бы странно ни звучало их имя, ибо многообразие свойственно нашему миру. Все люди, даже галилеяне с их запутанным учением о Троице, верят в то, что на свете существует единое божество, от которого исходит все сущее, земное и небесное, и которому оно возвращается. Нам не дано постигнуть этого демиурга, хотя его материальное воплощение есть солнце. Однако он общается с нами при помощи посредников, будь то боги или смертные, благодаря им нам дано познать некоторые его ипостаси и подготовиться к следующему этапу наших странствий. "Трудно найти отца и создателя всего сущего, а найдя, нельзя его назвать", – справедливо заметил Сократ, но Эсхил, с другой стороны, не менее мудро изрек: "Люди ищут бога и, ища, его обрящут". Этот поиск бога и его познание суть конечная цель всех философских учений и религиозных обрядов, меж тем как один из догматов нечестивых галилеян гласит, что все поиски кончились три сотни лет тому назад, когда молодого раввина казнили за государственную измену. Впрочем, согласно Павлу из Тарса, Иисус не был простым раввином или даже мессией, то был сам Единый Бог, воскресший из мертвых, дабы вершить немедленный суд над живыми. Говорят, Иисус даже обещал своим последователям, что некоторые из них доживут до Судного дня. Но вот все его ученики в соответствии с естественным ходом вещей один за другим покинули сей мир, а мы все ждем, когда же он исполнит свое обещание. Епископы между тем приумножают свои богатства, грызутся между собой – словом, наслаждаются жизнью… а государство тем временем слабеет, и варвары на рубежах империи, подобно стае голодных волков, дожидаются, пока мы зашатаемся от слабости и наконец падем. Я вижу это так же ясно, как свою руку, которая пишет эти строки (эти мысли я не могу доверить секретарю). Мое предназначение – остановить накренившуюся колесницу фаэтона, готовую упасть на солнце.








